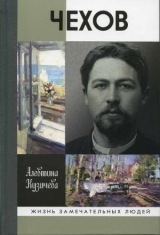
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 71 страниц)
Истоки благополучия – обилие земли, большие участки, не сравнимые с крестьянскими наделами в России и других сахалинских селениях, около четырех десятин. И все-таки… все-таки… Даже земля не удерживала…
Многие уезжали на материк, когда приходило разрешение на поселение в Сибири. Они получали право жить в городе или деревне, но не могли вернуться на родину. Эта возможность появилась у крестьян из ссыльных только в 1888 году. До того они обрекались на вечное пребывание на каторжном острове, что множило самоубийства, побеги, преступления. И усиливало ненависть к проклятому месту.
Пожизненность наказания вообще казалась Чехову, как он писал, «несправедливой и в высшей степени жестокой», угнетающей общественную совесть. И на это он хотел обратить особое внимание. Но надеялся ли быть услышанным? Убедить, что «жизненность и процветание колонии зависят не от запрещений или приказов, а от наличности условий, которые гарантируют покойную и обеспеченную жизнь, если не самим ссыльным, то хотя их детям и внукам». А условий не было. И вообще – хотелось уехать. Чехов рассказывал: «В Дубках один крестьянин-картежник на вопрос, поедет ли он на материк, ответил мне, глядя надменно в потолок: „Постараюсь уехать“».
Постепенно становилось понятным, что гонят с Сахалина, как подчеркнул Чехов, «сознание необеспеченности, скука, постоянный страх за детей… Главная же причина – это страстное желание хотя бы перед смертью подышать на свободе и пожить настоящею, не арестантскою жизнью».
Но каторга не отпускала никого окончательно. Если бывший каторжный вел себя на материке дурно, то его могли выслать на Сахалин и уже без права возврата.
Чехов, переполненный впечатлениями от переписи, от поездок по Северному Сахалину, вероятно, боялся придать своим выводам слишком личный характер. Он как-то сказал Суворину: «Термин „тенденциозность“ имеет в своем основании именно неуменье людей возвышаться над частностями». Свои наблюдения он порой предварял ссылками на научные труды, на объективные данные, облекая их потом в психологические умозаключения.
Например, метеорологические данные и рассказ о погоде в Александровском округе, непостоянной, дождливой, без солнца и тепла, Чехов завершил словами: «Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди стали жестокими и многие добряки и слабые духом, не видя по целым неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь».
После Дуэ он осматривал Тымовский округ. Всё та же бедность, избы с забитыми или невставленными окнами, скука, праздность. И всюду земля, мало пригодная для земледелия. Дороги плохие или их нет вообще. Жизнь подчинялась случайностям и бездумным действиям администрации, сводившей всё на нет. Даже там, где жизнь могла бы теплиться и быть сносной.
Как и в предыдущих случаях, Чехов передал свое настроение в описании природы и в рассказе о тайге. В ней прорубили просеку для будущей дороги – всюду груды поваленных деревьев, валежник, кочки, ямы с водой: «Проехать невозможно ни на колесах, ни верхом. Бывали случаи, что при попытках проехать верхом лошади ломали себе ноги». Может быть, эта ужасная дорога в том числе переменила решение Чехова добираться до Южного Сахалина по суше.
Чехов опять заходил в избы. Поселенцы готовы были развеять скуку, поговорить с приезжим человеком. Они производили впечатление лишних, ненужных, «не живущих и не мешающих другим жить». В одну из дождливых ночей в Дербинском, где Чехова поместили в новом пустом амбаре, построенном возле тюрьмы, он услышал странные звуки: «С вечера часов до двух ночи я читал или делал выписки из подворных описей и алфавита. <…> Было спокойно и в амбаре и у меня на душе, но едва я тушил свечу и ложился в постель, как слышались шорох, шёпот, стуки, плесканье, глубокие вздохи… Капли, падавшие с потолка на решетки венских стульев, производили гулкий, звенящий звук, и после каждого такого звука кто-то шептал в отчаянии: „Ах, Боже мой, Боже мой!“»
Утром Чехов увидел на улице толпу каторжных. Оборванных, вымокших, продрогших. Они просились в больницу. Смотритель отгонял их. Чехову показалось, что его ночной кошмар не кончился: «Приходит на ум слово „парии“, означающее в обиходе состояние человека, ниже которого уже нельзя упасть. За всё время, пока я был на Сахалине, только в поселенческом бараке около рудника да здесь, в Дербинском, в это дождливое, грязное утро, были моменты, когда мне казалось, что я вижу крайнюю, предельную степень унижения человека, дальше которой нельзя уже идти».
Чехов не раз упоминал свои сахалинские ночи. То кошмарные, как в Дербинском, то странные, как в Палеве, когда он смотрел на звездное небо, ощутил вдруг, как далеко он от дома, на другом конце света, «где не помнят дней недели, да и едва ли нужно помнить, так как здесь решительно всё равно – среда сегодня или четверг…». Он понимал настроение человека, вынужденного годами жить в невыразимой бедности, слышать постоянно звон цепей, плач и стоны из надзирательской, когда там наказывали розгами и плетьми. Не видеть месяцами солнца и не знать тепла и видеть вокруг тайгу или пустынное море: «Время <…> кажется длиннее и мучительнее во много раз, чем в России».
Всё это и многое другое побуждало каторжных к побегу. А главная причина, по словам Чехова, это – «стремление к свободе, присущее человеку и составляющее, при нормальных условиях, одно из его благороднейших свойств». Он рассказал о старом ссыльнокаторжном, который убегал таким образом: «<…> берет кусок хлеба, запирает свою избу и, отойдя от поста не больше как на полверсты, садится на гору и смотрит на тайгу, на море и на небо; посидев так дня три, он возвращается, берет провизию и опять идет на гору… Прежде его секли, теперь же над этими его побегами только смеются».
Тоску по свободе Чехов сравнил с запоем или падучей, с неотвратимым припадком, то есть с болезненным состоянием. Человека угнетало, убивало сознание, что он мертв для своих родных, своего дома. Поэтому побег, замысел побега, мечта о побеге обнаруживали в человеке, по словам Чехова, «не засыпающее в нем сознание жизни». Однажды он увидел баржу, набитую беглыми: «<…> одни были мрачны, другие хохотали; у одного из них совсем не было ног – отморозил. Их возвращали из Николаевска. Глядя на эту кишащую народом баржу, я мог вообразить, сколько еще каторжных бродит по материку и по острову!» Люди бродили, замерзали, погибали. На население бродяги наводили ужас, потому что, спасаясь, шли на грабеж, убийство. Но мучительные наказания плетьми не снижали числа побегов.
В конце августа 1890 года Чехов вернулся в Александровск, чтобы морем добраться до Южного Сахалина. Словно довершая его впечатления первых двух месяцев сахалинской эпохи, на предотъездные дни (кроме обедов со знакомыми, встреч и разговоров с чиновниками) выпала еще одна горькая минута.
8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, Чехов и его спутник вышли после обедни из церкви. В храм спешила похоронная процессия. Четверо каторжных несли на носилках гроб. Следом шли женщина с двумя детьми и еще несколько человек. Видел Чехов и сами эти похороны на местном кладбище. Простой некрашеный дощатый гроб спустили в могилу с водой. Мальчик Алешка, сын покойной, трех-четырех лет, «стоит и глядит вниз в могилу. Он в кофте не по росту, с длинными рукавами, и в полинявших синих штанах; на коленях ярко-синие латки». Его спросили, где мать. «3-а-копа-ли! – сказал Алешка, засмеялся и махнул рукой на могилу».
Вокруг – маленькие «немые» кресты, всех этих, «убивавших, бряцавших кандалами, никому нет надобности помнить».
* * *
10 сентября на том же пароходе «Байкал» Чехов отплыл из Александровска: «Было очень темно. Я стоял один на корме и, глядя назад, прощался с этим мрачным мирком <…> показались огни Дуэ. Но скоро и это всё исчезло, и остались лишь потемки да жуткое чувство, точно после дурного, зловещего сна». Он уловил выражение глаз у тех, кто его провожал. Они и сами признавались, что завидуют ему: через месяц он уедет в Россию, а они останутся в этом «мирке», который показался Чехову «маленьким адом».
За всё время на Сахалине Чехов давал о себе знать на материк только редкими телеграммами. Сообщал, что здоров, что вернется осенью. О том, что происходило дома, в России, в Москве, он не знал. Водевили его шли без конца на любительской сцене и в дачных театрах. Пьесу «Леший» изредка, но ставили в провинции. Переводы рассказов Чехова всё чаще появлялись в европейских журналах. Очерки «Из Сибири», несмотря на летнее затишье, вызвали толки среди литераторов.
24 июля 1890 года В. А. Тихонов записал в дневнике: «Какая могучая, чисто стихийная сила – Антон Чехов. Кигн как-то мне сказал про него: „Да, с ним хорошо, он подбадривает, за ним не страшно!“ Уж подлинно, что не страшно. Вот он теперь уехал на Сахалин и пишет с дороги свои корреспонденции, прочтешь и легче станет: не оскудели мы, есть у нас талант, сделавший честь всякой бы эпохе. <…> Публика его знает, но чтит еще мало, далеко не по заслугам. <…> А сколько завистников у него между литераторами завелось: Альбов, Шеллер, Голицын, да мало ли! <…> А некоторые из них, например мой брат, мне просто ненавистен за эту зависть и вечное хуление имени Чехова. <…> Но кто мне всех противнее в этом отношении, так это И. Л. Леонтьев (Щеглов): ведь в самой преданной дружбе перед Чеховым рассыпался, а теперь шипеть из-за угла начал. Бесстыдник! <…> Вот Ясинский не то, – он, может быть, и завидует, но не высказывает. Умнее он их или у него выдержки больше, – не знаю».
В типографии Суворина тем летом выпустили четвертым изданием сборники «Рассказы» и «В сумерки» (по 1000 экземпляров каждый). 11 сентября, на борту парохода, Чехов написал письмо Суворину, даже не гадая, когда это послание доберется до Петербурга. Написал осторожно, не исключая, что письмо могут вскрыть. Но, видимо, не мог оставаться наедине с увиденным. Рассказал о главном: «Ни Галкин, ни баронесса Выхухоль, ни другие гении, к которым я имел глупость обращаться за помощью, никакой помощи мне не оказали; пришлось действовать на собственный страх. <…> Я видел всё; стало быть, вопрос теперь не в том, чтоя видел, а каквидел. <…> Я вставал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною многое еще не сделано <…> я имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым <…> мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. <…> Когда вспоминаю, что меня отделяет от мира 10 тысяч верст, мною овладевает апатия. Кажется, что приеду домой через сто лет».
Слово «скучно» в приписке и признание – «дал себе слово больше на Сахалин не ездить» – выдавали физическую и душевную усталость. Она могла вызвать кровохарканье. Но Чехов словно удерживал болезнь каким-то внутренним усилием. Впереди был еще месяц напряженного труда. Правда, Чехов признался, что из-за усталости работал теперь менее усердно. Опять потянулись селение за селением, изба за избой, общие камеры, лазареты. Прибыв в Корсаковск 12 сентября, Чехов в первые же дни осмотрел здешнюю тюрьму. Такие же, как на севере, сырые камеры, тяжелый воздух. Смотритель более всего гордился пожарным обозом. Показал новому человеку свое «чудо»: по сигналу тревоги каторжные, старые и молодые, впряглись в обоз и побежали по улице.
Южные селения показались Чехову иными, чем на севере. Нищета не бросалась в глаза. Люди выглядели менее истощенными и подавленными. В описаниях этих мест гораздо больше бытовых историй, фамилий, коротких зарисовок, похожих на сжатые сюжеты, мгновенных портретов, ситуаций, деталей. Например, о «сахалинской Гретхен», дочери поселенца Тане: «Она белокура, тонка, и черты у нее тонкие, мягкие, нежные. Ее уже просватали за надзирателя. Бывало, едешь через Мицульку, а она всё сидит у окна и думает. А о чем может думать молодая, красивая девушка, попавшая на Сахалин, и о чем она мечтает, – известно, должно быть, одному только Богу».
Или о старике Савельеве, стороже в надзирательской, каторжном, который, когда здесь ночевали чиновники, служил за лакея и повара: «Как-то, прислуживая за обедом мне и одному чиновнику, он подал что-то не так, как нужно, и чиновник крикнул на него строго: „Дурак!“ Я посмотрел тогда на этого безответного старика и, помнится, подумал, что русский интеллигент до сих пор только и сумел сделать из каторги, что самым пошлым образом свел ее к крепостному праву».
В селении Голый Мыс Чехов присутствовал при допросе Гараниной, подозреваемой в убийстве мужа. Ее, женщину свободного состояния, держали в темном карцере и давали горячую пищу через два дня на третий. Она пожаловалась, что ее, больную, не хотят показать доктору: «Когда чиновник спросил у надзирателя <…> почему до сих пор не позаботились насчет доктора, то он ответил буквально так:
– Я докладывал господину смотрителю, но они сказали: пусть издыхает!
Это неуменье <…> отличать свободных от каторжных удивило меня тем более, что здешний окружной начальник кончил курс по юридическому факультету, а смотритель тюрьмы служил когда-то в петербургской полиции». Видимо, Чехов обратил на это внимание начальника Корсаковского округа И. И. Белого, когда они вместе осматривали карцеры. Гаранину перевели в светлое помещение.
Чехову приходилось встречаться со многими сахалинскими чиновниками. Добряки и злыдни, глупые и себе на уме. Благородные и непорядочные, равнодушные и энергичные, неопытные и доки. Участники IV тюремного конгресса выработали условия допущения к службе в местах заключения. Кандидаты на высшие должности должны были, по мнению юристов и чиновников, пройти курс истории и теории тюрьмоведения, изучить «все подробности тюремной службы под руководством начальников образцовых мест заключения». От кандидатов на низшие должности требовался опыт тюремной службы под руководством опять-таки «образцовых» начальников. Так дело выглядело на бумаге, в представлениях не «философов», а людей, о которых на конгрессе было сказано, что они досконально знают действительность. И в том «Обзоре», на который Галкин-Враской ожидал рецензии от Чехова. Скрытая «рецензия» была дана в книге «Остров Сахалин», явившей реальность каторги.
В тюрьмах и селениях Чехов перевидел множество надзирателей и смотрителей. И пресловутых «красноносых», о которых писал Суворину накануне поездки и на которых общественное мнение сваливало все злоупотребления каторги. И таких, кто на любой вопрос отвечал – «Не могу знать, ваше высокоблагородие!» – потому что знал лишь свои несложные обязанности. И людей, пристрастных к розге. И тех, кто тосковал на Сахалине по родине. Чехов слышал рассказы о тюремных смотрителях, убитых каторжанами за жестокость: «И теперь встречаются чиновники, которым ничего не стоит размахнуться и ударить кулаком по лицу ссыльного, даже привилегированного, или приказать человеку, который не снял второпях шапки: „Пойди к смотрителю и скажи, чтобы он дал тебе тридцать розог“».
В эти годы на Сахалине преобладали чиновники молодого и среднего возраста. Некоторые, как А. М. Бутаков, начальник Тымовского округа, показались Чехову дельными, заботливыми. О ком-то он отозвался с нескрываемой симпатией, например о Д. А. Булгаревиче, чиновнике из канцелярии начальника острова. Чехов поселился у него в Александровске и жил до отъезда в Корсаковск. Выпускник духовной семинарии, человек добрый, сердобольный, он много рассказывал о сахалинской жизни. В частности о школах, которыми он заведовал, но лишь официально, так как они находились в руках чиновников на местах. По общему мнению, школы влачили жалкое существование. Преподавали в них не учителя, а грамотные ссыльные за мизерное жалованье.
Может быть, от него Чехов слышал о нравах сахалинской канцелярии, которые назвал «капризами». Из-за бестолковости, неопытности, разгильдяйства писарей, различных младших чиновников поселенец мог оставаться таковым и после десятилетнего срока, а не становился крестьянином из ссыльных. Старики жаловались, что так и не получили положенного звания. К тому же в одном округе это звание давали на одних условиях, а в другом на иных. Чехов иронизировал: «Если новый окружной начальник потребует от поселенцев железных крыш и уменья петь на клиросе, то доказать ему, что это произвол, будет трудно».
Слышанное и виденное постепенно обнажало механизм чиновничьей жизни на всех ее ступенях. Движущая сила – взятка, подкуп. Карты, пьянство, разврат, тайные ссудные кассы в тюрьмах – всё это процветало благодаря повсеместному подкупу. Деньги «отменяли» любые правила, указы, уставы, инструкции и скрывали любые проступки и преступления. Другая сила – это воровство. Крали всё и всюду, кто что мог и умел. Оно, как картежная игра, ростовщичество, бражничество и блуд, господствовало среди арестантов, смотрителей и чиновников. Данные из «Ведомости о приходе и расходе медикаментов…» Чехов подытожил невеселой усмешкой: «Всего, не считая извести, соляной кислоты, спирта, дезинфекционных и перевязочных средств <…> потрачено шестьдесят три с половиной пуда лекарств; сахалинское население, стало быть, может похвалиться, что в 1889 году оно приняло громадную дозу».
Еще один бич – бесконтрольность, отсутствие профессионалов и полное пренебрежение к человеку. Чехов упомянул тоннель, прорытый на дороге из Александровска в Дуэ: «Рыли его, не посоветовавшись с инженером, без затей, и в результате вышло темно, криво и грязно. Сооружение это стоило очень дорого, но оно оказалось ненужным <…> заведующие работами катались по рельсам в вагоне с надписью „Александрова – Пристань“, а каторжные в это время жили в грязных, сырых юртах, потому что для постройки казарм не хватало людей». Особенно зримо это общее свойство сахалинской жизни открылось Чехову-врачу в лазарете: «Кровати деревянные. На одной лежит каторжный из Дуэ, с перерезанным горлом <…> слышно, как сипит воздух. <…> Повязки на шее нет; рана предоставлена себе самой. <…> У хирургических больных повязки грязные, морской канат какой-то, подозрительный на вид, точно по нем ходили. Фельдшера и прислуга недисциплинированны, вопросов не понимают и производят впечатление досадное. Один только каторжный Созин, бывший на воле фельдшером <…> своим отношением к делу не позорит бога Эскулапа».
Чем болели и от чего чаще всего умирали на острове? От чахотки. Диагноз Чехова звучал так: «Суровый климат, всякие лишения, претерпеваемые во время работ, побегов и заключения в карцерах, беспокойная жизнь в общих камерах, недостаток жиров в пище, тоска по родине – вот главные причины сахалинской чахотки». Далее он назвал сифилис, цингу, скрытое, невыявленное безумие, желудочно-кишечные заболевания, травмы. На весь остров имелись три врачебных пункта и бараки для больных.
В один из дней Чехов вел амбулаторный прием в Александровском лазарете. У двери стоял надзиратель с револьвером. Врача и больного разделял стол с деревянной решеткой, как в банкирской конторе: «Приводят мальчика с нарывом на шее. Надо разрезать. Я прошу скальпель. Фельдшер и два мужика срываются с места и убегают куда-то, немного погодя возвращаются и подают мне скальпель. Инструмент оказывается тупым <…> приносят еще один скальпель. Начинаю резать – и этот тоже оказывается тупым. <…> Ни таза, ни шариков ваты, ни зондов, ни порядочных ножниц, ни даже воды в достаточном количестве». Зато огромное число прислуги, «больничная толпа», снующая, изображающая работу, равнодушная к больным.
Не осуждая и не оправдывая установившиеся на Сахалине неписаные законы жизни, Чехов искал первопричины и объяснение: «В прежнее время на каторге служили по преимуществу люди нечистоплотные, небрезгливые, тяжелые, которым было всё равно, где бы ни служить, лишь бы есть, пить, спать да играть в карты; порядочные же люди шли сюда по нужде и потом бросали службу при первой возможности, или спивались, или же мало-помалу обстановка затягивала их в свою грязь, подобно спру[ту-осьминогу], и они тоже начинали красть, жестоко сечь…»
Скука и тоска обволакивали, как туман, и действовали на всех. Сахалинские солдаты скучно пели веселые песни. Всего их в 1890 году было на острове 1548 человек. Тяжесть их труда порой равнялась бремени каторжных и поселенцев. В массе своей, не нужные ни каторжному делу, ни воинской службе, они превращались не то в лакеев при чиновниках, не то в пособников и участников тюремного воровства, произвола, торговли спиртным, побоев. Их часто назначали тюремными надзирателями. В их квартирах Чехов видел малолетних сожительниц: «Войдешь в квартиру надзирателя; он, плотный, сытый, мясистый, в расстегнутой жилетке и в новых сапогах со скрипом, сидит за столом и „кушает“ чай; у окна сидит девочка лет 14 с поношенным лицом, бледная. Он называет себя обыкновенно унтер-офицером, старшим надзирателем, а про нее говорит, что она дочь каторжного, и что ей 16 лет, и что она его сожительница».
Старшие по чину и чиновники презирали солдат, помыкали ими, а они отыгрывались на каторжных, на всех, кто слаб, беззащитен, бесправен. Все жили в общей атмосфере, проникавшей всюду, влиявшей, как погода, неотвратимо и пагубно. Защитой не служили ни стены хороших казенных квартир, ни отдаленность селения от центра округа. Даже прямо не участвуя в сахалинском «домострое», человек испытывал его воздействие на свои мысли, настроение. Он видел, он знал, он заражался общим воздухом.
Сахалинское «общество» в целом показалось Чехову разнообразным. Чиновники, осведомленные о встречах Чехова с Корфом и Кононовичем, встречали его радушно. Для многих это была возможность беседы с известным литератором, человеком с материка, из другого мира. В их рассказах о себе, о каторге Чехов уловил общее раздражение. Оно проявлялось иначе, чем у «несчастных», но тоже разрушало. Чехов заметил, что они и их домашние расположены к чахотке, нервным расстройствам, психическим заболеваниям.
Чехов запомнил свое настроение на берегу Охотского моря в те сентябрьские дни 1890 года: «Море на вид холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: „Боже, зачем ты нас создал?“ <…> Налево видны в тумане сахалинские мысы, направо тоже мысы… а кругом ни одной живой души, ни птицы, ни мухи, и кажется непонятным, для кого здесь ревут волны, кто их слушает здесь по ночам, что им нужно и, наконец, для кого они будут реветь, когда я уйду. Тут на берегу овладевают не мысли, а именно думы; жутко и в то же время хочется без конца стоять, смотреть на однообразное движение волн и слушать их грозный рев».
Шли последние дни сахалинской «эпохи» Чехова. Все ответы на главные вопросы он получил. История Сахалина – его изучения, освоения моряками, врачами, агрономами, путешественниками была особой историей. Ее, по мнению Чехова, делали не великие полководцы и не знаменитые дипломаты, а люди маленькие. О судьбах отдельных – за их труд и подвижничество – он готов был сказать: «это житие святых».
Чехов рассказал о миссионерах и священниках, о легендарной личности, отце Симеоне Казанском. Поп Семен, как его называло население, остался в памяти ссыльных и солдат человеком, который судил о каторжных так: «Для Создателя мира мы все равны». По полному бездорожью в любую погоду он передвигался по сахалинской «пустыне» на собаках и оленях, пешком через тайгу, летом по морю на парусной лодке: «<…> он замерзал, заносило его снегом, захватывали по дороге болезни, донимали комары и медведи <…> но всё это переносил он с необыкновенной легкостью, пустыню называл любезной и не жаловался, что ему тяжело живется». Чехов слышал рассказы о самоотверженных людях, вроде фельдшерицы, служившей на Сахалине с надеждой и верой – помочь несчастным людям. Не вина подвижников, людей долга, призвания, что Сахалин не превратился в процветающий край, а стал «местом временного водворения».
Вольная и принудительная колонизация Сахалина не дала ожидаемых результатов – люди при любой возможности покидали остров. Вместе с детьми, участь которых на Сахалине произвела на Чехова гнетущее впечатление и стала в его повествовании одной из самых безотрадных нот. Рождение младенца в семье ссыльного встречалось, по словам Чехова, «неприветливо»: «над колыбелью ребенка не поют песен и слышатся одни только зловещие причитывания. Отцы и матери говорят, что детей нечем кормить, что они на Сахалине ничему хорошему не научатся, и „самое лучшее, если бы Господь милосердный прибрал их поскорее“. Если ребенок плачет или шалит, то ему кричат со злобой: „Замолчи, чтоб ты издох!“».
И все-таки, по наблюдениям Чехова, «дети часто составляют то единственное, что привязывает еще ссыльных мужчин и женщин к жизни, спасает от отчаяния, от окончательного падения». Дети, несмотря на свою непорочность, «больше всего на свете любят порочную мать и разбойника отца». Но общий воздух острова отравлял всех: «Дети провожают равнодушными глазами партию арестантов, закованных в кандалы; когда кандальные везут тачку с песком, то дети цепляются сзади и хохочут. Играют они в солдаты и в арестанты. <…> Сахалинские дети бледны, худы, вялы; они одеты в рубища и всегда хотят есть». Едва девочке исполнялось 13–14 лет, она становилась проституткой или сожительницей: «или их продают отец и мать – с голода, рассуждая, что чистота нужна только богатым, или же девочек развращают на стороне мужчины, имеющие чины».
Положение сахалинских детей Чехов назвал «необычайным», то есть исключительным, какого более нигде нет: «Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки с 12 лет, иногда до наступления менструаций. Церковь и школа существуют только на бумаге, воспитывают же детей среда и каторжная обстановка».
В начале октября 1890 года Чехов завершал свои дела. Собирал бумаги, укладывался. Кажется, не верил, что кончился его каторжный труд.
13 октября он поднялся на борт парохода Добровольного флота «Петербург». Ночью «Петербург» вышел в Японское море.








