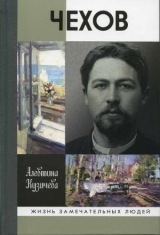
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 71 страниц)
Лидия, по рассказам соседа-помещика, «была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет». На всё остальное – содержание имения (кажется, в две тысячи десятин), работников, прислуги, на туалеты матери и сестры, на их заграничное путешествие – у семьи Волчаниновых были «хорошие средства», оставленные покойным главой семьи, умершим «в чине тайного советника». Так что 25 рублей Лидии – это то, что называлось, ей «на булавки», да и то мало.
Такое «торопливое», дилетантское, между прочих дел, исполнение «долга» перед народом Чехов наблюдал в Бабкине, где «лечила» крестьян милейшая Мария Владимировна Киселева. И в Сумах, где «учила хохлят» добрейшая Наталья Михайловна Линтварева. И в Мелихове, где Чехову иногда, между другими хозяйственными делами, помогала на приемном медицинском пункте аккуратнейшая Мария Павловна.
Тяжелый труд коллег Чехова, земских врачей Серпуховского уезда, оказывался бессилен перед громадой, называемой – деревенская Россия. Одни становились равнодушными. Другие превращались в корыстолюбцев. Но многие и многие честно тянули лямку. В их формулярных, то есть послужных списках, часто причиной отставки значилось – «по расстроенному здоровью».
Выходцы из мещан, из обер-офицерских детей, они, вместе с земскими учителями, земскими статистиками, составляли как наемные земские служащие так называемый «третий элемент», в отличие от членов и гласных земской управы. В среднем земский врач получал около тысячи рублей в год. Чтобы прокормить семью, врачи искали дополнительный заработок. Российские дороги, одиночество, оторванность от больших городов утомляли физически и нравственно. Лечебная «практика» доброхотов из дворянского сословия, лечивших по популярным медицинским книжкам, часто оставалась барской забавой, зависящей от настроения и обстоятельств «лекаря».
С рассказом Чехова «Дом с мезонином» произошло после его появления нечто сходное с рассказом «Припадок», с повестью «Палата № 6». Критики и читатели спорили с автором и друг с другом в основном по одному поводу: прав или не прав рассказчик. То есть сводили спор героев и свои впечатления к теории «малых дел», «служения ближнему» и другим злободневным вопросам. Психологическая и поэтическая подоплека событий, природа мнений и споров остались незамеченными.
В 1888 году читатели упрекали Чехова в том, что припадок Васильева («Припадок») не мотивирован. Григорович тогда написал Чехову, что это обвинение «объясняется небрежностью читателя, который – как это сплошь и рядом бывает – только перелистывает книгу, следя за сюжетом и не давая себе труда вникнуть в суть дела; или же просто недостатком верного литературного чутья». Суть же дела, по словам Григоровича, не в Васильеве, а «в высоком человечном чувстве», освещающем всё повествование. В настроении, «разлитом» в рассказе. В деталях, передававших это чувство.
Среди таких счастливо выбранных Чеховым деталей и образов, передававших чувство, которое освещало всё в рассказе «Дом с мезонином», – это не раз упомянутый зеленый цвет («зеленые ивы», «зеленый сад», «зеленый огонь лампы», «зеленая озимь»). Свет лампы упомянут в финале рассказа: «Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того, ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся…
Мисюсь, где ты?»
Давний критик Чехова Скабичевский, неустанно читавший его, теперь уже не сулил Чехову как литератору печальной «подзаборной» участи из-за многописания в газетах. Правда, тогда, в 1886 году, ревнитель строгого вкуса заметил, что молодой автор «Пестрых рассказов» «не говорит таких возмутительных пошлостей и глупостей, какие весьма нередко можно встретить на столбцах газет, в которых он сотрудничает». Но теперь их говорил сам Скабичевский. В обзоре «Больные герои больной литературы» он ввел героя рассказа, художника, в толпу «представителей общественного индифферентизма», «теоретиков чистого искусства», «метафизиков», «мистиков и декадентов». Это всё, имея в виду споры рассказчика с Лидией. Что же до его поведения с Мисюсь, то тут он, по мнению строгого критика, что-то ужасающее по безнравственности.
По его выражению, герой «улавливал» в свои сети «наивного подросточка», «ребенка» 16–17 лет. А чувство к Жене это – «блажная прихоть праздного эротомана», «чистопробного психопата». И никаких «серьезных видов на девочку», по словам Скабичевского, у художника не было, иначе он поехал бы за ней в Пензенскую губернию, которая «не за океаном» и там «мог бы беспрепятственно сочетаться с Женею узами брака».
При таком толковании обессмысливался даже спор о злободневных «аптечках» и «библиотечках». И оставались без внимания беседы художника с Женей, его монологи о Боге, о вечной жизни, о чудесном, о бессмертии, об искании правды и смысла жизни.
Исчезала беспокойная мысль и не угадывалось тяжелое чувство, томившее рассказчика и так напугавшее Лидию: «У ученых, писателей, художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и всё клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла <…>. И я не хочу работать и не буду… Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!» Тревога о самоистреблении людей, об уничтожении природы, о подчинении человека «потребностям тела», кажется, оказалась незамеченной, неуслышанной.
Всё это будто незримо сопряжено с мыслями и чувствами героев уже известных читателям «Палаты № 6», «Черного монаха» и еще неизвестной «Чайки». Созвучно пьесе молодого, одинокого Константина Треплева. Странного монолога «мировой души», словно взирающей откуда-то из мироздания уже после того, как всё сущее провалилось в тартарары, в ад, преисподнюю: «Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно». На земле блуждают только «бледные огни», рожденные гнилым болотом, «без мысли, без воли, без трепетания жизни». А дьявол с «багровыми глазами» не хочет нового возникновения жизни на земле, и ей суждено превратиться в пыль, как и луне и светлому Сириусу.
В последней главе рассказа «Дом с мезонином» тонкая связь с «Чайкой», с мистерией Треплева, может быть особенно выразительна: «На дворе было тихо <…> не было видно ни одного огонька. И только на пруде едва светились бледные отражения звезд. <…> Была грустная августовская ночь <…> покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля». В прощальном ночном разговоре художник говорил Жене о печальной судьбе земной цивилизации: «Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет – человечество выродится и от гения не останется ни следа».
Потом, простившись с Женей, он сидел на скамье и смотрел на дом, на окна мезонина: «Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад <…>. Становилось очень холодно».
Юная, доверчивая девушка со странным именем Мисюсь, словно галлюцинация, рожденная томительным настроением художника. Несколько раз о ней сказано – «тонкая», «бледная», «слабая», «сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки». Из объятий художника она будто ускользнула и растаяла в лунном свете – навсегда.
Кажется, что как Коврину («Черный монах») после лечения стало скучно жить, и он разорвал однажды всё написанное во время болезни, когда ему почудились в каждой строчке «странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, мания величия»; как художником («Дом с мезонином»), когда он узнал, что Женя уехала, овладело «трезвое будничное настроение» и ему «стало стыдно всего», что он говорил у Волчаниновых и «по-прежнему стало скучно жить» – так и Треплев, автор пьесы о «мировой душе» и рассказов, о которых опытный и успешный Тригорин говорит, что в них – «что-то странное <…> похожее на бред», – одинокий, потерянный, кончал жизнь самоубийством.
Уже третья пьеса Чехова завершалась выстрелом. Хотя он и говорил три года назад, что не примется за пьесу, пока не придумает иной «заковыристый» конец, чем банальное – «герой или женись или застрелись». Но стрелялись герои по-разному. Иванов («Иванов») – отбегал в сторону ото всех и застреливался на глазах невесты, ее отца и еще трех человек. Войницкий («Леший») – стрелялся за сценой, но в присутствии матери, которая выходила из средней двери и падала без чувств, а все остальные наоборот устремлялись в комнату, где раздался выстрел. Это было зрелищно и действовало на зрителей, особенно, наверно, на зрительниц.
Треплев – после встречи с по-прежнему любимой им Заречной, после последней попытки объясниться с ней, после ее признания, что брошенная Тригориным, схоронившая ребенка, она любит его «даже сильнее, чем прежде»… после ухода Заречной – молча, «в продолжение двух минут», рвал все свои рукописи. Бросал под стол и уходил во внутренние покои. Оттуда доносился звук выстрела. Доктор Дорн, узнав, что случилось, «тоном ниже, вполголоса» говорил Тригорину, отведя его в сторону ото всех: «Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился…» Никаких и ничьих криков, обмороков, выхватывания револьвера… «Чайка» кончалась тихо, «вполголоса»…
Зато обсуждение в гостиной Яворской оказалось громким, бурным. Чехов избывал эти впечатления работой над рассказом, в котором угадывались поездка летом к Левитану, разговоры с Сувориным.
Поверила ли Шаврова признанию Чехова о невесте или восприняла как шутку, но таящую что-то, адресованное ей лично? В это время, в самом конце 1895 года, ее отношения с Чеховым приобретали романический характер. Теперь она, замужняя женщина, жила в Петербурге. Барышня из «хорошего семейства» разделила общую участь, став женой перспективного столичного чиновника. Образ жизни оказался предсказуем: театры, домашние приемы с обязательной игрой в винт, с разговорами гостей об очередных повышениях по службе. Время убивалось чтением модных авторов. Елена Михайловна, пока бездетная, не нуждавшаяся в деньгах, очень много читала, покупала сочинения Шопенгауэра, французских символистов. Кое-что писала и печатала в газетах и журналах.
Как и для Авиловой, встреча с Чеховым, наверно, оказалась самым интересным и незабываемым событием, может быть, повлиявшим на ее не очень счастливую семейную жизнь. Она, судя по письмам, не хотела превращаться в красивое дополнение к карьере мужа. Но и на разрыв не хватало характера, а главное – куда бы она ушла? На сцену, как одна из ее сестер? Но способностей хватало только для участия в любительских спектаклях. В земские учительницы? Но никакого призвания Шаврова к этому занятию не чувствовала. Она скучала, уезжала под разными предлогами то в Москву к родным, то в Крым, то за границу. В Москве старалась задержаться подольше.
В декабре 1895 года Елена Михайловна призналась в письме Чехову, что ей хочется сделать что-то «безрассудное, разбить что-нибудь или влюбиться до чёртиков». И тут же оговаривалась: «Но, вероятно, я ничего подобного не сделаю, ибо меня воспитали в строгих правилах». Ничего, обещавшего сильное любовное чувство, Шаврова, видимо, не улавливала в письмах Чехова. Cher mâitre был доброжелателен, но строг в литературных советах, учтив в обращении. Однако что-то в «признании» Чехова насторожило Шаврову. Она написала в ответ: «…меня радует уже одна возможность того факта, что „дорогой учитель“ любил когда-то и что, значит, это земное чувство ему было доступно и понятно. Не делайте удивленного лица, но, право, мне почему-то кажется, что Вы слишком анализируете всё и вся для того, чтобы полюбить, т. е. быть ослепленным хотя на время».
Земное-неземное, грешное-чистое – не так говорили о своем чувстве герои пьесы «Чайка» и рассказа «Дом с мезонином», объединенные временем создания и настроением автора. Треплев не отделял своего чувства к Заречной от желания писать. Они взаимосвязаны в его сознании. Художник признавался в начале своего рассказа («Дом с мезонином»), что пребывал в «постоянной праздности». Потом, после встречи с Женей, понимал, что «победил ее сердце своим талантом», что ему хочется писать «только для нее», а без нее он «безнадежно одинок» и никому не нужен.
Было ли в этих переживаниях что-то близкое тому, о чем не раз Чехов говорил в своих письмах: желание жить и желание писать? Или тут иная неуловимая взаимосвязь и какое-то особое состояние одинокой души?
Утрата настроения, в котором и Треплев, и художник могли работать, уподоблена в пьесе и рассказе падению, разрыву, ощущению холода. Когда Чехов испытывал чувство тревоги, ему иногда снилось, будто кто-то из добрых знакомых падает в колодец, а он с кем-то вытаскивает злосчастного.
29 декабря 1895 года, поздравляя Суворина с Новым годом, с новым счастьем, Чехов о себе рассказал немного. О том, что в доме «толчется народ» и ему помешали закончить «Дом с мезонином». О том, что надо писать что-то новое, потому что «не работать» ему нельзя. А так как пишет он очень медленно, то зарабатывает «чёрт знает как мало».
Сообщил также, что в самом начале нового года приедет в Петербург, приехал бы и раньше, если бы не временное безденежье.
* * *
На что жило семейство в эти годы? По-прежнему исключительно на гонорары Чехова. В журнале «Русская мысль» ему платили по 200 рублей за печатный лист. В газете «Русские ведомости» тоже не баловали. На круг выходило немного. Постоянным источником оставался книжный магазин Суворина, где Чехов или Мария Павловна получали 200 рублей ежемесячно в счет продажи книжек. Чехов уже погасил долг и конторе «Нового времени», и лично Суворину: оставался банковский долг за заложенное имение. Бюджет был напряженный. Хватало лишь на текущие расходы. Никакого дохода от имения не предвиделось. Но себя обеспечивали зерном, овощами, припасами. Хлеб пекли свой, сметана и масло были тоже свои. В зиму забивали скот (барана, поросят), коптили. Говядину покупали в лавке. Сыр, кофе, чай, вино, колбасы, конфеты, печенье, рыбу, пиво, прованское масло, крупы, сахар, орехи, любимую домочадцами халву, изюм, сельди – всё это и многое другое привозили из Москвы. Закупали в гастрономическом магазине Андреева на Тверской. Многие современники запомнили, как радушно принимали у Чеховых, как вкусно угощали.
Хотя Чехов и шутил, что будет строчить, как Потапенко, но вездесущего «Игнатия-многописца» ему бы никогда не удалось догнать. Тот писал для всех журналов и газет, везде брал авансы. И подсмеивался: «Нет, Чехов, далеко тебе до Потапенко, так же как Потапенко далеко до Мачтета!» А плодовитый Мачтет мог бы сказать, что ему далеко до Боборыкина. Потапенко зарабатывал очень много, но умудрялся брать взаймы у Суворина, у Чехова. Жены, любовницы, игра, рестораны требовали расходов. Но Игнатий Николаевич не горевал, жил, будто по присловью – не унывает, что сбирает, унывает, мало подают. Он и Чехов были на «ты». Вероятно, меж ними сложилась мужская солидарность, замешанная на общих походах в публичные дома, на знании тайных романов друг друга. Потапенко в общении был простой, легкий человек.
Роман Потапенко и Мизиновой завершился еще до рождения их ребенка. Лидия Стахиевна, возможно, простила «бедному Игнатию» свои страдания в Париже, свое швейцарское одиночество и новое положение, которое еще предстояло открыть не только матери и узкому кругу знакомых, но бабушке, родне в Покровском. В январе 1896 года старушка Иогансон записала в дневнике: «Лидюша витает по своим знакомым». В этом же месяце, получив известие о женитьбе давнего поклонника внучки, доктора Балласа, сокрушалась: «А бедная моя Лидюша. Не исполнила мое желание соединения их, была бы славная парочка. Что делать, так уж судьба порешила».
В самом начале февраля 1896 года бабушка узнала о ребенке от самой внучки, приехавшей в Покровское: «Испытала ужасный удар, который меня в могилу сведет». Вряд ли ей открыли, кто отец Христины. Иогансон в эти дни прочла новую повесть Потапенко и восхищалась им: «Вот так писатель!» Старушка коротала свои дни чтением романов Сенкевича, беллетристики в «толстых» журналах. Теперь имя девочки не уходило со страниц ее дневника. Особенно с той поры, как Христину привезли в Покровское и оставили на попечении родных и няньки.
Чехов и Потапенко, видимо, объяснились еще поздней осенью 1895 года, так как Игнатий Николаевич написал тогда: «Итак – всё светло между нами, как и прежде, и я ужасно рад этому». Когда Чехов приехал в Петербург, жизнерадостный Игнациус пристегнул к компании Д. Н. Мамина-Сибиряка. Трио красивых мужчин шаталось по столичным ресторанам, где у двух петербуржцев, любителей застолий, литературных разговоров с вкраплениями слухов и сплетен, было много знакомых. Щеглов жаловался Билибину, толковал о «вероломстве» Чехова, изменившего будто бы прежним друзьям.
Наверно, Чехов и Мамин не упоминали имя М. М. Абрамовой. Для Чехова оно было связано с провалом «Лешего» в 1889 году. Для Дмитрия Наркисовича это «черное горе» всей его жизни. Мария Морицовна, ставшая в 1891 году невенчанной женой Мамина, любимой, боготворимой, через год скончалась в родах, оставив его с девочкой, единственным утешением отца. Среди столичных литераторов у Мамина сложилась репутация, сходная с мнениями о Потапенко. Писал он очень много и хвастался этим. Однако в доверительную минуту бранил свои сочинения. Он утверждал, что может одновременно работать над несколькими романами. Но при этом осуждал Потапенко за спешное «бумагомаранье» ради денег, ради оплаты счетов расточительной сожительницы.
Мамин называл Чехова «литературным слоном», а себя «писателем по недоразумению»: «Чехов обладает огромным богатством и удивительно талантлив; он словно Крез, вокруг которого разбросаны неисчислимые сокровища, а он даже не подозревает, как он богат». И он, и Потапенко в серьезном разговоре признавали превосходство Чехова. Игнатий Николаевич говорил, например, что его переводят больше, чем Чехова. Но не потому, что он лучше, а потому, что проще. Тогда как Чехов – «очень тонкий художник». Плодовитый беллетрист преувеличивал внимание переводчиков к своим сочинениям.
Потапенко запомнил очевидный интерес Чехова к новому знакомому. Он купил в книжном магазине всё, изданное отдельно, и по мере чтения постоянно заговаривал о нем: «А знаешь… я про Мамина… Он в книгах такой же точно, как и в жизни. Тот же чернозем – жирный, плотный, сочный, который тысячу лет может родить без удобрения. <…> Но зато в каждом его рассказе какой-нибудь Поль Бурже извлек бы материала на пять толстых романов. Знаешь, когда я читал маминские писания, то чувствовал себя таким жиденьким, как будто сорок дней и сорок ночей постился… <…> Тоже и язык… У нас народничают, да всё больше понаслышке. Слова или выдуманные, или чужие. <…> А у Мамина слова настоящие, да он и сам ими говорит, и других не знает».
Игнатий Николаевич явно привнес в эти воспоминания свои давние впечатления от доброго приятеля. Мамин многих увлекал своими сочинениями, а при встречах живописными рассказами о любимом Урале, о своей пестрой насыщенной жизни. В знакомстве с людьми разных профессий, сословий с ним, может быть, мог бы соперничать в кругу Чехова только Гиляровский. В один из дней той зимы 1896 года Чехов побывал у него в Царском Селе. Как-то три приятеля зашли в фотографию и снялись на память.
Чехов на этот раз остановился в гостинице на Исаакиевской площади, но часто бывал у Сувориных. Многое из бесед и встреч занесла в свой дневник Смирнова. 4 января в Суворинском театре с шумным успехом прошла премьера пьесы Ростана «Принцесса Грёза» в переводе Щепкиной-Куперник. На следующий день, вернувшись от Сувориных, Софья Ивановна записала: «Чехов над этой принцессой издевается. Говорит, что это романтизм, битые стекла, крестовые походы. Про Танечку Куперник, стихами которой все восхищаются, говорит: „У нее только 25 слов. Упоенье, моленье, трепет, лепет, слезы, грёзы. И она с этими словами пишет чудные стихи“. Яворскую в „Принцессе Грёзе“ он называет прачкой, которая обвила себя гирляндами цветов».
В эту зиму Чехов посетил, наверно, все спектакли Суворинского театра. И оказался невольным свидетелем закулисной жизни, театральных неурядиц, актерских капризов, интриг и сплетен. Смирнова описала в дневнике скандал, связанный с постановкой ее пьесы «Муравейник». Яворская, теперь служившая в этом театре, не явилась на вечернюю генеральную репетицию и потребовала перенести завтрашнюю премьеру: «Все актеры собрались и ждут, чем это кончится. Карпов вне себя, задыхается от злости <…>. Послали за Сувориным, велели разбудить его. Тот приехал, и с ним <…> Чехов. Суворин так взбешен, что в первую минуту готов Яворскую выгнать, прямо выгнать из труппы».
Потом Суворин принялся за послание к премьерше, рвал написанное. Чехов подсказывал дипломатические выражения, вроде «Вы обидите автора и товарищей, если не приедете». Смирнова, как автор, была против таких любезностей и продиктовала Суворину письмо-ультиматум. Всё это ночью, на повышенных тонах, в томительном ожидании ответа.
Ничего нового в закулисных «страстях» для Чехова не было. Он пережил нечто подобное, когда ставил «Иванова» у Корша в 1887 году и когда участвовал в 1888 году в переговорах с актерами во время постановки «Татьяны Репиной» Суворина в московском Малом театре. Притворство Яворской мог «оценить» не однажды, особенно вдень первого чтения и обсуждения «Чайки».
* * *
Любил ли Чехов театр? В молодые годы ходил в театр часто, однако упоминал редко. Потом высказывался о нем в письмах резко: «Современный театр – это сыпь, дурная болезнь городов. Надо гнать эту болезнь метлой, но любить ее – это нездорово. Вы станете спорить со мной и говорить старую фразу: театр школа, он воспитывает и проч…. А я Вам на это скажу то, что вижу: теперешний театр не выше толпы, а наоборот, жизнь толпы выше и умнее театра; значит, он не школа, а что-то другое…» Актрис он однажды назвал «коровами, воображающими себя богинями». На лицах актеров, скрывавших недовольство автором, пьесой, ролью, читал предательство, а в глазах – ложь.
В статьях, заметках и фельетонах 1880-х годов Чехов говорил о театре еще неодобрительнее: «Никто так сильно не нуждается в освежении, как наши сцены… Атмосфера свинцовая, гнетущая. Аршинная пыль, туман и скука».
Иронизировал в «Осколках московской жизни»: «1) Большой театр. <…> Нового ни на грош. <…> В балете вместе с балеринами пляшут также тетушка Ноя и свояченица Мафусаила. 2) Малый. Нового тоже ничего. Та же не ахти какая игра и тот же традиционный, предками завещанный ансамбль…» Не пощадил он и столичного театра. Уже в 1893 году, то есть после постановки «Иванова», после суда над «Лешим», написал: «В режиме нашей Александринской сцены есть что-то разрушительное для молодости, красоты и таланта, и мы всегда боимся за начинающих». В ряд таких отзывов вписывалось негодование молодого героя «Чайки» Треплева: «<…> современный театр – это рутина, предрассудок. <…> Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно». Далее в пьесе следовала ремарка – « Смотрит на часы».
Театр словно манил и пугал Чехова. Будто возбуждал и утомлял, и он готов был забыть про него: «Писать пьесы выгодно, но быть драматургом беспокойно и мне не по характеру. Для оваций, закулисных тревог, успехов и неуспехов я не гожусь, ибо душа моя ленива и не выносит резких повышений и понижений температуры». Это написано после успешного представления «Иванова» в 1889 году на сцене Александринского театра.
Тогда Чехов почти испугался успеха: «Во время удачи я трушу и чувствую сильное желание спрятаться под стол». И сбежал «из сферы бенгальского огня» в «полутемную кладовую». Шутил в те дни, что «великий драматург» превратился опять в «скромного беллетриста». Говорил, что «драматургия с ее шумом» выбила его из колеи нормальной человеческой жизни и началось «похмелье».
Он чуть ли не отшатнулся в те дни от театра и в письмах разным корреспондентам едва ли не отрекался от него и в шутку и всерьез: «Театр, повторяю, спорт и больше ничего»; – «Кстати, об успехе и овациях. Всё это так шумно и так мало удовлетворяет, что в результате не получается ничего, кроме утомления и желания бежать, бежать…» И он «бежал»… в прозу. Говорил зимой 1889 года: «Гладкое и не шероховатое поприще беллетриста представляется моим душевным очам гораздо симпатичнее и теплее. Вот почему из меня едва ли когда-ни-будь выйдет порядочный драматург». Но уже весной признавался, что начерно скомпоновал «Лешего». Однако тут же заявлял: «Пьес не стану писать. <…> Не улыбается мне слава драматурга»; – «Чтобы писать для театра, надо любить это дело, а без любви ничего путного не выйдет. Когда нет любви, то и успех не льстит».
Признаваясь в любви к прозе, Чехов в то же время не скрывал недовольства ею. Уверял в нелюбви к театру, но возвращался к пьесе. Словно в прозе искал пути обновления драмы, а в работе над драмой оживлял чувство прозы.
Современную драматургию, с ее «хлебными», «обстановочными», «сценичными» пьесами, имевшими успех у публики, Чехов не щадил в 1880-е годы так же, как и театр. Пьесы Б. Маркевича «Чад жизни», Е. Карпова «Крокодиловы слезы», К. Тарновского «Чистые и прокаженные», С. Гедеонова «Смерть Ляпунова», В. Александрова (В. А. Крылов. – А. К.) «Лакомый кусочек» и других авторов называл в письмах, фельетонах и юморесках «бездарнейшей белибердой», шаблонной стряпней с «пожаром и торжеством добродетели», «тягучими, как кисель». Говорил, что они написаны «помелом» и от них «скверно» пахнет. И всё это – изделия «закройщиков модной мастерской».
Он вволю посмеялся над «манией эффектов» и «фокусами» этой драматургии: «<…> героиня может в одно и то же время плакать, смеяться, любить, ненавидеть, бояться лягушек и стрелять из шестиствольного револьверища системы Бульдог…» Но самый, по выражению Чехова, «эффектный эффект» – это литераторы, выводимые в современных пьесах: «Обыкновенно это люди звериного образа, с всклоченной, нечесаной головой, с соломой и пухом в волосах, не признающие пепельниц и плевальниц, берущие взаймы без отдачи, лгущие, пьющие, шантажирующие».
Шли годы, но, по-видимому, театр и теперь, в 1896 году, оставался таким, каким Чехов обрисовал его в своих давних рассказах. Трагики по-прежнему кричали, шипели, стучали ногами («Трагик»), Комики все так же комиковали. У драматических старух, благородных отцов, резонеров, простаков, фатов, героев-любовников, гранд-кокет оставались все те же приемы. Актеры по-прежнему рассуждали о том, что «искусство пало» и публика любит не жизненность, а экспрессию, что играть надо «нервами и поджилками» («Критик»), А главное – развлечь зрителя.
Скандал на последней репетиции «Муравейника», описанный Смирновой, мог лишь убедить Чехова, что всё осталось по-старому.
* * *
Зачем Чехов приезжал в Петербург? По всей видимости, чтобы решить, куда отдать «Чайку»? О московском Малом театре он уже не говорил, может быть, вследствие разговора с Немировичем. О Суворинском театре тоже молчал.
14 января Чехов внезапно уехал из столицы, сославшись на «домашние обстоятельства». Скорее всего, он имел в виду женитьбу младшего брата. Михаил Павлович, наконец, выбрал себе невесту и пребывал в счастливых женихах, ибо избранница обожала своего Мишеньку, Мишуничку. Бесприданница, институтка, смирившаяся с долей гувернантки, Ольга Германовна Владыкина становилась женой многообещающего чиновника, хозяйкой дома. «Сладкий Миша» обрел то, что искал: домовитую рукодельницу, простодушную натуру, искренне мечтавшую о мещанском счастье, которое она так описывала жениху: «Я наделаю потом и салфеток, и вееров, и абажуров, и всего, чего только пожелаешь! <…> Сядем за самовар или, если окажется у нас два стула, на них и будем поверять друг другу наши мысли, надежды и всё, всё… <…> Я буду ходить встречать тебя в Палату, а после обеда мы где-нибудь в уютном уголке нашей квартиры будем работать и говорить, говорить без конца». Невеста очень понравилась Евгении Яковлевне, пришлась по душе свекру. Они гордились любимым сыном, так разумно устроившим свою жизнь. Все расходы по венчанию, по праздничному застолью взял на себя Чехов. Михаил Павлович обещал возместить долг потом, когда накопит.
Итак, холостым оставался только один из сыновей. 17 января 1896 года Павел Егорович записал в дневнике: «Утро – 21°. Антоша Именинник, 36 лет. Полд[ень] – 7°. Рябая корова отелилась. Веч[ер] – 8°». Как всегда, в его сознании всё уравнивалось, ставилось на одну доску. Сам Чехов написал в этот день в одном из писем: «Я сегодня именинник – и все-таки мне скучно». В разговорах между собой родители могли задаваться вопросом, заведет ли собственную семью их средний сын. Они видели, что он по сердцу и Наталье Линтваревой, и Марии Дроздовой, новой приятельницы дочери. Но спрашивать, наверно, не решались. Сын оставался не чужим, но непонятным, отдаленным. Однако они, судя по всему, не переживали из-за этого. Их несомненно устраивало нынешнее течение мелиховской жизни. Спокойное, никому не подотчетное, с дочерью-хозяйкой во главе.
Александр запомнил это безмятежное бытие отца в Мелихове: «За столом он занимал почетное место против Антона. <…> Первый лучший кусок попадал на тарелку к нему. <…> Если ему приходило в голову начать есть „для здоровья“ в скоромные дни постное – мать беспрекословно исполняла его желание. Водку за обедом и ужином он пил из своего графинчика в виде настоя из каких-то загадочных трав. Комната у него была отдельная и уютная, и в ней пахло ладаном».








