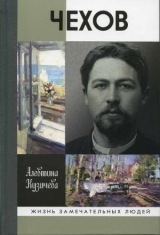
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 71 страниц)
Пережив приступ запоздалой молодости или прощания с молодостью, Чехов сказал, что никогда раньше «не чувствовал себя таким свободным». Это была какая-то странная свобода ото всего, нечто не схожее с тем, как он жил до сих пор. Он словно забывался на время своих отлучек из Мелихова. Не думал ни о расходах, ни о медицинских занятиях, ни о литературной работе. Ни о чем. Шутил: «и… девицы, девицы, девицы…» В общем, легкомыслие…
Но «легкомыслие» Чехова было, судя по письмам, воображаемым, а свобода мнимой. Как и ощущение покоя. Казалось бы, осуществилось то, о чем он мечтал осенью 1891 года – «жить в провинции <…> медициной заниматься и романы читать». И вдруг – всё это бросает и едет на целый месяц в Москву. Говорил, что ничего не пишет, что у него в столе только «несколько старых рукописей и начатых рассказов». Но шутил, что хочет «наградить русскую публику еще многими произведениями», что хочет «писать, как Потапенко, по 60 листов в год».
28 декабря в газете «Русские ведомости» появился рассказ «Володя большой и Володя маленький». О молодой женщине, вышедшей par dépit замуж за человека старше ее на тридцать лет и быстро изменившей мужу с тем, кого она, как ей казалось, любила.
К концу года, вероятно, был завершен рассказ «Скрипка Ротшильда» – о старом гробовщике, скрипаче-любителе, мрачно подсчитывавшем мнимые убытки; от скупости заставлявшем жену пить горячую воду вместо чая. И вдруг, похоронив жену, уже заболев тифом, он, всех ненавидевший и всеми ненавидимый, затосковал и сочинил перед кончиной мелодию. И отдал ее вместе с любимой скрипкой бедному еврею-музыканту с фамилией известного богача: «И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десять раз».
Однако за всем уже написанным и опубликованным в последние два года всё время мерцало упоминание «комедии», «пьесы». Весной 1892 года он сказал Суворину, что у него есть сюжет комедии, но не придумал еще конца: «Кто изобретет новые концы для пьес, тот откроет новую эру. Не даются подлые концы! Герой или женись или застрелись, другого выхода нет. Называется моя будущая комедия так: „Портсигар“».
На вопросы о пьесе отвечал осенью 1893 года, что не пишет и не хочется. Но вдруг 28 декабря упомянул в письме Гольцеву.
Как бы то ни было, но кончался срок, когда-то, в 1889 году, отпущенный Чеховым фортуне, куда пустить его – «вверх или вниз по наклону». И самому себе: «Погодим еще лет пять, тогда видно будет». Словно кончался зарок, данный после «Лешего» – не писать пьес. И он теперь заговорил о комедии.
В последние две недели 1893 года Чехов болел, но зазывал в гости друзей и приятелей. 31 декабря в Мелихово съехались родные: Иван Павлович с женой; таганрогский двоюродный брат Георгий; Мария Павловна и Михаил Павлович. Приехали Мизинова и Потапенко.
Что обещал Новый год? Суворин посвятил свое «письмо» уверениям министра финансов С. Ю. Витте, что золотой запас в 609 миллионов рублей и доходный бюджет за счет вывоза русского хлеба за границу, а также надежды на новый урожай зерновых обеспечили финансовое благополучие России. Правда, высокопоставленный чиновник не исключал, что «сбыт хлебов на иностранные рынки может с течением времени все более и более затрудняться». Вот над этими выкладками Суворин позволил себе поиронизировать: «Его высокопревосходительство урожай все-таки состоит верховным министром финансов и, конечно, переживет еще многих министров финансов». И остается уповать прежде всего на него.
Что же до доходов: «Я желаю народу <…> чтоб он получал больше того, что платит, чтоб распределение налогов было правильнее, чтоб народ просвещали, чтобы не жалели средств на его образование, особенно теперь, когда „бюджет доходов вступает во второй миллиард“. При одном миллиарде мы тратили немного на этот предмет».
Подобные «письма» Чехов называл «либеральными». Говорил, что они удаются Суворину лучше, чем другие. Когда же глава «Нового времени» склонялся «к подножию трона», Чехов уподоблял его тысячепудовому колоколу, «в котором есть трещинка, производящая фальшивый звук».
Наступающий год Чехов расписал следующим образом: весной писать пьесу, летом постараться вылечиться от кашля, который становился всё сильнее, а осенью засесть за роман. И, может быть, только в конце года – в Петербург. Но прожекты могло спутать всё еще владевшее им, как он его называл, «вакхическое настроение». От приглашения Суворина поехать вместе за границу Чехов отказался наотрез: нет денег, а взаймы он брать не хотел. Ему по карману был Крым. Там он надеялся спастись от опасного для него времени: таяния снегов, распутицы, весенних холодов. Кашель уже изнурялЧехова. Он предпочитал называть его бронхитом. Говорил, что недуг этот беспокоит «не нравственно, а, так сказать, механически».
Зимой он несколько раз приезжал в Москву. Но присутствовал ли 18 февраля на бенефисе Яворской в театре Корта? Лидия Борисовна умоляла его написать к этому дню одноактную пьесу: «Не касаясь блесток поэзии <…> одно Ваше имя возбудит тот интерес, которого недостает мне, как новичку пред московской публикой. Поддержите меня, как робкую дебютантку. <…> Вам это будет стоить немного труда. Два вечера – и готово».
Яворская, хотя ей исполнилось только двадцать два года, не походила на боязливую начинающую провинциалку. До приезда в Москву она играла в любительских спектаклях в Киеве, откуда была родом. Училась в Петербурге у В. Н. Давыдова и в Париже, служила в Ревеле. Она умела постоять за себя и взять свое. Роман с Коршем обеспечивал ей положение в театре, и в первый же сезон Яворская получила бенефис. Она сама распространяла о себе те слухи, которые придавали ей известности в артистических кругах. Лидия Борисовна умела играть в жизни и на сцене и оскорбленную невинность, и пряный порок. Прочесть что-то в больших голубых глазах было трудно – они поражали современников странной пустотой, кому-то казавшейся таинственностью. Известность актрисы довольно быстро приобрела в Москве скандальный оттенок из-за чересчур тесной дружбы с Щепкиной-Куперник. Тем более что неугомонная Татьяна Львовна давала поводы к сплетням, превозносила подругу до небес, организовывала на спектаклях подношения.
Она пыталась и Чехова вовлечь в это бесконечное и безграничное чествование. В преддверии бенефиса подруги попросила Чехова прислать два-три слова, автограф, который вместе с другими был бы выгравирован на серебряном бюваре. Привела пример: «Верьте себе… И. Левитан». И уверяла: «Мне важна и дорога подпись нашего милого друга». Чехов отклонил поползновения и ответил, явно пародируя стиль «луврских сирен». Он-де готов «сжечь себя на костре», чтобы Яворской «было светло возвращаться из театра после бенефиса». Но «на коленях» умоляет уволить от подношения, ибо не подносил подарков даже актрисам, игравшим в его пьесах. Былой «чад» и угар минувшей осени улетучивались. К тому же «сирены» скрылись в Италию после окончания театрального сезона. «Эскадра» рассеялась.
15 марта 1894 года Чехову написала из Берлина Мизинова. Она ехала в Париж с Эберле учиться пению. В Париже ее ждал Потапенко. Еще зимой Лика поддразнивала, то ли себя, то ли Чехова, что она «окончательно влюблена в… Потапенко!». И подводила черту: «Что же делать, папочка? А Вы все-таки всегда сумеете отделаться от меня и свалить на другого! <…> Целую папочку». В письме из Берлина, всё то же, что и ранее в письмах из Москвы, из Покровского: «Ведь я скоро умру и больше ничего не увижу. Напишите мне, голубчик, по старой памяти <…>. Не забывайте отвергнутую Вами, но… Л. Мизинову».
Вероятно, к этому времени Лика уже знала, что она беременна. Потапенко овладел ею в отдельном номере ресторана, уверял, что оставит сожительницу, от которой имел двух малолетних дочерей, что женится на Лике. В Париже, где Потапенко был не один, а с семьей, Мария Андреевна угрожала самоубийством, умоляла не покидать ее, якобы больную, несчастную. Потапенко называл жену «психопаткой», жаловался приятелям, что она его разоряет, из-за нее он весь в авансах, долгах и пр. Лика, естественно, не написала Чехову, что ждет ребенка.
Он ответил ей из Ялты. Шутил, что она не умрет, никто ее не отвергал, что он здесь в окружении любительниц драматического искусства. Спрашивал, как ей в Париже, и уверял, что летом тоска погонит ее в Россию. Но, видимо, почувствовал что-то, потому что пожелал ей: «Будьте, Лика, здоровы, покойны, счастливы и довольны. Желаю Вам успеха. Вы умница». О себе рассказал тоже без шуток, очень серьезно: «<…> ни на одну минуту меня не покидает мысль, что я должен, обязан писать. Писать, писать и писать. Я того мнения, что истинное счастье невозможно без праздности. <…> Для меня высшее наслаждение – ходить или сидеть и ничего не делать; любимое мое занятие – собирать то, что не нужно (листки, солому и проч.), и делать бесполезное. Между тем я литератор и должен писать даже здесь, в Ялте».
В шутках, в серьезном разговоре о любимом и нелюбимом, о перебоях сердца из-за «мыслей об обязательной, неизбежной работе» ощущался какой-то новый тон. Теперь, когда Чехов, может быть, догадался о близости Потапенко и Лики, он жалел ее и будто объединял себя и Мизинову общим «насмешливым счастьем»: «Но если Вы не приедете, то приеду я в Париж. Но я убежден, что Вы приедете. Трудно допустить, чтобы Вы не повидались с дедушкой Саблиным. <…> Целую Вам обе руки. Ваш А. Чехов».
Едва ли она, в ее настроении, обратила внимание на одно уточнение. Писать не потому, что нужны деньги, хотя они всегда были в недостатке, а потому, что он – «литератор». Кажется, Чехов сказал так впервые.
О чем шла речь? Едва ли за этим скрывалось опасение утратить литературное имя, стирающееся в памяти публики, если автор появляется редко. Или намерение поддержать репутацию в литературной среде, любящей посудачить о смолкнувших собратьях, что они «исписались», «кончились». Вероятно, подразумевалось внутреннее самочувствие человека, «отравленного» сочинительством. В таких случаях Чехов говорил, что данный человек – «несомненный литератор». Так он мог сказать даже о непишущем человеке, но ощущавшем жизнь подобно тому, как чувствует ее литератор.
Чехов часто говорил о себе – «я врач». По образованию. По занятиям медициной в клинике, в больнице, на своем мелиховском участке. Но был ли он «отравлен» медициной? Могли не заниматься ею? И не тосковать по ней?
Он повторял не раз: «моя медицина». Любил читать медицинскую литературу и периодику, поддерживая в себе определенный уровень знаний, чтобы, по его выражению, не «охалатиться» и не забыть науку. Еще не так давно, летом 1892 года, он говорил, что писание ради денег рождает в нем «ноющее чувство», поэтому он не уважает того, что пишет. Зато рад, что у него есть медицина, которой он занимается не ради денег. Однако через полгода, в феврале 1893 года, уточнил свое давнее противопоставление: «Медицина – моя законная жена, литература незаконная. Обе, конечно, мешают друг другу, но не настолько, чтобы исключать друг друга». Еще через полгода, в августе 1893 года, написал Суворину: «Осенью бросаю медицину, к январю кончаю с „Сахалином“ и тогда весь по уши отдаюсь беллетристике. <…> Сюжетов скопилось пропасть – сплошь жизнерадостные».
Наконец, еще через полгода, в январе 1894 года, Чехов словно подвел черту в письме Меньшикову, которому обещал еще в 1892 году прислать повесть для «Книжек „Недели“»: «У меня скопилось много сюжетов для повестей и рассказов, но я в плену и, как мне кажется, раньше июня из плена меня не пустят. После июня до самого конца дней моих я буду уже заниматься исключительно одною беллетристикой. Брошу даже медицину и, думаю, имею на это право, так как отдал ей уже дань в виде книги о Сахалине».
«Плен» – это печатание книги «Остров Сахалин», сопряженное с корректурой. Завершение приходилось на лето 1894 года. Но то был журнальный плен. Тогда как сам труд завершен: «Мой „Сахалин“ – труд академический <…>. Медицина не может теперь упрекать меня в измене: я отдал должную дань учености и тому, что старые писатели называли педантством. И я рад, что в моем беллетристическом гардеробе будет висеть и сей жесткий арестантский халат. Пусть висит!»
Вот после этих итогов Чехов и сказал: «Между тем я литератор и должен писать даже здесь, в Ялте». Болезни почти сократили в его жизни некоторые житейские радости и привычки: курение, алкоголь и «вакхическое настроение». Накопившиеся сюжеты томились в голове и требовали сил и времени. Невидимый враг, которого он не страшился, но о котором знал, тоже подтачивал его изнутри, как и сочинительство.
Может быть, поэтому Чехов заговорил о сокращении или даже прекращении «медицины» в пользу беллетристики. Они по-прежнему не исключали друг друга. Но сил на то и другое занятие, наверно, оставалось всё меньше. Месяц в Ялте не дал того, чего он обыкновенно ожидал от поездок: запаса «тепловых, цветовых и всяких других впечатлений». Кашель не ослаб, а перебои сердца усилились. Однако не ялтинская скука раздражала Чехова и гнала домой. Но нечто, видимо, имевшее отношение всё к тому же – « Я литератор». Словно что-то не давалось в руки, ускользало.
27 марта он написал Суворину: «Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: „чего-нибудь кисленького“. Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений».
Под «увлечениями» могли подразумеваться и религиозно-нравственное учение Л. Толстого, и философские идеи А. Шопенгауэра, и пророчества М. Нордау о вырождении, о болезнях «конца века», и «философия жизни» Ф. Ницше. Русский образованный человек постоянно искал «кисленького», примыкая к модным увлечениям. При этом сочетал временный интерес к популярным идеям с вековыми обычаями. Рассказывая с симпатией о семействе Линтваревых, о каждом из них, Чехов однажды заметил о старшей, А. В. Линтваревой: «Мать-старуха, очень добрая, сырая, настрадавшаяся вдоволь женщина; читает Шопенгауэра и ездит в церковь на акафист». И о младшем, Г. М. Линтвареве: «Второй сын – молодой человек, помешанный на том, что Чайковский гений. Мечтает о жизни по Толстому».
В письме Суворину от 27 марта 1894 года промелькнуло слово «постой» в связи с «толстовской моралью», которая владела Чеховым, по его признанию, лет шесть-семь, а теперь перестала трогать: «Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. <…> Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках». Судя по письмам Чехова, «толстовская мораль» все-таки была сама по себе, а отношение к сочинениям Толстого и к его личности – само по себе. Зимой минувшего 1893 года он уверял Суворина: «Толстой, я думаю, никогда не постареет. Язык устареет, но он всё будет молод».
Уже несколько человек передавали Чехову, что Толстой хорошо отзывался о нем. Год назад А. И. Эртель, едва познакомившись с Чеховым и, видимо, желая выразить свою симпатию, предлагал вместе сходить к Толстому, который благоволит к Чехову. Но он отклонил предложение: «<…> мне некогда, а главное – хочется сходить к Толстому solo». В феврале 1894 года Меньшиков писал Чехову: «В Москве был у Л. Н. Толстого. Жена его Софья Андреевна и дочери очень Вами интересовались. „Если бы Чехов посетил нас, мы были бы очень рады“, – заметила она между прочим, – очевидно, и сам Т[олстой] очень Вас любит (а он необыкновенно интересен, прост и добр)».
Настойчивее всех был Петр Сергеенко. Зимой 1893 года он сообщал Чехову в своей выспренней манере: «Недели две тому назад мне пришлось беседовать о тебе с моим другом Львом Толстым, который очень интересовался тобой и рад с тобою свидеться. А сегодня мой друг приходил в „Америку“ за твоим адресом. (Они были с Репиным, к[ото]рый хотел видеть тебя)». Сергеенко всячески стремился сблизиться с Чеховым. Приглашал к себе, подозревал, что приятель придумывает причины для уклонения. И однажды даже проверил, действительно ли была больна Мария Павловна, на недомогание которой он сослался. Это задело Чехова, и он написал Сергеенко: «Я никогдане вру».
Но Петр Алексеевич поставил себе целью – познакомить Чехова и Толстого. Случись такое, он наверняка долго и многим обрисовывал бы свою роль посредника, свое законное место не около, а среди известных людей. Чехов рассказал Суворину в письме от 7 августа 1893 года о несостоявшемся походе: «Я хотел быть у Толстого, и меня ждали, но Сергеенко подстерегал меня, чтобы пойти вместе, а идти к Толстому под конвоем или с нянькой – слуга покорный. Семье Толстого Сергеенко говорил: „Я приведу к Вам Чехова“, и его просили привести. А я не хочу быть обязанным С[ергеенк]у своим знакомством с Толстым». В этом сопротивлении было нечто общее с уклонением от участия в юбилейном обеде в честь Григоровича. Вообще с любой ситуацией, отдающей тем, что братья Чеховы, воспитанные на чинопочитании, называли иронически «целованием ручек».
Чехов тоже испытывал интерес к Толстому. Чем меньше трогала его «толстовская мораль», тем охотнее, может быть, он познакомился бы с самим Толстым. Так что из души его «уплыл» не Толстой, а закончился «гипнотизм» толстовской философии: «Я свободен от постоя». Свободен от гипнотизма не только этой, но и других идей, превращавшихся в моду: «Рассуждения всякие мне надоели, а таких свистунов, как Макс Нордау, я читаю просто с отвращением». Так что, наверно, не «чего-нибудь кисленького», не нового увлечения или «постоя» хотелось Чехову. У сердитого настроения были иные истоки, нежели разочарование.
Он ехал в Крым с намерением писать пьесу. И не писал, «не хотелось». Писал прозу. Но и то с перерывами. Раздражали посетители, толпа на набережной: «люди нудные, скучные, природа кладбищенская»; – «Море прекрасно. Прекрасны пароходы. Но публика некультурная, нудная». Публика и вправду бывала назойливой. Один из современников вспоминал, как дамы и молодежь специально гуляли по набережной, чтобы увидеть «знаменитого Чехова»: «Чехов! Чехов! Вон он стоит! Вон он пошел! Вон он остановился!» Этот же новый ялтинский знакомый Чехова запомнил его рассказ, как пришла к нему в гостиницу молодая дама: «Конфузится, не может говорить от волнения, смотрит исподлобья. <…> Я ее принимаю, прошу садиться, спрашиваю: „Чем могу служить?“ Она села и, преодолев волнение, говорит: „Извините… Простите меня! Я хотела… на вас посмотреть! Я никогда… не видала писателя!“»
Некоторые посетители не сомневались, что случаи из их жизни – готовые сюжеты, «достойные пера» знаменитости. Так порой считали и корреспонденты Чехова. При встречах или в письмах ему теперь, как «модному писателю», задавали вопрос, который коробил его, подобно слову «кушать»: «Чем теперь заняты? Что подарите нам нового? Чем нас порадуете?» Утомительна была непременная фраза отдыхающих: «Наша красавица Ялта».
Как выглядел Чехов в ту весну? Как держался на людях? По воспоминаниям, в компании более молчал, чем говорил. Делал вид, что попивает вино. Одет он был просто. Летняя рубашка с отложным воротником и шнурком вместо галстука, пиджак довольно скромный, без франтовства. В бородке пробивалась седина, стрижка стала короче. Взгляд еще заметнее ушел в себя.
Может быть, в Ялте Чехов работал над рассказом «Вечером» (позже «Студент»), опубликованным в газете «Русские ведомости» 15 апреля, то есть через десять дней после возвращения Чехова в Мелихово.
* * *
Критики, словно сговорившись, рассуждали о рассказе «Бабье царство» («Русская мысль», 1894, № 1), разойдясь в его оценке. И будто не заметили тогда же, зимой и весной 1894 года, двух рассказов Чехова в популярной московской газете «Русские ведомости» – «Скрипка Ротшильда» и «Студент». Словно они появились в захолустном издании. Между тем в них проступило что-то очень важное.
Яков Бронза никогда никому не сострадал и вдруг, незадолго до смерти, сидя на берегу реки, пожалел старую вербу: «Как она постарела, бедная!» Человек мысленно оглянулся в прошлое и не нашел «ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет». В тоске от «пропавшей, убыточной жизни» и в печали по несбыточному, наверно, родилась песня Якова («Скрипка Ротшильда»), Студент духовной академии, Иван Великопольский, удручен мыслью, что ужас жизни – «лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета» – был, есть и будет, и жизнь не станет лучше.
В этом чувстве слышались отзвуки настроения, остро пережитого Чеховым в последние годы, о котором он написал Суворину в октябре 1892 года: «Я, голубчик мой, далек от того, чтобы обманывать себя насчет истинного положения вещей; не только скучаю и недоволен, но даже чисто по-медицински, т. е. до цинизма, убежден, что от жизни сей надлежит ожидать одного только дурного – ошибок, потерь, болезней, слабости и всяких пакостей <…>»
На эти же годы пришелся страх, что он исписался, «высох», «иссяк», утерял вдруг радость сочинительства. Но каким-то скрытым напряжением душевных сил он, судя по письмам, одолевал свое состояние. И это обновляло интонацию его прозы. Недаром Чехов называл «Студента» своим любимым рассказом.
Его герой встретил у реки двух вдов, мать и дочь, содержащих огороды. В Страстную пятницу, у костра, он рассказал им про другую ночь, что случилась девятнадцать столетий назад в Гефсиманском саду. Про костер во дворе первосвященника, про отречение Петра и его горькие слезы. Мысль о вечном ужасе жизни, пусть на мгновение, но сменилась в душе студента мыслью о том, что «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле».
Не простая смена мыслей в сознании героя, а душевный сдвиг стал сюжетом рассказов 1894 года. Некоторые из героев испытывали внезапное чувство минутной радости: «радость, что сегодня Рождество, вдруг шевельнулась в ее груди» («Бабье царство»); – «и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство» («Черный монах»); – «и радость вдруг заволновалась в его душе» («Студент»), Это было ощущение, которого еще недавно остро недоставало самому Чехову, в чем он признавался в минувшие годы. Болезнь приковывала его к одному месту (к курорту, к дому), то есть к однообразным впечатлениям. Ему же хотелось куда-то ехать, плыть: «Люблю я море и чувствую себя до глупости счастливым, когда хожу по палубе парохода или обедаю в кают-компании». Кажется, будь Чехов поздоровее, то опять уехал куда-нибудь далеко и надолго, в кругосветное плавание.
Он не раз говорил, что всё новое видит резко, а привычное будто туманится, расплывается. Видимо, наблюдательность обострялась в поездках, во встречах с незнакомыми людьми, от простора, движения. Вернувшись из Ялты, он предлагал Суворину отправиться «по святым местам»: московские монастыри, Троице-Сергиева лавра, Ярославль, наконец, по Волге. Затем, в последующие дни, называл Киев, и вообще «хоть в Соловки». Только бы уехать куда-нибудь.
Что-то гнало Чехова из дома. Несмотря на кашель, на перебои сердца. В один из апрельских дней он пережил почти предсмертное состояние: «Но на днях едва не упал, и мне минуту казалось, что я умираю: хожу с соседом-князем по аллее, разговариваю – вдруг в груди что-то обрывается, чувство теплоты и тесноты, в ушах шум <…> быстро иду к террасе, на которой сидят гости, и одна мысль: как-то неловко падать и умирать при чужих. Но вошел к себе в спальню, выпил воды – и очнулся».
Однако весной Чехов никуда не уехал. Он работал. Вернулся к давнему сюжету. Когда-то, в 1889 году, он написал первую главу рассказа «Обыватели». О влюбленном учителе гимназии, «утомленном» своим счастьем. Теперь, пять лет спустя, Чехов продолжил повествование о «разнообразном счастье» героя, о семейной идиллии, о «приятной жизни», к которой Никитин пришел через «сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливую юность». И вдруг что-то с ним случилось. Какие-то новые мысли забродили в его голове, как «длинные тени». Семейное счастье показалось однообразным, захотелось бежать. Куда? Зачем? Почему?
Один из современников запомнил мнение Толстого об этом рассказе, теперь получившем название «Учитель словесности», что в небольшом сочинении о многом сказано. Однако хотя автор, Чехов, и «обладает художественной способностью прозрения, но сам еще не имеет чего-нибудь твердого и не может потому учить». И далее: «Он вечно колеблется и ищет. Для тех, кто еще находится в периоде стояния, он может иметь то значение, что приведет их в колебание, выведет из такого состояния. И это хорошо». Толстой, вероятно, имел в виду то же, что и литературные критики, не находившие у Чехова «общей идеи», ясного определенного мировоззрения. Но в отличие от них он уловил особенность воздействия сочинений Чехова на читателя. Таинственную колебательность, таящуюся в слове, в сочетании слов, в настроении, рожденном чтением.
Скрытое волнение прорывалось в письмах Чехова, этом своеобразном дневнике. Может быть, даже более точно передававшем его душевное состояние, чем передали бы дневниковые записи для себя. Письмо Суворину от 9 мая 1894 года он закончил неожиданной на первый взгляд, но, видимо, неслучайной зарисовкой, как возвращался с собрания земских врачей в психиатрической лечебнице в селе Покровском-Мещерском поздно вечером на своей тройке: « 2/ 3дороги пришлось ехать лесом, под луной, и самочувствие у меня было удивительное, какого давно уже не было, точно я возвращался со свидания. Я думаю, что близость к природе и праздность составляют необходимые элементы счастья; без них оно невозможно».
Лунный свет, бессонница постоянно упоминались в эти годы в письмах, рассказах и повестях Чехова. Часто действие разворачивалось около реки, заливного луга, переправы, в виду широкого поля, хотя герой повествования существовал в замкнутом пространстве больничной палаты, дома, усадьбы, комнаты.
Поздняя весна и лето тянулись в хозяйственных заботах. В усадьбе строили флигель, ригу, обихаживали пруд. Иваненко, опять бессрочно гостивший в Мелихове, составил список того, что имелось у Чеховых из инвентаря и скота на 1 июня 1894 года. Выглядел перечень довольно скромно: пять лошадей, три коровы, две телки, три бычка, две овцы, баран, свинья, два поросенка, три собаки, четыре утки, селезень, 30 кур, утята, цыплята. Земледельческих средств тоже немного: веялка, две сохи, молотилка, каток и т. д. Упряжь совсем небогатая: семь хомутов, четыре подпруги и т. д. А всякой мелочи – топоры, совки, садовые ножницы и прочее – не более чем одна или две штуки. Работников всегда было немного – два-три человека. Прислуги тоже: кухарка Марьюшка, ее подручная Машутка, горничная Анюта. Долее всех в Мелихове задержался в работниках Роман Кириллович Постников. Из солдат, хитроватый, он хорошо изучил иерархию «хозяев». Слушался только Марию Павловну, перед всеми остальными лишь играл роль исполнительного и дельного помощника. Марьюшка, Мария Дормидонтовна Беленовская, «бабушка», осталась у Чеховых до конца жизни, став, по сути, членом семьи.
Михаил Павлович теперь служил в Угличе и в Мелихове гостил лишь по нескольку дней. Отпуск, как брат Иван, как сестра, он проводил на юге. Посему наймом косцов, плотников, печников, землекопов, баб и мужиков для работы в саду и огороде, в поле, в парниках, в лесу занимались либо Роман, либо Мария Павловна, либо сам Чехов. Правда, он шутил над собой: «Занимаюсь земледелием: провожу новые аллеи, сажаю цветы, рублю сухие деревья и гоняю из сада кур и собак». Однако в строительные дела вникал охотно. Потому что любил новые постройки.
В Москву Чехов ездил изредка. Его «эскадра» распалась. Кто-то пребывал за границей, кто-то на даче или в своем имении. Мизинова написала в апреле, что не приедет в Россию раньше Рождества, что она каждое утро «кашляет кровью», лечится, а «крови всё больше» и посему собирается в Швейцарию. Собиралась она туда по другой причине, однако так и не решилась написать правду, а якобы страшным недугом объясняла грядущий переезд и то, что занятия пением отпали. Но о Потапенко рассказала: «Он заходит иногда по утрам на ½ часа и, должно быть, потихоньку от жены. Она угощает его каждый день сценами, причем истерика и сцены через полчаса. Он объясняет все ее болезнями, а я так думаю, что просто это все притворство и ломанье!» В апрельском письме был намек на ее новое положение: «Я здесь для всех дама – Ваш портрет Варя показала хозяйке как портрет мужа! Та пристала показать, ну и пришлось. Потому пишите мне M-me, а не M-elle, и не сердитесь, что Ваша карточка оказала мне услугу!»
14(26) июля Лидия Стахиевна опять пугала в письме скорой смертью, упрекала Чехова в том, что он не приехал в Париж, что не удержал ее от Парижа. Все это выглядело горькой шуткой, за которой была правда ее положения: «Впрочем, снявши голову, по волосам нечего плакать. <…> Меня все забыли. Последний мой поклонник – Потапенко, и тот коварно изменил мне и бежал в Россию. Но какая же с… его жена. Вы себе и представить не можете! Если захотите, он Вам расскажет обо мне всё, что знает, а мне самой о своей жизни и о себе писать противно. <…> Если я скоро окочурюсь, не поминайте лихом и перевесьте мои портреты из холодного места в теплый кабинет. Прощайте, дядя, умоляю, пишите, и я буду много писать, а сегодня уж очень скверно. Ваша Л. Мизинова».
Потапенко побывал в Мелихове в конце июля. Но, судя по всему, не рассказал «всего». Они условились поехать в Нижний Новгород. Как пошутил Чехов в письме Шехтелю еще в мае, поездка в Испанию, в Египет, на Корфу, Мадейру – это мечты, «и такими останутся, вероятно, до самой дохлой смерти». Зимой в письме Суворину он упомянул пьесу, в которой хотел вывести какого-то господина, который говорит цитатами из Тургенева. Но ни в Ялте, ни в Мелихове пьесу Чехов не писал. С разницей в десять дней то говорил: «Писать не хочется», то: «Боже, как мне хочется писать!» Иван Павлович рассказывал жене, что брат нездоров, «хандрит ужасно». Как-то весной Чехов написал Александру, что литература находится у него сейчас «на заднем плане <…> да и трудно совокупить желание жить с желанием писать».








