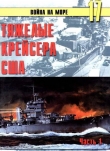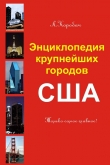Текст книги "Последний довод павших или лепестки жёлтой хризантемы на воде(СИ)"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 54 страниц)
– Солдат должен исполнять свой долг перед страной. Солдат должен быть учтив. Солдат должен выказывать отвагу на войне. Солдат должен держать свое слово. Солдат должен вести простую жизнь….
Ничего не понимающий Хонда, вытаращился на него, как на сумасшедшего. Время шло, а третья мина так и не прилетела.
Сначала они попали в руки военной полиции: «Почему появились с вражеской стороны? Почему на вражеском вертолёте? Захватили? Почему отпустили пилота и нужный японской армии трофей? Какой, такой лейтенант Мураками»?
Между японскими группировками, разбросанными по обширной территории Атлантического побережья США, не было связи и координации, поэтому ценилась любая информация извне. И как только о них узнали голодные до любых сведений офицеры из разведки, мытарить их сразу перестали. Эти, в отличие от дуболомов из Кемпей-тай, понимали ценность и незаменимость таких волонтёров, как Хонда при работе буквально со всеми современными системами, особенно электронными. Позже всех в строй вступил Пашка провалявшийся в лазарете. Но уже через сутки современные антибиотики подняли молодое японское тело на ноги.
Подполковник Сигехару Симазаки.
Полёт в облаках, на низкой высоте всегда был рискованным делом. Никаких метеорологических сводок японцам естественно никто не давал. Младший лейтенант Отодзо, везунчик, совершивший три успешных боевых вылета в таких не самых благоприятных условиях, поделился тем, что сам знал, но небо чертовски непредсказуемая стихия. Плавно поднимая машину, он искал обещанную полосу чистого неба, каждые три, четыре минуты, бросая взгляд на приборы, отмечал высоту и расстояние от точки взлёта.
Машину затрясло неожиданно, косо прошли огненные шарики трассеров. Возможно, то что он постоянно менял высоту позволило избежать фатальных попаданий. Самолёт сам провалился на левое крыло, лётчик первое время не пытался выправить полёт, успевая озираться вокруг, маневрировать, меняя курс. Выравнивая машину, Симазаки почувствовал небольшое непослушание, бросив взгляд на плоскости, лишь стиснул зубы, сильнее вцепившись в ручку управления – строчка попаданий прошлась вкось, навылет, левый элерон и часть крыла превратились в решето, набегающий поток воздуха трепал рваные края обшивки, отбирая небольшие куски. Симазаки бросал машину из стороны в сторону, постепенно теряя высоту. Самолётом становилось всё трудней управлять, он понимал, что ни о каком боевом задании уже не может быть и речи. Поворачивая на аэродром базирования, избавился от бомб – удалось выиграть немного высоты и маневренности. Вспышка разрыва образовалась прямо по курсу, не успев ни испугаться, ни отвернуть, влетел прямо в раскрывшуюся боевую часть ракеты. В лицо ударило порывом ветра, засвистело, зашумело, лизнул по очкам лёгкий кусочек дюраля, открытые щёки закололи мелкие иголочки. Открыв глаза, сразу удивился, что жив. Лобовое остекленение пошло мелкими трещинками, фонарь сорвало, двигатель завывал в новой тональности, от мотора вдоль фюзеляжа тянулись тонкие дорожки чёрного дыма, завоняло горелым маслом, но пропеллер крутил с прежними оборотами.
– Да где же эта тварь? – В голос заорал Симазаки, вращая головой, до треска в шейных позвонках. Низкая облачность вдруг расступилась и подернулась вверх, поэтому полковник тянул машину выше, стараясь скрыться в облаках.
Звуковой удар реактивных турбин, пробил защитный шлемофон, оглушил. Якая вспышка чуть выше за хвостом, самолёт затрясло от новых ударов осколков и неуправляемо потянуло, как на миг показалось пилоту, в сторону по-собачьи боком, снова задралось правое крыло. Симазаки совершенно потерял ориентацию, голову давила вязкая, безграничная боль. В голове зудел звук нестерпимый, тревожный – вой собственного мотора, и ещё затухающий реактивный свист – самолёт противника уходил. Совсем, или на новый разворот? Японский самолёт кружило как осенний лист. Если бы лётчик не был пристёгнут, его болтало бы как тряпичную куклу. Секунды казались вечностью, превозмогая боль, Симазаки тупо смотрел на какой-то предмет, расплывчатый и мутный, пока до него не дошло, что, повиснув на ремнях, разглядывает приборную доску, уткнувшись в неё лбом. Отжав ручку от себя, похолодел – руль поддался легко, словно плоскости не испытывали на себе давления воздуха.
«Всё! Конец… Перебиты тросы управления. Прыгать?» В бессильной ярости Симазаки толкнул ручку от себя и вдруг почувствовал, что тот живой – чуть-чуть дрожит под слабыми ударами воздушных струй. Взгляд на крыло – левый элерон истрёпан наполовину, правый – цел. Подергал ручку – шевелятся, значит – целы тросы! Рывок на себя, опять от себя. Самолёт застонал, задрожал, рука налилась тяжестью. Подработав ногами, выровнял машину, постоянно ожидая удара об землю, вывел машину из прологового пике, перевёл на горизонтальный полёт. Взгляд за борт – земля! Вот она! Едва пятнадцать метров. Двигатель на удивление не горел, хотя что-то с ним было не в порядке. Да с ним и должно быть не всё в порядке после такой передряги! Судя по запаху масла, он давно уже гонял поршня на сухую. Боль не ушла, а стала лишь слабее, тупо давя под шлемофоном. Кровь слабо стекала по шее измазав белый шёлковый платок красным. Что же так нестерпимо болело? Отвязав тесёмки, потянул головной убор в сторону, сбросил на колени – в голове резануло и сразу отпустило. Осколок прошел вскользь, оцарапав кожу головы, застрял в коже шлемофона. Силы небесные! Буквально миллиметры и он покойник!
Мысли вновь обретали ясность, хотя тёплые струи крови свободно полились за воротник. Кое-как прижав к неглубокой ране шёлковую тряпицу, на автомате, не теряя контроль над управлением самолёта, осмотрелся. Ветер приятно остужал обнажённую голову. Движок гудел ровно, почти ровно, что-то позвякивало, звенело, но самое главное не стучало, не трясло. А ещё надо найти площадку для посадки. Или удастся найти базу? Почти нереально. Американец больше не вернулся, и то хорошо. Неожиданно открылся знакомый ландшафт, через минуту, пройдя на бреющем над посадочным полем, он развернулся. Внизу забегали фигурки, явно заметили, что с самолётом не всё хорошо. На удивление мягко сел, прокатился по полю, убрал обороты – к нему бежали люди, показался трактор. Только сейчас вспомнил, что во время боя… да какого там боя – избиения, неоднократно вибрировал мобильный телефон. Может стоит показать проклятую штучку тому местному, как советовал лейтенант.
Симазаки тяжело выбрался из самолёта, оглядев фюзеляж, присвистнул – на левое крыло страшно было ступить. Самолёт в пору было списывать, живого места нет, и как только долетел? Спрыгнув на землю, встретился взглядом с подоспевшим капитаном.
– Потрепали?
Симазаки устало кивнул:
– И тридцати километров не ушёл от аэродрома, налетел, незаметный, скоростной, всепогодный, даже не видел его, а я для него как на ладони. Самолёту конец?
– Поговорю с технарями, парни толковые, может что и смогут сделать, главное движок целый.
– Сам не пойму. Влетел прямо в разрыв снаряда, осколков должен набраться по самое нихочу, а он, поди ж ты, вытянул.
– А мне всегда Накадзима нравились. Был бы водяного охлаждения – стуканул. Сделаем что сможем, если конечно успеем.
Было такое впечатление, что капитан чего-то не договаривает.
– Что-то случилось?
– Возможно, нас обнаружили. Появление самолёта противника. И случай не единичный. Патруль Кемпей-тай нарвался на механизированный вражеский отряд, никто не уцелел.
– А американцы?
– А чёрт его знает, их технику пожгли, солдат убитых навалом. Но может кто ушёл и запросил о помощи, и теперь сюда летит стая вертолётов. И ещё лейтенант… – Капитан опустил глаза.
– Отодзо?
Капитан кивнул.
– Топливо уже должно было кончиться, а учитывая на каких высотах вы летаете, спастись с подбитой машины на парашюте нереально.
– Господин подполковник! – Обратился матрос из техсостава, – у вас кровь, вы ранены.
Только сейчас Симазаки вспомнил о своём ранении, кровь давно остановилась, голова слегка ныла, но ничего серьёзного он не ощущал. Хотел было отмахнуться, но запротестовал уже капитан, настаивая, что надо показаться врачу.
Снова неожиданно, совсем некстати завибрировал мобильный аппарат. Симазаки, вдруг почувствовал неконтролируемый гнев, вытащив не дающийся в руки аппарат, чертыхаясь, тыкал в кнопки, никак не попадая в нужную.
– Позвольте мне, – капитан протянул руку.
Симазаки продолжал браниться, когда капитан нажал на кнопку ответа и прижал к уху трубку.
– Вас, – лицо его почему-то не выражало удивления.
Симазаки на мгновенье осёкся, взял телефон, позабыв как обращаться с современной штучкой, стал говорить в него как в рацию – держа на уровне рта.
– Не так, – капитан, потянул руку поправить, но лётчик сам исправился, поднося к уху.
– Воюешь, капитан 3-го ранга? – Голос Кумэ был совершенно спокоен, Симазаки показалось, что слегка ироничен. Кумэ не дожидаясь ответа, продолжил, – слышу, что воюешь. Слушай сюда господин подполковник, если есть возможность, посиди пока на земле. У меня имеются данные, что скоро воевать против их навороченной современной техники станет полегче. Не намного, но полегче, – как-то вкрадчиво, словно смакуя каждое слово, проговорил полковник, – так что побереги себя и самолёт. И остальным скажи. Трубку не теряй, может ещё свяжусь. Мне звонить не пытайся, нет смысла. Хотя возможно и эти миниатюрные аппараты престанут функционировать. Как знать. Отбой.
И пропал из связи. Симазаки ещё пару минут тупо держал трубку около уха, потом неторопливо убрал аппарат в карман.
Капитан по озадаченному лицу Симазаки понимал, что тот услышал что-то важное, да и сам факт звонка уже о многом говорил. Симазаки, переваривая услышанное, некоторое время молчал.
– «Посиди пока на земле», – повторил он слова Кумэ, посмотрев на измочаленный самолёт, вздохнул, – поневоле придётся.
Вся американская рать…
Переброску восьми дивизий и экспедиционной бригады морской пехоты из Европы в Америку командование США планировало осуществлять поэтапно. Одновременно две сухопутные дивизии и два отдельных броне-, кавалерийских полка переправлялись в Ирак и Афганистан. Потенциал в пятьдесят стратегических транспортных самолётов С-5В и 220 перспективных транспортника С-17 позволяли перебрасывать до 66 миллионов тонно-миль в сутки. Обеспечение стратегических перебросок морскими транспортными средствами возлагалось на командование морских перевозок, имеющих в своем составе около 150 судов для обеспечения повседневной деятельности ВМС и почти 50 кораблей задействуемых при стратегическом развертывании войск. Три эскадры специальных судов-складов, на которых размещены тяжелое вооружение и запасы материально-технических средств, для ведения боевых действий трех экспедиционных бригад морской пехоты давно имели особые предписания, но только эскадра, постоянно дислоцирующаяся в Индийском океане, оставалась в своей точке развёртывания.
Учитывая, что путь из восточной Атлантики и западной части Тихого океана по воде неблизкий, основные свои надежды американское командование возлагало на воздушные переброски. Тем более что американцы решили использовать десятки гражданских аэробусов, благо европейские аэродромы были забиты самолётами американских пассажирских компаний – обыватель бежал от войны. Американцы покидали родину, надеясь переждать смутное время. Первыми всполошились, конечно, те, у кого нос был всегда по ветру, и не обязательно было снова стремится на историческую родину (там тоже неспокойно) – Европа радостно открыла незапланированный курортный сезон, потирая руки от притока жирных на деньги американцев. Курс американской валюты, правда, изрядно пошатнулся, но европейцы всё учитывали и порой ценники менялись по два раза за сутки. Естественно в сторону увеличения.
С шести часов авиабаза Рамштайн, что расположена немного восточнее одноимённого города, на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц, была наполнена гулом сотен машин. По аэродрому сновали грузовики, тягачи с платформами и боевая техника. Транспортные самолёты, выстроившись в линию, гоняли двигатели на малых оборотах, пока их огромные чрева наполнялись контейнерами с боеприпасами, бронетехникой и людьми. Пёстрые гражданские самолёты стояли отдельно от камуфлированных военных машин, с подогнанными колёсными трапами. Длиннющие километровые колонны пехотинцев, пятнистыми змеями извивались по лётному полю. Сгорбленные под тяжестью здоровенных мешков и тюков снаряжения, сами словно ходячие мешки, в своей форме, солдаты вползали по трапам в раскрытые люки.
Одна за другой тяжёлые транспортные машины поднимались в воздух, разбиваясь на группы, выстраиваясь в полётный строй, медленно набирая высоту. Эфир был забит радиопереговорами – диспетчеры открывали широкие эшелоны, сопровождая метки на радиолокаторах, передавая от оператора к оператору.
Утро над европейской частью континента выдалось солнечным, разбуженные жители окрестных мест и прочие ранние пташки – молочники, разносчики газет, коммунальщики могли видеть эту воздушную армаду воочию. Нашлись старожилы, которым многочисленные, гудящие металлические птицы напомнили небо военных лет второй мировой. В целом европейцы были довольны отбытием за океан такой оравы и обузы, но что-то во всём этом было тревожное, заставлявшее их хмуриться, бросая не совсем радостные взгляды вслед удаляющимся самолётам.
Пролетев над Францией, пилоты переключились на британские службы слежения за воздушным пространством. Позади, справа остались острова Англии, мелькнули узкими черточками на воде грозные корабли флота её величества, чего-то там и неизвестно кому демонстрирующих. К транспортным самолётам присоединились истребители сопровождения, взлетев с английских баз, уже над океаном встретившись на параллельном курсе. Под воздушной эскадрой впереди лежал открытый океан.
В это время средиземноморские военные базы США тоже покинула первая волна транспортников. Небольшими группами, по открытым воздушным коридорам, над блестящим чешуйками волн Средиземного моря, над высушенными землями Ближнего востока, получая в небе Турции своё прикрытие из истребителей, самолёты летели – одни к неспокойному Ираку, другие к авиабазе Манас в Киргизии. И далее в Афганистан, где их уже встречали в объятия поддержки и прикрытия вертолётные эскадрильи.
Утренняя активность и на остальных военных базах US army, разбросанных по всей планете, достигала своего максимума. Правительство США обратилось к главам остальных государств, с просьбой ограничить полёты гражданских судов в связи с проведением широкомасштабной военной воздушной операции. Из-за большой концентрацией военных кораблей на морских коммуникациях (американцы рыскали в поисках вражеских эскадр и одиночек) межконтинентальные перевозки сведены были к минимуму.
Натовскими воздушными и морскими патрулями было обнаружено несколько десятков судов под японским флагом. И это только в Атлантике.
Американцев обуревало бешенство. Информация распространялась быстро и факты разгрома флотов US Navy, удары по береговым базам и городам вызывали у них приступы праведного гнева. Боевые корабли противника топились незамедлительно при возможности. Топились даже невооружённые танкеры и транспортники. Свидетелей, как правило, не оставалось. Редкие удостаивались досмотровых команд и сопровождения в порты с последующим пленением команды. Лишь два случая попали в прессу и были показаны в кадрах военной хроники.
Японское судно было обнаружено подлодкой США между Азорскими островами и канадским Ньюфаундлендом. Далее его перехватил канадский патрульный корабль. Ближе к рассвету сопровождаемый канадским фрегатом японский танкер спокойно достиг территориальных вод Канады. Два корабля пришвартовались у причалов Сент-Джонс, японская команда сошла на берег. А потом на танкере прогремел взрыв, и несколько часов, подняв чёрный столб дыма, горело топливо в танках японского судна, занялось что-то на причале, пожар перекинулся на припортовые постройки, началась суматоха и последующий бардак. В общем, нагадили конкретно.
Второй эпизод произошёл в пятистах милях к востоку от Бермудов. На площади чуть менее квадратной мили сошлись японский «Мару», сухогруз под флагом Либерии и собакой-ищейкой примчавшийся американский эсминец.
Почти всю ночь «либериец» шёл параллельным курсом с неизвестным молчаливым судном (курсы совпадали), лениво щупая округу радаром и лишь на рассвете, когда рассеялась туманная утренняя дымка, экипажи смогли рассмотреть друг друга в оптику.
Японский танкер шел не скрываясь, трепеща флагами с красными кругами на белом, по-прежнему сохраняя радиомолчание, однако ратьером скупо поприветствовал соседа, продублировав флажковой сигнализацией.
Капитан «либерийца» был рижанином, именно рижанином, а не латышом и команда у него подобралась соответствующая: русские, украинцы, белорусы, даже один узбек, обосновавшийся на камбузе.
Новости о воинствующих имперцах широко гуляли по эфиру, и капитану сухогруза было чертовски интересно. Предупредив японцев, сухогруз начал медленное сближение, по-прежнему двигаясь параллельным курсом. На палубу вывалила не менее любопытная разношерстная команда – попялиться на воскресшую из прошлого века посудину.
Американцы смогли появиться почти внезапно. Одновременно с мощным радарным облучением из облачности вывалился вертолёт, а на горизонте замаячил силуэт корабля.
Взбитые фонтаны чего-то крупнокалиберного перед форштевнем «японца» и окрик в эфире, вынудил оба судна безоговорочно лечь в дрейф. И пока эсминец, вероятно выдав полные узлы, скоро приближался, геликоптер ходил кругами, удерживая оба судна под прицелом (на пилонах у него пугающе вывешивалось явно что-то ракетно-противокорабельное).
Вскоре эсминец приблизился настолько, что детали палубы и надстроек можно было чётко разглядеть уже невооружёнными глазом. Из всего явно грозно-военного у него выделялась только носовая артустановка, слегка подрагивающая стволом в горизонтальной плоскости.
– Вы посмотрите на этих самураев Всеволод Петрович, – произнёс старпом на сухогрузе, не отрываясь от бинокля, – они как специально развернулись носом на американский корабль. Часом таранить его собираются?
– Глупости, – флегматично ответил капитан, – не такие уж янки и дураки, чтобы подставиться. Они уже тоже стопорят ход. Ближе подходить не будут.
– Поссыкивают пиндосы-то…, а? – Улыбнулся старпом.
– Катера выслали, – капитан оставался серьёзен, – один к нам, второй на «японца». Отдайте распоряжение команде, чтобы не выделывались – янки наверняка на взводе. Как бы чего не вышло.
Японцы покорно приняли на борт увешанных оружием морпехов. Вскоре и на палубу сухогруза забрались американские военные, и капитану со старшим помощником стало не до того что происходит на японском судне. Хотя всё шло довольно гладко – офицер посмотрел судовые документы, морпехи без особого энтузиазма шныряли по кораблю, только подозрительно покосились на кока-узбека.
Но тут на японском танкере началось что-то непонятное, далее события приняли обострённый характер.
С борта танкера свалился человек (как потом рассказал старпом, урывками хватавшийся за бинокль), свалился именно японский матрос, точнее произошла потасовка и морпехи столкнули члена японской команды. После этого на палубе танкера началась возня и суета. Сухо застращали выстрелы. Вскоре кто-то ещё полетел за борт. Наблюдавший в бинокль старпом мог поклясться, что японцы носились по палубе с мечами, умудрившись за считанные минуты перерезать американских вояк.
Геликоптер к тому времени видимо сел на эсминец пополнить баки или ещё чёрт знает за какой надобностью. С самого эсминца видеть ничего не могли – потасовка произошла с подбортной стороны. Но с сухогруза американцы быстро связались по рации, доложив о критической ситуации, попрыгали в свой катер и помчали на выручку товарищам. Они не дошли до японского судна метров сто, как по ним открыли огонь из стрелкового оружия.
– Твою налево, выругался старпом и покосился в сторону замершего с биноклем капитана, – может нам дать отсюда дёру?
– Ход малый, – кивнул, явно напрягшийся капитан.
Эсминец выписал циркуляцию пытаясь заглянуть за правый борт японца, и американцам представилась безрадостная картина:
расстрелянный фактически в упор, оставшееся без управления катер безвольно качался на волнах, второй катер так же без признаков кого-либо живого бился о борт японского судна.
Уже взвился в небо геликоптер, гневной стрекозой выписывая восьмёрки над танкером. С того постреливали, но без видимого эффекта. На палубе сновали японские матросы, поблёскивая обнажёнными мечами.
– Сейчас прольётся большая кровь, – промолвил старпом, продолжая шарить в бинокль, – интересно, что они орут там на палубе? Не дождавшись ответа сам предположил, – наверняка «банзай»…
Всё пришло в движение: «японец» врубил ход, идя на сближение с эсминцем, но тот легко держал дистанцию, вертолёт продолжал кружить над японским судном, однако не открывая ответного огня.
– Чего они медлят? – Не унимался старпом.
– Янки не станут стрелять по японцам, пока не будут уверены, что все их парни их досмотровой команды мертвы.
– Я бы на месте япошек так и сделал бы – взял бы тех в заложники.
– Да бестолку…, – скривился капитан, – позвони в машинное – у Луценко хороший цифровик. Пусть всё заснимет.
Затем вертолёт завис над одним из катеров с перебитой командой. Видимо кто-то там уцелел, и его взяли на борт. Сухогруз медленно удалялся, и казалось развязка так и не наступит, когда над океаном прокатился трещоточный гул – носовая артустановка эсминца окрасилась вспышками и белым дымом.
На японском судне неожиданно ярко вспыхнуло. Вероятно в танках осталось ещё топливо, там даже что-то взорвалось, выбросив вверх чёрно-оранжевый лоскут. Так же легко танкер стал заваливаться на бок, проседая на корму, довольно быстро погружаясь.
– Ты Луценко приказал?
– Да….
Вскоре на поверхности едва можно было различить лишь мелкие обломки и мусор. Эсминец рыскнул к месту затопления «японца».
– Интересно кто-нибудь остался жив?
– Не знаю. Наверняка кого-нибудь выловят, – пожал плечами капитан, – ты прикажи Луценко припрятать камеру. Чует моё сердце, нас ещё посетят гости и в этот раз мы так просто не отделаемся.
После этого инцидента американские моряки совсем слетели с катушек и действовали более радикально, а капитаны торговых судов сами не желали нарываться на неприятности, предпочитая отсиживаться на берегу.
Были! Были прецеденты – океан штука огромная, и затеряться можно, и делишки всякие непотребные скрыть. Некоторые мирные суда исчезли, успев лишь выдать в эфир пару фраз о военном нападении. А кто там на них напал и расстрелял, утопил, в конце концов, ещё разбираться и разбираться!
* * *
Чуть раннее, примерно в 04:30 по Гринвичу поступили последовательные сигналы с подводных гидроакустических датчиков об обнаружении большого количества кораблей. По предположениям американского флотского командования это была японская эскадра, уничтожившая корабли оперативного соединения 2-го флота США во главе с авианосцем «Джордж Буш». Американские аналитики, просчитывая следующие ходы японского адмирала, ожидали его встретить у берегов Канады, и были удивлены, получив новые данные – японская эскадра уже сутки двигалась в северо-восточном направлении, предположительно к берегам Англии.
Выпускники Аннаполиса жаждали мщения. Самое простое было уничтожить вражескую эскадру с воздуха, подняв ударные самолёты с ближайших баз, но им хотелось взять реванш именно в морском сражении, поэтому в заданный квадрат, гончими псами, устремились ближайшие крейсера и эсминцы УРО. В связи с этим был скорректирован маршрут и время выхода транспортных кораблей с войсками направлявшихся в Америку. Конвой был на всякий случай усилен ещё несколькими фрегатами.
Американские адмиралы были полностью уверены в собственных силах (больше то их врасплох не застанешь), и не стали информировать своих ближайших союзников. Но у тех разведывательная сеть была поставлена на должном уровне – англам было страшно любопытно и натерпелось посмотреть на обещаемый морской спектакль. От флотилии, охранявшей берега метрополии, отсоединился авианосец с «рыбами-прилипалами» (два фрегата и эсминец ПВО), рванув навстречу абсолютно невероятному событию – Императорский флот Японии образца 1944 года в водах Атлантики в третьем тысячелетии. На борту авианосца «сидели» уже не вертолёты, а «вертикалки» «Харриер». «Илластриесу» была отведена роль корабля управления и командного пункта.
Уверенность в собственном превосходстве просто распирала англосаксов. И бриттов и амеров. Наверно подобное чувство испытывали их недалёкие предки, выступая с огнестрельным оружием против луков и копий туземцев где-нибудь а Африке, Индостане и… в общем хватало где. Надо бы ещё напомнить, что британское правительство до издевательства, продолжало засыпать Вашингтон предложениями о союзнической помощи, но те пока отмалчивались.
По-прежнему не могли обнаружить эскадру Ямамото. Учитывая отход японских кораблей от берегов Америки, и последние данные об эскадре Такахаси, экстренно сместили зону патрулирования к югу и юго-западу, ближе к Канарской котловине и берегам Венесуэлы.
В тихоокеанском регионе со стороны японцев не предпринималось больше никаких боевых действий. Американцам удалось более, менее очистить акваторию от мин и подводных лодок, так же вёлся поиск Имперских надводных кораблей, но с переменным успехом. Командующий объединённого Марианского района контр-адмирал Бизел подозревал, что японцы просто затаились, укрывшись на многочисленных островах района, выжидая лучших возможностей для нанесения удара, но предпринятые им срочные меры натыкались на директивы из Вашингтона, дробя и растягивая его силы.
Ночные бои на континенте, на удивление японской стороны, велись не очень активно, но техническое преимущество американцев ощущалось во всём и японцы медленно сдавали позиции. Гротон лежал в радиоактивных развалинах, Ньюпортом уже завладели полностью американские морпехи. Район южного Нью-Джерси доставлял проблемы, но резервисты почти взяли эту часть штата под контроль. Большие скопления японских войск в районе Вашингтона и в штате Мериленд были уничтожены, командование планировало с рассветом заняться зачисткой территории. Основной проблемой оставалась большая концентрация сил противника в районе Чесапикского залива и Нью-Йорка. Были предприняты попытки американскими подразделениями спецназначения показать своё мастерство, но только в районе Норфолка и в некоторых местах у залива их командиры могли докладывать о каких-то успехах. А вот Нью-Йорк просто всосал и безвозвратно растворил в своих каменных джунглях две элитные группы спецназа.
* * *
Можно сделать ещё одно небольшое отступление. Американская сторона была полностью уверена, что высадка японских войск произошла только на восточном побережье Соединённых Штатов. Отчасти это верно – японцы не распыляли силы. Но наверно, повинуясь какой-то своеобразной логике – око за око, на Аляске скрытно сошли на берег более двух тысяч человек из состава гарнизона острова Атту (Алеутские острова).
30 мая 1943 года американцы десантировали морпехов на Атту и неожиданно столкнулись с фанатичным сопротивлением – японской гарнизон почти весь погиб, из 2379 солдат в плен удалось захватить лишь 28 человек.
Ныне возродившийся японский командир гарнизона Атту полковник Ясуё Ямасаки имел задачу нанести по возможности наибольший урон авиабазе Элмендорф. Командование не требовало полковника слёту её атаковать, поэтому бывший гарнизон Атту высадившись в достаточном удалении от базы, неспешно двигался к намеченной цели.
В подчинении у полковника Ямасаки было всего две с лишним тысячи человек, но и к этой незначительной операции (в сравнении с высадкой главных сил) штаб готовился не менее тщательно, выделив специально подготовленных офицеров. Сам Ямасаки, уже переставший чему-либо удивляться, внимательно смотрел на широкий экран с видом береговой линии места высадки его подразделения с графическими обозначениями подводных скал, промерами глубин, направлениями приливных течений и всего прочего, столь важного при морском десантировании. Если добавить к этому новые методики боя и ТТХ оружия противника, то всё навалившееся обилие информации и доскональных данных приходилось выучивать фактически наизусть, доводя себя до нервного истощения.
Однажды в помещение зашёл везде поспевающий Генда и быстро просмотрев наработки, графики и схемы, задав пару наводящих вопросов, удовлетворённо кивнул:
– Задача у вас по-своему непростая, и погода для высадки на эти скалы будет с одной стороны не очень благоприятная, но с другой…, вполне подходящая.
Действительно, в ту ночь (ночь высадки) погода было не просто неблагоприятная – волнение на море было на грани шторма для тех утлых судёнышек, которые несли японских солдат к тёмному берегу. Ветер завывал, споря с шумом прибоя, и его шквальные порывы кидались то мелкими холодными дождевыми каплями, то морскими брызгами, а низкие борта десантных судов едва не черпали волну.
Но зато в небе не появилось ни одного вертолёта Береговой охраны, и ни один патрульный катер не ошарашил мощным лучом прожектора непрошенных гостей. В итоге им удалось пройти к берегу незамеченными.
При десантировании не всё прошло удачно, были потеряны девять человек личного состава и часть снаряжения, но Ямасаки удовлетворённо отметил, что эти потери были даже ниже минимально планируемых.
Естественно полковник знал о времени начала основной атаки Императорской армии и предполагал дальнейшие действия американцев.
Мгновенный приступ бдительности янки отряд переждал, надолго и надёжно вгрызшись в землю, укрыв снаряжение, оружие и запас провизии. Но запал рейнджеров в поисках противника длился недолго. Когда рвение американских военных утихло, передовая группа японской мобильной разведки ещё вечером достигла окрестностей базы и выискивала пути оптимальных подходов и слабые места обороны. Постепенно подтягивался основной отряд, солдаты обустраивались на ночь.
А ночи, надо сказать, в этих широтах были всегда холодные, тем более в это время года. Следует прояснить ставшее мифом воззрение относительно того, что японский солдат был лучше всего приспособлен для ведения боевых действий в джунглях. В целом это верно, но необходимо иметь в виду, что японский пехотинец, прежде всего, обучался ведению боя в любых климатических и природных условиях, а не только в джунглях. И не менее важной считались тренировки в холодном климате и в горных условиях. Японские солдаты проводили «снежные марши» (сетчу ко-гун), длившиеся четыре-пять дней, в Северной Японии, Корее и на Формозе (Тайване), как правило в конце января или в первую неделю февраля, именно тогда в Северной Японии устанавливается самая холодная погода. Закаляя и повышая выносливость, солдатам и офицерам запрещалось пользоваться перчатками, а ночёвки организовывались под открытым небом. Поэтому, командир, решив утром при солнечном свете произвести наблюдения, составить более чёткий план действий и провести тщательную подготовку, спокойно смотрел на своих солдат, укладывающихся почти на голую землю. До наступления рассвета оставалось всего ничего.