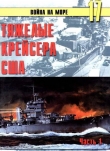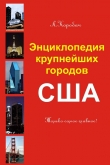Текст книги "Последний довод павших или лепестки жёлтой хризантемы на воде(СИ)"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 54 страниц)
По силе разрыва снаряды 127-милимметровок современных американских эсминцев соответствовали примерно 203-мм с японских орудий. Линкоры эти удары держали, тяжёлые крейсера терпели, для всего что ниже по классу, при бешенной скорострельности, точности наведения это был фактически смертный приговор.
Весьма действенным оказалось и применение зенитных ракет против легкобронированных кораблей. Высокая эффективность скорострельного противоминного оружия и манёвренность американского соединения сводила на «нет» все попытки японских эсминцев произвести успешную торпедную атаку. Постепенно линкоры стали отставать, не прекращая вести огонь из главного калибра.
Не замедлил ответный залп управляемыми противокорабельными ракетами, внёсший существенное изменение в расстановку сил, но как выяснилось, кардинально повлиять на исход надводного боя уже не мог.
Если учесть, что от плотности огня с первых минут три корабля эскорта пришли в полную боевую негодность, то достойно отстрелялся только один крейсер УРО «Тикандерога», успевший отбежать при начале атаки на достаточное расстояние. В целом он был полностью дееспособен (одно попадание в полубак не в счёт), вот только дистанция для «Томагавков» была всё ровно «невыносимая». Системы наведения безуспешно пытались определить цели, однако американцы смогли добиться выхода из пусковых установок противокорабелок «Гарпун». Крейсер УРО мало того что поставил обильную дымовую завесу, вообще абсолютно скрылся в белом дыму, зачастив взлетающими ракетами. Взвившись в стартовой горке, ракеты тут же согласно полётной программе ныряли на высоту 15 метров для маршевого полёта. Однако из-за близости кораблей противника, головки наведения либо тут же схватывали цели, либо порой, не успев сманеврировать, проскакивали мимо них, растаращившись в режиме большого сектора сканирования. Просвистев некоторое время над океаном, генерируя перед собой импульсы, так и не дождавшись их возвращения, в конце концов, ракеты взрывались при срабатывании режима самоликвидации. Те же, которые захватывали цель, тут же почти не «раздумывая», встревали в неё. Компьютер наведения «Гарпун» не обладает селективными свойствами, поэтому ракета поражает первую захваченную цель и как правило, выбирает б?льшую, игнорируя малые.
Все стартовавшие ракеты были одной модификации – С1. Операторы едва успевали задавать параметры атаки для ракет, пока те находились в предстартовом модуле. Собственно, для ракет модификации С1, вариантов атаки было два: либо поражение на сверхмалой высоте – от двух до пяти метров, либо ракета, перед тем как встрять в цель, выполняла малую горку – до тридцати метров. Но тут, опять же, возникали проблемы связанные с дистанцией до вражеских кораблей. У бедных «Гарпун» «мозги» вставали просто набекрень: едва выровнявшись в марше, ГСН тут же захватывала цель, компьютеры, панически высчитывая дистанцию, гнали электроны на приводы рулей и ракета взмывала в финиширующую горку уже не успевая выйти на положенный угол атаки. И тут уж либо проскочив над палубой, впивалась в воду в пугающей близости от борта корабля, либо теряла цель и уходила в поисках своей бесславной кончины самоподрыва.
Ещё одна проблема противокорабельных ракет – осколочно-фугасная боевая часть. Имея боевой заряд весом 225 килограмм, одна «Гарпун» гарантированно может уничтожать надводный корабль классом максимум до эскадренного миноносца. Что согласно заверениям разработчиков и происходило. Но летально только в двух случаях – ракеты, удачно пробив борта эсминцев под углом 45 градусов, подорвали боеукладку, разворотив малотоннажные суда. Ещё один эсминец остался на плаву, хотя и выбыл из игры, жарко пылая в районе кормы. Горели лёгкие крейсера – команды тушили пожары, вызванные догорающим топливом ракет.
Основные ракетные уколы приняли на себя крупные корабли. И тут выяснилось, что тяжёлая броня линкоров оказалась не очень-то им по зубам. Сколько-нибудь прочную преграду хвалённый «Гарпун» не пробивал, в силу малой прочности самой ракеты. А вот не сгоревшее на малом марше топливо доставляло действительно большую проблему – на японских кораблях большее количество матросов погибло не при разрывах боеголовок, а при тушении пожаров.
Порой, встретившись с бронёй под углом 30 градусов «мягкий» пластиковый обтекатель носовой части «Гарпун» набитый электроникой, расплющиваясь о металл брони, ещё больше увеличивал угол атаки. Взорвавшись, ракета лишь мяла борт, расплескав горящее топливо, цепляясь лижущим языком пламени от ватерлинии до лееров.
Примером тому служил «Нагато», буквально утыканный десятком ракет в броневой пояс по всей длине, но вполне терпимо оставаясь на плаву. Спешно затопленные погреба позволили избежать детонации и линкор, разливая топливо из пробитых цистерн, начинал крутить циркуляцию, медленно вываливаясь из строя. В довесок ещё пара «гарпунов» шлёпнулись с тридцатиметровой высоты на широко распластавшуюся палубу, вызвав разрушение в высокой надстройке и закономерные пожары.
Оглушённого Нагумо вытащили из покорёженной рубки. Он был весь покрыт копотью и кровью. Расстегнув изодранный мундир, осмотревший адмирала офицер медицинской службы, заявил, что командующий получил лишь лёгкие царапины.
Ремонт «Нагато» обещал сомнительные результаты, поэтому едва прейдя в себя, адмирал перенёс флаг на «Муцу», хотя тому тоже изрядно досталось. Линкор лишился части зенитной артиллерии в районе миделя, дымила застилая палубу изрешечённая, изорванная труба. Зияла большая дыра перед стволами главного носового калибра – взрыв БЧ ракеты чудом не повредил погреба боезапаса. Свисали рваными лохмотьями леера в носу и ошмётки якорных цепей. Лишь по прошествии сорока минут удалось локализовать обширные пожары на палубе и в многочисленных отсеках расположенных у борта.
Не ушли от внимания головок самонаведения и тяжёлые крейсера Куриты.
У крейсера «Миоко» не менее четырёх ПКР разнесли носовые башни. Полностью погибли боевые расчёты. Командир крейсера, глядя на бушующий прямо перед рубкой пожар, приказал затопить погреба.
Следом взметнулось пламя в районе румпельного отделения, и тяжёлый крейсер стал отворачивать с курса, когда ещё два «гарпуна» с минутной последовательностью ударились о борт в районе миделя. Пробив броню у ватерлинии, боевые части взорвались внутри полостей предназначенных для контрзатоплений.
«Миоко» неумолимо набирал воду.
У «Хагуро» тоже была испытана на прочность ватерлиния в районе грот-мачты и под кормовой башней. Боевая часть «Гарпун», разнесла пустующие матросские кубрики (все моряки были на боевых постах). Ещё одна прорывающаяся к важным внутренностям ракета, пробив наружный борт, теряя скорость о многочисленные переборки, рванула, измяв, но, так и не порвав металл барбета. Правда, главный инженер, осмотрев после потушенного пожара перекошенный барбет и оценив объем восстановительных работ, смачно и затейливо выругался на каких-то малазийских наречиях.
Ещё одна ракета, пробившая противоторпедную защиту, вгрызлась глубже, расколошматив кладовую. Вода хлынула в хозяйственный отсек, потушив пожар, спровоцировала пятиградусный крен, вскоре выровненный контрзатоплениями.
В крейсер «Нати» по крупному прилетело только один раз. Пробив дыру в районе кормы, затерявшись в многослойных перегородках, ракета взорвалась у первого котельного отделения. С весом её боевой части 227 кг, бронированному кораблю это, конечно как слону дробина, но крейсер сразу потерял ход, снова полыхало не сгоревшее топливо, и снова напряжённый труд противопожарных команд и новые жертвы.
«Такао» быстро тонул, пылая с носа до кормы, в то время как тяжёлый крейсер «Мая» и флагман Куриты «Кумано» фактически не пострадали.
Произвести новый ракетный залп противнику японские моряки не дали, сокращая дистанцию, осыпая эскорт авианосца десятками снарядов. На воде горели три ярких костра, плюющихся оранжевыми сгустками, разобрать, что это за корабли было невозможно. В полутора милях, «Тикандерога», объятый пламенем, лежал почти на боку, содрогаясь от дыроколов 120-мм калибра в тонкие борта, роняя за борт живое и мёртвое.
Тонуло судно обеспечения, заволакивая и без того почерневший горизонт густым дымом.
Тонул последний эсминец эскорта типа «Арли Бёрк». Получая у левого и правого борта вздымающие воду плюхи крупного калибра, этот вёрткий эсминец умудрился уничтожить два миноносца врага и подорвать торпедой лёгкий крейсер «Сендай», прежде чем канониры с «Нати» попали в борт между мостиком и разбитой 127 миллиметровой артиллеристской установкой. Снаряд калибра 203 мм пробил броню, встрял в находящуюся внутри пусковую установку и взорвался, вызвав детонацию БЧ ракет.
Высокотехнологичные, но тонкостенные скорлупки боевых эскортных кораблей все глубже уходили в тёмные глубины, сминаясь под давлением воды, разваливаясь при ударе об илистое дно.
В милях правее измочаленный фрегат УРО типа «Перри», дымящий, то ли от пожаров, то ли ставящий маскирующую завесу, с креном на правый борт пытался уйти от наседающих эскадренных миноносцев контр-адмирала Хасимото Сэндаро.
Экипаж фрегата с завидным упорством огрызался откуда-то из накрученного, изломанного металла надстроек уцелевшей «Вулкан-Фаланкс». И даже сумел выдавить из нутра череду «стандартов», разлетевшихся фактически куда попало, больше наведя шороху в небе, нежели на поверхности.
* * *
А в небе завязалась своя драка, на других скоростях, на иных реакциях, а потому скоротечная, но не менее ожесточённая.
С того момента, как японская эскадра появилась в акватории Атлантики, с линкоров и тяжёлых крейсеров запустили более двух десятков гидросамолётов.
Противопоставлять их максимальные 360 км/ч реактивной тяге и тем более сверхзвуку было бы глупо, задача экипажей – поиск подлодок и геликоптеры.
Американцы ещё в самом начале боя совершенно бездарно потеряли два «Хорнета». Бездарно для современных реактивных машин. Пилоты F-18 имели неосторожность снизиться до четырёх с половиной тысяч метров и неожиданно встретили яростный и плотный зенитный огонь. Лётчики на тот момент были совершенно не готовые к подобным сюрпризам и самолёты, измочаленные осколками 127-мм и 25-мм снарядов, кувыркаясь, ссыпались в океан.
Вторая пара воздушного патруля, благоразумно подскочила выше, черкая небо короткими полосками инверсий на виражах. Пилоты терзали системы связи, жадно вглядывались вниз – там внизу непойми что, эскадренный бой, а у них на пилонах только «воздух-воздух». И на запросы в взбесившемся эфире: «чё делать?», в ответ – хрип офицера дивизиона боевого управления: «по обстановке!».
А ниже роящиеся жуки геликоптеров, из тех которые успели взлететь, предварительно увешавшись всё теми же «гарпунами» или норвежскими «пингвинами», и снующие бабочки бипланов, отчаянно бросившихся сорвать атаку «сикорских».
Бой в небе завертелся разрозненным фрагментарным калейдоскопом: геликоптеры, рванувшие подальше от раздираемых снарядами вертолётных площадок. Охватывающие морское сражение бипланы, незамедлительно ринувшиеся им на перехват. Цепкие взгляды пилотов, огненные пулемётные строчки и зачастую переплетающиеся дымные пунктиры трассеров. Падающие сверху «хорнеты», наконец получившие команду и противника по возможностям своих «сайдуиндеров» и «спарроу». Широко открытые рты стрелков в задней кабине «митсубиси», орущих, предупреждающих: «Сзади!». И такая, издалека кажущаяся неторопливой, белая извивающаяся змея ракеты, неумолимо увязавшаяся за мечущимся самолётиком.
И конечно разлетающиеся в разные стороны плоскости, поплавки, воющие двигатели, вертящиеся волчком задымившие «сикорские», перекошенные от боли рты и пустые мёртвые глаза. И океан, равнодушно принимающий всех без разбору.
Без поддержки целеуказания американцам приходилось полагаться только на свою бортовую аппаратуру и визуальный контакт, а это снижало их боевые возможности более чем в два раза.
Пассивная инфракрасная система наведения ракет «Sparrow» и «Sidewinder» способна улавливать тепло, возникающее в процессе трения обшивки самолёта о воздушный поток. Но так то при каких скоростях!? Хотя горячие моторы и тёплый выхлоп поршневых истребителей тоже прекрасная приманка.
Японцы намеренно пилотировали настолько хаотично, ежесекундно бросая истребители по горизонталям и вертикалям, что скоростные ракеты в погоне при маневрировании достигая критических углов атаки и перегрузки, порой теряли свои цели.
Ни один из пилотов F-18 не мог достоверно заявить, что из четырёх пущенных ракет все поразили цели – сверху всё же можно было разглядеть, как дьявольски виртуозно маневрировали эти тихоходы.
Пустые внешние подвески вынуждали «шершней» совершать нырки и жалить противника из бортовых пушек, рискуя нарваться на встречную строчку с задней турели «мицубиси». А то и вообще на «полное свинство», как в сердцах проорал один из пилотов F-18, шарахаясь от взметнувшихся из дыма, застилающего поверхность океана, шальных зенитных «стандартов».
* * *
Эсминцы, наконец, оставили в покое фрегат. Американское судно, вероятно, потеряло всякое командование, уже никак не маневрируя, медленно набирало воду. Его даже не стали добивать торпедами.
Спустя двадцать минут после того как закончился обстрел, у просевшего борта фрегата замаячил надувной плотик. Корабль покинуло всего несколько человек из команды, но кто-то решил остаться на борту. На палубе мелькали люди, и можно было даже услышать громкие выкрики – оставшиеся и отплывшие спорили.
У каждой из сторон были свои вполне логичные аргументы. Обездвиженный, но оставшийся на плаву корабль был беззащитной и притягательной целью для взбесившегося неизвестного противника. В то же время болтаться посреди океана на жалком спасательном плотике фактически без надежды на помощь, тоже не радостная перспектива.
Они отплыли всего метров на тридцать, когда услышали, как «старичок» «перри» осторожно стал оживать, толкнув винтом воду.
Там в некогда таких надёжных, а теперь пугающих отсеках с приглушённым аварийным светом, видимо хватало своих упрямцев.
Теперь заспорили на плоту, кто-то не колеблясь кинулся к маленькому моторчику, намереваясь возвращаться, но не успевшую разгореться склоку прервал быстро нарастающий жуткий вой, заставивший всех вжать голову в плечи.
Скособоченный несчастный «перри» закрыли два огромных пенных столба. Когда они опали, среди клокочущей воды ещё торчала часть киля и едва вращающийся винт.
Среди обломков ни одного члена экипажа обнаружить не удалось.
* * *
Капитан Хидэо Яно хмуро смотрел, как кормовая башня совершает неторопливый поворот в походное положение. Из двух возвышающихся под небольшим углом стволов вился редеющий пороховой дым.
Залп из двух орудий не был неожиданностью, потому как перед этим канонирам пришлось довернуть башню на несколько градусов, что не осталось незамеченным.
Однако приказа открывать огонь он не давал. Впору было наказать командира башни, но как говориться победителей не судят. Хидэо Яно поднял бинокль:
«Вон он результат»!
Оптика выхватила нужный участок океана, где корабль противника быстро уходил под воду.
«Тем более понять их можно»!
Кормовые башни главного калибра всё время боя были вне сектора ведения огня и не сделали ни единого выстрела. Матросы боевого расчёта чувствовали себя обделенными – у них не было возможности поучаствовать в бою, проявить своё умение и профессиональные навыки. Поэтому когда сигнальщик разглядел в рваных клочках дыма неясный силуэт, и даже в изломанных конструкциях опознал корабль противника, канониры кормовой башни как одержимые вручную повернули её и с первого залпа накрыли цель.
Капитан снова поднял бинокль.
«Собственно уже ничего не видно. Кто-то видимо спасся – маячит оранжевым, да и демон с ними. Спасать никого не будем – хватает и без этого дел».
Несмотря на то что «Нагато» получил больше всего попаданий, линкор стоял на ровном киле. Конечно, изрядно присев в воду, но имея при этом лишь небольшой крен на левый борт и деферент на нос. Отпущенные в свободный ход винты всё медленней молотили воду,
израненный корабль стопорил ход, выводя большерадиусный круг, волоча за собой жирный дымный след.
Капитан, выбравшись в левое крыло поста управления ПВО, откуда можно было увидеть линкор почти целиком, принимая новые доклады о повреждениях, понимал, что в сложившихся условиях, без ремонтной базы, линкор придётся оставить. Однако команда продолжала бороться за живучесть, пожары то удавалось локализовать, то они вспыхивали с новой силой. Машины были в порядке, но на скорую руку залатанные пробоины в носовой части не позволили бы держать даже средний ход. Поступил доклад о неполадках в румпельном отделении. Ко всему была выбита почти вся артиллерия, включая главный калибр, казематные орудия и даже зенитные автоматы. Почти, потому что как раз вот кормовая башня Љ3, хоть и временно обесточенная, но выдала залп.
«Вероятно, это был последний залп линкора», – всё больше мрачнее подумал Хидэо Яно.
* * *
Морская битва в погоне за авианосцем уже растянулась на несколько миль. Миноносцы веером расходились в стороны, расширяя зону охвата – рассыпавшись веером, щедро посевали глубинными бомбами океан.
Наличие подводного врага не то что бы допускалась – адмирал Нагумо точно знал о привязанных к авианосному соединению подводных лодках. Это было одним из самых слабых мест в плане нападения на американскую эскадру. Акустические приборы, имеющиеся на вооружении его кораблей, не входили ни в какое сравнение с возможностями противодействия и скрытности современных субмарин.
Что в этом случае могли сделать японцы, располагая противолодочными средствами ограниченными техническими характеристиками прошлого века?
Японцы при планировании ударов по морским соединениям противника рассчитывали, что какое-то время удастся избежать масштабных контрударов со стороны подводного флота неприятеля, вызванных неразберихой в тактических соединениях и в высшем эшелоне американского командования.
Но тот же Нагумо, удовлетворённо наблюдая за очередным тонущим кораблём противника, испытывал под ложечкой ноющую тоскливую тревогу: может быть, именно сейчас какой-нибудь огромны подводный крейсер противника подкрался на дистанцию кратчайшего пути скоростной малошумной торпеды и выцеливает его корабли. Поэтому вокруг расширяющего свои границы морского сражения ходили кругами сторожевики, долбя в глубины акустическими ударами. Рыскали миноносцы, оснащённые бомбомётами и бомбосбрасывателями. К ним, по мере затухания боя присоединялись крейсера и эсминцы. Россыпи 160-килограммовых бомб периодически с интервалами, не жалея, буквально по площадям плюхались в воду, создавая эффект почти ежесекундной гидровстряски и иллюзию непрерывного прессинга противолодочными средствами. Взрыватели замедленного действия ставились на разные глубины. И пусть не эффективно, но тем, которые внизу, неизвестно какие используются средства для их обнаружения и уничтожения. Не поразить, так хоть навести страху на тех затаившихся, укрытых в стальном цилиндре, сжатом со всех сторон давлением воды, не понимающих что творится на поверхности, знающих, что их выискивают и обстреливают.
Находясь в неведенье о происходящем, без информации и команд с поверхности, командиры подводных лодок если уж не убоятся (что вряд ли для людей подобной профессии), то как минимум поведут себя более осторожно в принятии решений и контрдействий на явную агрессию чужаков.
Понятно, что будут попытки связаться со штабом, хорошо если по низкочастотной связи – а это лишнее время. Или же подвсплыв на глубину выдвигаемой антенны. В этом варианте тоже есть свои временные факторы задержки: радиообмен, обработка информации. Возможно, автономные подводники будут следовать предписанными на экстремальный случай инструкциями. Но однозначно боевую тревогу на подводных кораблях «протрубят». Вот только когда это произойдёт, и как поведут себя капитаны – на это хоть как-то, но возможно повлиять.
В какой-то степени подобная тактика сработала. Более того, подводная лодка типа «Огайо» оказавшись в зоне сброса очередной единичной бомбы, получила ощутимый, но не смертельный пинок под зад – гидроволна встряхнула корму субмарины. При этом в подшипнике вала огромного винта возник незначительный прекос, который тут же выправился, но мощная инерция вращения мгновенно выела полумиллиметровый слой металла в трущейся поверхности. Возник некоторый люфт и лёгкая вибрация, которая на слух и человеческие ощущения непрофессионалу была не заметна, но рассыпанные по лодке датчики показывали увеличение шума на несколько децибел.
* * *
В десяти милях северо-западнее в толще воды притаился, навострив уши в режиме пассивного слежения, подводный корабль, морской охотник, «морской волчара» – «Сивульф». Это была вторая атомная подводная лодка, входящая в состав авианосного соединения. Уже полчаса капитан субмарины пытался хоть что-то понять из той информации, которую на него сливали застывшие у консолей аппаратуры операторы. Источников гидроакустических шумов практически над самой лодкой было так много, и появились они настолько неожиданно, что самой правдоподобной версией их появления могли быть сброшенные с вертолётов несколько (или десятки) хитроумных изощрённых имитаторов. Вся эта гремящая по мембранам усилителей и ушным перепонкам орава, промчалась на скорости более 28 узлов над скользящей под водой субмариной. При этом промчалась пересекающимся курсом с родимым авианосным соединением!
А потом началось нечто непонятное. Контакт узконаправленной связи с «большим парнем» и его сопровождением неожиданно прервался. Вода забулькала миллионами лопающихся пузырьков, стала настолько шумной от подводных взрывов и акустических ударов, что компьютерам, взвывшим кулерами в новых натужных тональностях, пришлось изрядно потрудится, обрабатывая и классифицируя сотни акустических сигналов.
Ещё через какое-то время ребята с пальцами на кнопках, с ушами в наушниках и глазами, отражёнными в стёклах мониторов поняли – наверху идёт бой. Нет – бойня! А там свои! С одной академии, с одной казармы, с одного порта приписки! Как там, у одного русского барда? «Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой». А тут: Джон с Митчелл-стрит и Гарри с Бейкер-авеню. И долг офицера, и как не крути – контракты, требовали действий.
Да вот беда, и корабли противника, и шумы своих эсминцев и крейсеров, «прошитые» в память компьютеров узнаваемыми характеристиками – всё смешалось на близких интервалах и дистанциях не позволяющих ракету. Потому лодка в максимально бесшумном режиме пятилась, увеличивая эту треклятую дистанцию для верного захвата и пуска.
Вдарить торпедой? Так при торпедной атаке условия иные – а вдруг в своих попадёшь? Хотя современный уровень системы самонаведения торпед позволял и в них «вбить» шумовые «портреты» своих кораблей. А чтоб наверняка не зацепить «тикондерогу» или «арли бёрка», хорошо бы держать «Mk-48» на узде тонкого провода телеуправления.
А ещё выводит из себя, нервирует и бесит, скребущий по зализанному корпусу лодки неклассифицируемый луч сонара. Рыскает, вынюхивает в опасной близости, тарахтя раздолбанным ротором турбины, чужой враждебный корабль. И часто шлёпают в воду бочонки, что бы потом гулко бухнуть, ударить плотными, расходящимися волнами неподвластными сжатию молекулами Н2О. Одно успокаивает – бомбардировка происходит в полуторакилометровом удалении от затаившейся подлодки. Кого они там гоняют?
«Сивульф» почти неслышно скользил в толще воды. Глубина – 300, скорость – 5 узлов. Контрпеленг – на скопище кораблей, своих и чужих.
– Сэр, цель Љ1. Пеленг – 90. Работа активного гидролокатора. Дистанция прежняя, – прозвучал очередной доклад.
Непонятный корабль, классом примерно с эсминец, совершал необъяснимые с логической точки зрения эволюции.
Видимо этот эсминец снова сбросил бомбу, потому что оператор предупреждающе поднял палец. Через минуту, он кивнул на вопрошающий взгляд дежурного офицера:
– Снова жахнул. Кого они там долбят? – Не замечая, что уже раз двадцатый задаёт этот вопрос, промолвил оператор.
Вскоре акустики стали докладывать об изменении обстановки.
Благодаря семи акустическим антеннам атомоход типа «Сивульф» способен обнаруживать, классифицировать и отслеживать до 1800 акустических контактов. Однако по понятным причинам капитан подлодки воздерживался от ракетного и торпедного удара. Сейчас же операторы уже чётко выделяли несколько объектов для атаки. Одним из которых, кстати, оказалась подводная лодка типа «Огайо». Полученные повреждения вала винта изменили её акустический почерк, компьютер не нашёл соответствия, логично посчитав её неприятельской, и метка, на цифровом дисплейном индикаторе пульта командира, обозначавшая подводный объект мигала враждебным цветом.
– Ввести данные! – Наконец решился капитан.
Быстро замелькали на кнопках пальцы, отстукивая цифровые данные – перед пуском в «мозги» торпеды вводились установочные параметры: программа поиска, генеральный курс, первичная глубина хода, режим работы системы самонаведения.
Открылись крышки торпедных аппаратов. Пуск для снижения шумности осуществлялся самовыходом – двигатель торпеды запускается в торпедном аппарате.
Совершив нырок на маршевые 45 метров, сигарообразные убийцы шли с малошумной скоростью 30 узлов в режиме телеуправления – по тонкому проводу оператор отдавал команды, производя корректировку в быстро изменяющейся ситуации. Торпеда рассекала воду, раскинув перед собой гидроакустические щупальца, послушно передавая данные оператору, и тот чётко отслеживал взаимном положении торпеды и цели.
* * *
Застопорив машины, «Нагато» дрейфовал. Капитан приказал опуститься в воду водолазам осмотреть повреждённые рули и инженерные команды снаряжали водолазов для осмотра рулевых механизмов. Здоровенная кораблина качалась на волнах, испуская дым не затушенных пожаров и холостых выдохов из дымовых труб паротурбинных установок.
Скопище кораблей участвовавших в морском сражении постоянно смещалось, удаляясь в восточном направлении со средней скоростью 20 узлов в час, оставив повреждённый линкор в одиночестве.
К нему для прикрытия и помощи уже спешили крейсер и эсминец.
В миле сторожевой противолодочный корабль класса эсминца продолжал выписывать циркуляции, просеивая отведённый ему куб воды сетью импульсов гидролокатора, периодически сбрасывая в воду глубинные бомбы.
* * *
– Сэр, цель! Пеленг – 136, дистанция – четыре тысячи, – доложил оператор «поста Љ3».
– Обозначить!
– Не классифицируется.
– Всплыть до пятидесяти! – Командир подлодки всё же ожидал торпедной атаки, поэтому заучено уходил на сверхмалую глубину.
Осторожничавшего капитана всё время подмывало поднять лодку на перископную глубину. Всплытие проходило поэтапно: «Сивульф» поднялся ещё на пять – семь метров и замирал, прислушиваясь, «принюхиваясь» чувствительной аппаратурой. В конце концов, над водой высунулся штырь антенны установленной в надстройке радиолокационной станции. Медленно раздвигалась многофункциональная телескопическая мачта с телекамерой на конце. По волоконно-оптическому кабелю стало поступать изображение на экран в центральном посту.
– Господи! Что это за чудовище? – Прорезалось у кого-то из офицеров, разглядевшего угловатые, задымленные, закопчённые надстройки линкора, а главное башни с торчащими под разным углом стволами крупного калибра.
– Сэр! Докладывает «пост Љ7». Цель! Пеленг – 190! Дистанция – четыре пятьсот! Цель двойная! Курс нулевой! Скорость – двадцать узлов!
Быстрый взгляд – низкие профили. Тоже боевые! Дым из труб, густой и чёрный, лежит почти горизонтально.
– На угле они, что ли катают по воде? – Озадаченно пробормотал капитан. В голове у него уже полчаса формироваться некая мысль, но он не как не мог её подвести к одному знаменателю.
– Атака! Цель надводная!
Среди людей прошло снимавшее напряжение шевеление. Напряжённые парни за консолями гудящей охладителями аппаратуры поочерёдно проорали:
– Есть захват!
– Захват!
– Дублёр!
– Дублёр два!
– Разрешение на пуск?
– Пуск! – Выдохнул капитан.
– «Первая», «вторая» пошли! – Стараясь не выдать волнения, булькал в микрофон, скукожившийся над клавиатурой и дисплеем офицер.
– «Третья» – старт! – Не желал повторяться оператор за седьмой консолью.
– Торпеда «четыре» вышла!
Все в командном центре довольно ощерились, но улыбки мигом слетели с лиц офицеров. На пульте РЛС, предназначенная для обнаружения надводных целей, запищали предупредительные сигналы.
– Воздушная, низколетящая! – Сразу определил оператор.
– Срочное погружение, – капитан клял свою самонадеянность – всплывая, он рисковал. Теперь на них скорей всего выходил противолодочный вертолёт. Лодка срочно предпринимала манёвр уклонения. Из торпедного аппарата выскользнул самоходный гидроакустический имитатор. Готовилась к старту противоторпеда.
* * *
Опытный лётчик разведывательного биплана вёл самолёт над самой водой. Высота колебалась от девяти до двенадцати метров. Сзади скрючился стрелок, следящий за показанием магнитного обнаружителя, но не брезгующий и визуальным наблюдением. Однако именно пилот заметил мелькнувший под кокпитом тёмный здоровенный вытянутый силуэт, укрытый всего несколькими метрами воды.
Заложив вираж, «митсубиси» возвращался к обозначенному месту. Одновременно передавались координаты обнаруженной подводной лодки.
Сигнал приняли. Крейсер и эсминец, идущие на помощь линкору, оперативно изменили курс, выстраиваясь во фронт. Тонко пропели тревогу свистки боцманов. Муравьями суетились матросы на корме, ворочая тяжёлыми бочонками – команды готовились произвести бомбометание. Мичман, преисполненный собственного достоинства от важности его работы, гаечным ключом вручную выставлял глубину подрыва.
В это время две 68-килограммовые бомбы сорвались с внешних подвесок гидросамолёта. Взрыватели замедленного действия, установленные на глубину 45 метров, дождались нужного давления. Вырвавшиеся газы вмиг, расталкивая в разные стороны упрямую воду, нашли самый лёгкий путь – наверх, подбросив над океаном невысокие пенные всплески.
* * *
Лодки конечно там уже не было. Хаотично меняя курс и глубину, «Сивульф» словно поджавший хвост шакал, срочно убирался с места обнаружения.
Не понятно, что послужило обрыву кабелей управления, резкие манёвры подлодки или две взорвавшиеся бомбы, но телеуправление торпедами было неожиданно прервано. Однако все торпеды были заранее запрограммированы на переход в режим самонаведения по данным бортовых систем.