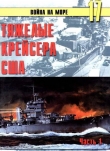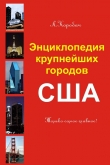Текст книги "Последний довод павших или лепестки жёлтой хризантемы на воде(СИ)"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 54 страниц)
Две универсальные «Мк 48» после обнаружения и захвата цели по команде бортовой ЭВМ включили максимальную скорость (60 уз) и, перейдя в режим активного самонаведения, устремились в атаку.
«Mk-48» всех модификаций имеют большую шумность и могут отслеживаться на всём пути движения, однако на «Огайо» спохватились слишком поздно. Одну торпеду удалось увести имитатором. Против второй в последний момент ударили прицельной помехой, но…
На глубине 250 метров, проходя вровень с высоким наростом рубки, торпеда взорвалась. Удар буквально толкнул подводный корабль вниз в бесконтрольную потерю глубины. За две минуты «Огайо» буквально «упала» на 600 метров. Ужасное давление усердно и причудливо сминало, выгибало, плющило металл, размазывая о стены, убивая более хрупкую живую субстанцию.
* * *
С двумя торпедами предназначенными линкору после обрыва кабеля ничего не произошло – дистанция минимальная, цель прямо по пеленгу. Врубив активное наведение, успев ускориться лишь до 43 узлов, за минуту преодолев последние полтора километра, они ударились под углом 45 градусов на два с половиной метра ниже ватерлинии с разносом пять метров. Казалось, что от удара линкор подпрыгнул.
Совокупное кумулятивно-фугасное БЧ пробив броневой пояс, вырвали огромный кусок борта, переборки проломило на глубину 13 метров, куда и хлынул океан. Содрогаясь от взрывов где-то внутри огромной туши, выбрасывая в небо языки пламени, испуская из чрева жирный чёрный дым, медленно с креном на правый борт и деферентом на корму, «Нагато» неизбежно тонул.
Две торпеды-универсалки нацеленные на меньшие корабли – крейсер и эсминец, потеряв командное наведение с подлодки, так же включили головки самонаведения.
Гидроакустические преобразователи, установленные в самом носу торпед, послали узкий луч, но корабли не засекли – те резко сменили курс. Тут же включилась программа «змейка» – торпеды с допустимыми отклонениями от генерального курса начала поиск. Одна «хищница», совершая циркуляцию приняла отражённый сигнал с уже полузатопленного «Нагато». Вытолкнув из хвостовой части пузырящиеся массы, «Мк 48» ломанулась добивать линкор.
У второй с поиском цели вышла заминка. Порыскав на малой скорости – она скользнула лучом по кильватерному следу эсминца. По отражению определив направление, устремилась вдогонку. Затем перенацелилась на более крупный крейсер. Выходя на линию атаки, ускорившаяся сигара меняла глубину на меньшую, заходя с кормы.
* * *
На крейсере скинули первую пару глубинных бомб. Не дожидаясь результата, мичман уже двигал флажком, выставляя на следующей паре другую глубину подрыва. Перекрикивая кильватерный шум, проорал команду «Сброс!» – матросы, громыхая, покатили бочонки бомб по направляющим к кормовому срезу. Сзади ухнули первые взрывы. Неожиданно из воды вместе с пенистым трёхпалым выбросом, выскочила сигара длиною не меньше пяти метров. Подброшенная силой взрыва, ставшая вертикально, словно испугавшись, что её обнаружили, торпеда тут же нырнула носом вниз, навстречу следующей детонации.
Мичман, докладывая капитану крейсера о происшествии, предположил по силе взрыва, что чужая торпеда скорей всего взорвалась от ударной волны глубинных бомб.
* * *
Капитан американской подлодки, не имея понятия с какими силами столкнулся, предпочёл убраться подальше от места атаки. Что бы там не произошло наверху, разумно считая, что сила субмарины в скрытности, он решил выждать, внимательно перечитывая формуляры с инструкциями, надеясь на поступление новой информации по низкочастотной связи от командования, донимая каждые пять минут акустический пост, требуя докладов по обстановке в данном секторе.
* * *
Авианосец уходил. Две торпеды, пробившие противоторпедную защиту правого борта, не смогли серьёзно повлиять на его скорость. На взлётной палубе и где-то в отсеках продолжало полыхать. Корма превратилась в хаотичное нагромождение металла, и только пара уцелевших носовых орудий правого и левого борта ещё отгавкивались от наседающих эсминцев.
Нагумо, решив, что надолго вывел его из строя и задача выполнена, скомандовал отбой, хотя видел недовольство капитана линкора и старших офицеров, рвавшихся бой.
«Интересно, закроет ли нас эта облачность? – С интересом, глядя в небо, задался вопросом адмирал, – для нас это небо будущего, утыканное спутниками слежения, пронизанное лучами мощнейших локаторов, невидимыми там за облаками самолётами и самонаводящимися ракетами.
И этот океан, такой похожий на те, в которых доводилось плавать ему, но не менее опасный совершеннейшими гидроакустическими сонарами и рыскающими торпедами, нашпигованными умной электроникой, которая легко обнаруживает и уничтожает.
Этот мир раскрылся перед ними словно вот этот безбрежный и своенравный океан. Зачем они появились тут и если в этом какой-то смысл? Здесь, в Тихом, где-то в Нью-Йорке и Гротоне, в Филадельфии и на Аляске? Смогут ли они что-то внести в этот мир, что-то изменить? Или их след раствориться во времени, как вот эта кильватерная полоса за линкором, постепенно исчезающая на волнах»?
– Боги на нашей стороне! Боги на нашей стороне! – Почти как заклинание прошептал Нагумо и даже непроизвольно дёрнул кистями рук, желая хлопнуть в ладоши, призывая внимание богов.
«Старость – возраст суеверий», – с лёгкой горечью улыбнулся адмирал, познавший свои «пятьдесят семь».
Вполоборота повернувшись к командиру корабля, Нагумо дождался пока тот отставит переговорное устройство:
– Мы изрядно разворошили осиное гнездо. Надо спасти, кого ещё можно спасти, добить свои покалеченные суда и срочно покидать этот сектор. Надо опасался скорого ответного удара. Мне не дают покоя исчезнувшие неприятельские подлодки, нет никаких гарантий, что их удалось поразить.
Капитан молча склонил голову в учтивом полупоклоне.
– Я спущусь в каюту, доклады отправляйте туда.
Капитан кивнул, продолжая почтительно молчать.
Адмирал слегка замешкался и уже у самого выхода обернулся:
– Учитывая современные средства связи и оповещения, – Нагумо сменил сухой тон на более мягкий, – представляю, что сейчас творится во всех военных структурах и ведомствах США.
– И не только, – согласился капитан, наконец, улыбнувшись, – и в прежние времена нечто подобное вызвало бы неразбериху, а то и панику.
Через полтора часа первые, более скоростные эсминцы эскадры, уже достигли точки рандеву с кораблями обеспечения и спешно пополняли запасы топлива и боеприпасов. Вслед за ними подтягивались остальные корабли.
Просматривая фотографии и плёнки (японцы старались всё тщательно зафиксировать на кинокамеры), оценивая потери, Нагумо удивило их соотношение. Оно не превышало, например, в сравнении с битвой в Коралловом море.
Однако рапорты продолжали поступать, и довольно неутешительные – многие оставшиеся на плаву корабли в разной степени утратили боевые и ходовые возможности.
Опытный адмирал изначально настроенный на реалии, с лёгкой неприязнью наблюдал на лице офицера связи широкую гамму человеческих чувств: от сияющего и гордого, после одержанной победы, до хмурого расстройства, недоумения, а то и просто мальчишеской обиды, когда поступил доклад от Куриты, что часть кораблей не выдержат эскадренного хода и их придётся затопить.
«А что хотели эти молодые выскочки-оптимисты? Учитывая, что один крейсер типа „Тикондероги“ мог перетопить все наши корабли (конечно при более благоприятных обстоятельствах) – тем не менее, бой выигран».
Хотя эта победа вызывал у Нагумо двоякое чувство. С одной стороны удовлетворение, с другой состояние дежавю – та война начиналась похоже. Победы в начале и горькие поражения потом.
В дверь кают-компании постучали.
– Войдите, – прервал свои размышления адмирал.
– Прибыли капитаны судов снабжения и танкера, – доложил штаб-офицер.
Кивнув, разрешая офицерам войти, Нагумо подготовил пакеты документов для капитанов.
– Прошу садитесь, пожалуйста, – сделал он пригласительный жест, и когда офицеры расселись,
продолжил, обратившись к капитану «Бансю Мару Љ 3».
– Сейчас на ваше судно грузят раненых моряков. Вам надлежит следовать в ближайший европейский порт, определить наших людей в госпиталь. Скорей всего это будет Испания или Португалия – союзники Соединённых Штатов. На вас будет оказываться давление, обращайтесь в Красный крест, к прессе, в посольство Японии, куда угодно лишь бы уберечь наших раненых людей от допросов и прессинга.
Ещё вам нужно будет переправить эти материалы, – адмирал указал на плёнки и фотографии, – постарайтесь, чтобы они не попали американским военным.
– Вы, господа, – Нагумо повернулся другим офицерам, – попытайтесь добраться до нейтральных берегов, а возможно и до Японии. Места рандеву с кораблями обеспечения указаны в пакетах с документами. Путь не близкий, но у вас достаточно топлива и провизии. Вы так же можете столкнуться с кораблями противника, поэтому приказываю всем избавиться от вооружения, для вас война кончилась. Вы понимаете, что надо будет сделать с любыми секретными документами при досмотре ваших кораблей призовыми командами неприятеля. Удачи вам всем, возможно многие из вас вскоре увидят Японию.
За всё время боя Нагумо ни разу не посмотрел на часы. Он и сам не знал почему. Может из-за того что теперь для него время предстало в другом свете и потеряло свою сущность некой неизменной константы. Всё время боя было скручено упругим жгутом ежесекундной важности каждого мгновенья и ему просто некогда было отвлечься на различные второстепенные мысли. Только сейчас он позволил полновесно определиться вопросу, который нет, нет, но всплывал в голове: где, же линкор «Ямато»?
По его поручению были опрошены сигнальщики почти всех кораблей участвовавших в сражении – ни кто не видел линкор даже в отдалении. Был даже отослан условный короткий (и безответный) радиосигнал запроса.
– Странно, – задумчиво потёр подбородок Нагумо, – хотя, что мы можем знать обо всех сложностях этого мира и нашего необычного появления в нём.
Фантазии и вариации по теме.
Вселенная словно лес задремавший,
Словно старый корабль уставший,
Скрипит…, да нет! Стонет своим такелажем!
И слушаю я – а вдруг что-то расскажет…
Вселенная это математика. Всё сущее: движение планет по орбитам, круговорот воды в природе, биохимические процессы в организме человека – это математика. В конце концов, все необъяснимые явления природы, включая ещё не до конца осмысленные, уложатся в точные математические цифры.
Физикам в этом отношении и проще и сложней. С одной стороны они первопроходцы в попытках объяснить неведомое. С другой – у них почти всегда есть широкое поле для отступления. Физики бьются над своими гипотезами, выстраивая формулы и выдвигая теории, а с появлением новых данных меняют свои же выводы на новые, порой диаметрально противоположные ранее доказанным. В математике так не побалуешь, там всё точно.
Физики порой злорадствуют, козыряя заковыристостью парадоксов, оригинальничая фразами типа «дважды два не всегда четыре». Математики лишь посмеиваются в усы – ожидая, когда появятся новые факторы и заковыристость впишется в чёткое математическое построение, ещё раз подтвердив, что всё в этой сложной, с кучей переменных Вселенной подчиняется определённой логике.
Появление Императорского флота и армии из прошлого вопреки всем известным человеческим постулатам тоже не могло нарушить Великого Закона мироздания. А если учитывать что акция была спланированная, то и эта аномалия вписывалась в канву определенного расчёта.
Почему «определённого»? Повторимся – потому что Вселенная чертовски сложная и переменчивая (пусть и в рамках закона) структура.
И даже если кто-то взмахнул волшебной палочкой, торжественно заявив: «по моему велению, по моему хотению», наверняка тем самым он задействовал невероятные силы и возможности.
И можно себе представить и нафантазировать, как в сгораемых квазарах высвобождались мегатонны энергии, кипел горячий и вихрился холодный синтез, происходил перенос энергии и материи. Цеплялись друг за дружку атомы, завязывая кристаллические решётки, формируя тонны стали водоизмещений и легированных хоботов орудий. Кипели, испарялись и конденсировались продукты углеводородов, бродили в химических реагентах соединения тринитротолуола. И так далее, от простого к сложному, заканчивая завивающимися в спирали жгутиками ДНК так называемого «венца природы».
Скажете невозможно?! Дескать, нужны миллионы лет эволюции, скачки мутаций и даже вполне допустимо – кропотливый труд селекций!? А почему нет? Ведь, например, если для кого-то нарисовать…, хм, допустим, лошадь – это долгий труд, учёба и терпение, то для иного пара секунд для наброска.
Ну, а если всё происходило в стиле научной фантастики, то в каком-нибудь далёком будущем или высокоразвитом параллельном пространстве, запущенная на полную мощность фабрика по клонированию, конвейером фигачит эксклюзивную продукцию, а парни из хроноинститута или межпространственного отдела в поте лица таскают полные авоськи образцов ДНК и запечатанные банки с высвободившимися и не успевшими воспарить душами. Тоже вариант! Тут уж без компьютерных расчётов и Её Величества Математики вообще никак.
Так или иначе, скрипнула на очередном повороте, закряхтела машина вселенной, нечаянно схлопывая какого-нибудь потяжелевшего красного карлика в чёрную дыру. Случайно отвлечётся кто-нибудь из «людей в чёрном», путая маркировку генетического образца и запотевшей спиритической банки. Взглянет удивлённо великий маг на бегущего по волшебной палочке сытого древесного жучка (хотя тут уместней помянуть, зная религиозные предпочтения засланцев из прошлого, японскую маму Аматерасу). И….
И сбились точные настройки изменения реальности, пройдясь судорогами по столетьям-парсекам. И в результате многотонная махина суперлинкора «Ямато» с экипажем затерялась где-то в пространственно-временных вихрях.
На самом деле ненадолго. Сработали какие-то предохранители. И «Ямато» словно отстоявшись в дрейфе на запасных путях вневременья, вынырнул в реальность, возможно оставив за кормой и горы царя Эмма, и райские кущи, и далёкое загоризонтное зарево врат ада.
Система стабилизировалась. Однако произошёл некоторый откат. Учитывая природу и аномальный характер событий, одним примитивным законом сохранения энергии не обошлось – по земному шару прошлась лёгкая паранормальная волна, которую отслеживали теперь не только энтузиасты-любители, фанаты от паранауки, но и вполне серьёзные госструктуры.
Зафиксированные феномены были классифицированы церковным словечком – не иначе как «одержимость».
Одержимость.
Первые ощущения были скорее тактильными. Пришедшие из периферийных участков нервных окончаний, они привнесли признаки дискомфорта и ещё одно доказательство к Декартовскому, что он существует. Что интересно мозг работал очень быстро и ясно – ни что не отвлекало, потому что он ничего не видел, не слышал, не говоря уж об обонянии. Да что там обонянии! Оказавшись, словно в полной пустоте, Павел отметил отсутствие даже шума тока крови в ушах, а так же ещё массы естественных функциональных проявлений человеческого организма, привычных и зачастую почти не замечаемых. Ко всей этой физической пугающей немоте примешивалось давящее чувство обиды о чём-то утерянном, что уже вроде бы держал прижавши к груди, но вот оно нечаянно выпадает из рук, вдребезги разбиваясь, ломая всю жизнь….Стоп! Жизнь! Да его же…, он даже в мыслях боялся себе это сказать. Меня же убили! Ещё раз стоп! Если я мыслю – значит… меня вытащили и я больнице, госпитале, возможно в коме. А вдруг я всё ещё лежу бесчувственный и брошенный в этом проклятом ущелье?
Попытки взять под контроль непослушное и, казалось, занемевшее тело давалась с трудом, но привели к закономерной прогрессии. Удалось поёрзать задом (снять тупое давление в бок) и слегка сдвинуть зудящую ногу, чуть разжать что-то удерживающую кисть руки. И сразу же лавиной в уши врезался звук: донеслось хлюпанье воды, рокот работающего двигателя, тихое сопение десятка человек и голос над самым ухом что-то буркнули на чужом, но смутно знакомом языке. Щёки почувствовали движение свежего морского ветра, нос раздражал запах людского пота, машинной смазки, гари выхлопа двигателя. В руке опять оказался кем-то подсунутый предмет, и он как ребёнок с инстинктом всё хватать, тут же сжал ладонь.
Павел вдруг понял, что стоит на ногах зажатый со всех сторон людьми. И видимо только это не давало ему свалиться. Показалось, что его даже слегка придерживали. Над ухом снова раздалось гневное шипение, и он попытался твёрже стать на ноги. Оказалось, что и зрение вернулось – он просто открыл глаза.
В полумраке его окружали лица азиатов с поблёскивающими глазами. Нашивки на плотно застёгнутых воротниках, кто в кепи, на ком-то матово отсвечивающие каски – солдаты? Приглядевшись, он увидел и оружие. Солдаты. Опустив голову, едва не наткнулся на дуло винтовки, которую держал и сам.
Что за чертовщина!?
«Всё-таки операционный стол, – сделал он вывод, – и эта, судя по всему водоплавающая лохань с набитыми, словно селёдки в банке азиатами – глюки анестезии? Потому то и тело такое, вроде бы и непослушное, но какое-то лёгкое, словно у подростка. Ну, точно – какой-то он маленький».
Предположение что та скоротечная схватка в горах приснилась, привиделась или пьяный бред, отвергалось сразу, потому что было очень больно и… очень реально.
«Из чего он (этот америкос) там садил почти в упор»?
Пистолетик с глушителем, слабенький – пули грудь пробили, в рёбрах застряли, боль жуткая, а сознание, что странно, не потерял. И в мозгу до сих пор сидела картинка чёрного зрачка пистолета и вспышка (прямо в глаза) контрольного выстрела. По идее сейчас в его мозгу должна сидеть пуля.
«Значить промазал гад!? Поэтому эти самураи…. Опять – стоп! Точно! Язык-то японский! Ну, с японцами всё понятно, – он даже успокоился, – глюки навеяны двумя курсами Института Востоковеденья ещё в далёком Союзе и, несомненно, частыми прошлогодними поездками в страну сакуры и высоких технологий, ну и вероятно посещениями пары интернетовских исторических форумов по интересам.
Оттуда и практика. Язык он знал, конечно, не на примитивном – „конитива“ и „аригато“, но…. Что этот сопящий сосед ему шикнул? Разобрать только удалось нечто похожее на раифуру… Винтовка? Скорей всего так и есть – я выронил оружие, а он мне его в руку опять сунул. Ругался при этом наверняка на меня растяпу».
Ещё раз посмотрел на тускло поблёскивающий металл, основательно прописавшийся в ладони.
«„Арисака“? Тьфу ты чёрт! Если это фторотановые видения, чего я так цепляюсь»?
Он уже по-другому взглянул на окружающую его обстановку. Над головой клубилась хмарь, подсвеченная странными блуждающими красноватыми бликами. От этого полумрака лица японских солдат приобрели зловещий, просто дьявольский вид. Они все возбуждённо шумно дышали, глаза не просто поблёскивали, казалось, они горят в ожидании схватки.
«Вот сейчас будет мне просмотр высадки на какую-нибудь Окинаву с эффектом присутствия».
Ему словно передалось их взвинченное настроение, добавив смутной тревоги к и без того стойкому и не проходящему ощущению утраты. Утраты чего-то такого комфортного и важного. Словно ты ел что-то вкусное, смакуя, а самые лучшие кусочки откладывал на финал трапезы. А кто-то подошёл неожиданно и смахнул самое лакомое с тарелки. И ты больше досадуешь не на то, что отобрали вкусности – украли предвкушение.
«А может всё-таки не было ничего»?
Он попытался поэтапно вспомнить все предвосхищающие события, но дизельно тарахтящий движок вдруг сменил тональность. Стала падать скорость. Прозвучала гортанная команда. Он даже смог разобрать слово: «сэнтоу» – сражение.
«Ага! Значить „приготовиться к бою!“».
Толчок всех качнул вперёд, и уже в полный голос прозвучала команда: «Вперёд!».
Пашку просто вынесло вместе со всеми. Хлюпала вода, он не видел даже куда ступает, а когда солдаты рассеялись, и исчезло чувство локтя, опять случилось непонятное – ноги подкосились, и он просто свалился на землю.
Попытки встать были похожи на неумелое хождение на ходулях или первая проба велосипеда – понимаешь куда нажимать и куда рулить, но один чёрт валишься.
Обидный пинок под зад, оказался чудодейственным стимулятором – вскочив ответить обидчику, Пашка вдруг понял, что прекрасно держит равновесие. А офицер, подгоняя отставших солдат, уже даже не обращал на него внимания.
– Ни хрена это не Окинава, и на Россию не похоже, – удивлённо пробормотал Пашка, припуская за всеми, непроизвольно втягиваясь в игру.
Континентальная операция. 28 октября. Утро. 05. 30.
Ударные силы флота, задействованные у берегов континентальной части Америки, насчитывали более двадцати пяти авианосцев, включая лёгкие, эскортные, а так же различные транспорты для самолётов. Общее авиакрыло палубной авиации насчитывало более полутора тысяч самолётов. На тринадцати гидроавиатранспортах включённых в состав флота, находилось от 8-ми до 20-ти гидросамолётов. Ещё 35 переоборудованных тральщиков перевозили по 2 самолёта взлетающих с воды. Общее количество гидросамолётов дотягивало до 800 единиц.
Линейный флот представляли 2 линкора, 6 тяжёлых и 13 лёгких крейсера, 25 эсминцев, 15 морских охотников. Так же больше семи десятков канонерок, патрульных кораблей, вооружённых яхт и различных вспомогательных судов, которые принимали участие, как в высадке десанта, так и подавлении огневых точек (не глубокая осадка позволяла им мобильно действовать в акваториях многочисленных рек и заливов на восточном побережье).
Угрюмо очерченная стальными обводами и щетиной стволов, черным дымом из труб и белыми бурунами форштевней, стальная армада угрожающе нарисовалась у восточных берегов Америки.
* * *
Для успешного удара по военным объектам, заранее с подводных лодок были высажены диверсанты-корректировщики, которые свето– и радиосигналами наводили ударные самолёты, а также проводили корректировку артиллеристского огня. Для доставки к удалённым объектам использовались гидросамолёты с подводных авианосцев. Наводчик сбрасывался с парашютом на безопасно допустимом расстоянии от военной базы, преодолевая дальнейший путь пешком.
План сухопутной операции предполагал развёртывание основных сил по четырём направлениям.
Зона высадки – район Норфолка, Вашингтона, Нью-Йорка, и северней – Ньюпорт и Гротон.
Для высадки более полумиллионного контингента, вооружения, автотранспорта, бронетехники, боеприпасов, провианта, ремонтных мастерских были задействовано десятки грузовых судов, транспортных кораблей и переоборудованных танкеров. Прибрежные воды в местах десантирования кишели нагруженными войсками тральщиками, канонерками, вооружёнными яхтами, патрульными кораблями и катерами. Особая спецификация задач была у транспортных подводных лодок.
В районах десанта основных сил, диверсионные подразделения из специальных наземных сил флота и армии, скрытно высаживались и рассредоточивались у ключевых объектов (полицейских участков, оружейных магазинов, центров связи, линий коммуникаций) в ожидании часа «Икс».
Далее, силами воздушных армий с авианосцев, при поддержке артиллерии линейных кораблей наносится удар по средствам ПВО, военно-морским и воздушным базам, местам дислокации армейских корпусов, военным городкам. Парашютный десант высаживался для связывания боем гарнизонов неприятеля до подхода основных сил. Также парашютно-десантные войска занимали стратегически важные аэродромы.
Целью 19 тысяч солдат из состава 35-й армии генерала Судзуки, усиленных моряками из НСФ, являлась военно-морская база Гротон и пункт базирования ВМС Ньюпорт. Операцией в Ньюпорте руководил генерал-лейтенант Масамо Мураяма.
Генерал-лейтенант Мицуру Усидзима командовал силами в 154 тысячи человек (З2-я армия). Зона их действия – акватория Чесапикского залива. Им надлежало нанести удар по военному городку сухопутных сил Форт-Стори. Совместно с флотом уничтожить военно-морскую базу Литл-Крик. При этом основной удар флота наносится по кораблям в Норфолке.
17 армия генерала Хиякутаке (129 тысяч) высаживается в районе Нью-Йорка. В её задачу входил полномасштабный захват города при поддержке авиации и флота, так же военной базы в Бруклине и пункта базирования ВМС Йерли. Часть сил перебрасывалась в Нью-Джерси для нанесения удара по военной базе Мак-Гвайр-Дикс-Лейкхерст.
18-я армия генерал Ямасита направлялась 148 тысячным контингентом в сторону Вашингтона. В её планах: уничтожение пункта базирования ВМС (штат Мэрилэнд в районе города Аннаполис), база морской авиации Эндрюс в 24-х километров к юго-востоку от Вашингтона. Так же военный городок морской пехоты ВМС Хендерсон-Холл и объединённая база Анакостия-Боллинг. Захват города Вашингтона имеет ещё и психологический эффект.
Нумерацию армий можно считать условной и сохранённой японским штабом для удобства планирования.
В это время, основные силы флота, поделённые на три эскадры атакуют военно-морские соединения США в Атлантическом и Тихом океанах.
Эскадра вице-адмирала Ибо Такахаси наносит удар по группе кораблей во главе с авианосцем «Джордж Буш» в северной Атлантике.
Соединение адмирала Ямамото атакует авианосец «Энтерпрайз» с кораблями эскорта патрулирующих сектор Атлантического океана на несколько сот миль южнее.
Вице-адмирал Дзисабуро Одзава в Тихом океане проводит операцию по нанесению максимального вреда кораблям 3-го и 7-го флотов ВМС США.
Восточнее побережье Америки. Ньюпорт. Гротон.
Вход в устье реки Темс, что в штате Коннектекут, в виду наличия большого количества военных баз, был под плотным наблюдением береговой охраны и системой автоматического контроля. Диверсанты с миниподлодок выходили на берег на изрядном удалении и уже пешком двигались к объектам береговой обороны. Так же по плану японского оперативного командования транспортные субмарины в надводном положении, не таясь, выдавая себя за американские подлодки, должны были высадить десант во внутренних гаванях. Акции были рассчитано так, что если их и засекут, времени поднять тревогу у американцев не останется – основные силы будут уже в атаке. Но успешное выполнение этой задумки, не смотря на долгое планирование, естественно зависело от американского ротозейства, неожиданности и конечно удачи.
Подлодке I-361 капитана 3 ранга Синобу Эндо удалось за счёт этой наглости пройти от Лонг-Айленда уже более мили вверх по реке. Позади остались верфи «Электрик Бот». Лодка прошла под автомобильным и железнодорожным мостом и по левому берегу показались причалы академии. Мимо лодки неоднократно проходили катера береговой охраны. Капитан хоть и не различал, что творится на их борту, но по каким-то неуловимым признакам, а может в силу предвзятой настороженности ему казалось, что японская лодка не вписывалась в налаженную логистику речного судоходства.
Посчитав, что больше рисковать нельзя, (в полумиле были уже видны огни главной гавани базирования американских ПЛ) он приказал высадить десант на двух ботах. Разглядев в бинокль берег, покрытый ещё не осыпавшимися листьями деревьев и кустарника, он удовлетворённо подумал о дальнейшей скрытности отряда. Потом развернувшись, оценил расстояние до маячивших навигационными огоньками катеров, спешащих в его сторону, и быстро скомандовал погружение.
Пройдя по расчётам ещё не меньше полутора миль, осмотревшись в перископ (активность береговой охраны наблюдалась по-прежнему ниже по течению), капитан подвёл лодку ближе к берегу, пока она днищем не заскребла по дну реки.
Второй десантный отряд на надувных шлюпках, ускоренно переправился на берег. Капитан посмотрел на хронометр: до часа «Икс» оставалось тридцать минут – лодка, всплывая, не торопясь двинулась по фарватеру к причалам. Моряки, шлёпая по влажной палубе, готовили 140-мм орудие и две 25-мм автоматические пушки к бою.
Особой паники в управлении береговой охраны американцев не возникло. Существующая система безопасности подверглась испытанию на человеческий фактор и проиграла. Но когда патрульный катер возвращался к причалам станции, один из матросов напомнив капитану о странной надстройке у подлодки, вдруг задал вопрос:
– А куда она делась, чёрт её подери? Однозначно мимо нас бы проплыла?.
Вот после этого и началась вся суета. Связались с командованием базы – дежурный офицер просмотрел графики и планы, отзвонился по инстанциям. И когда неординарность ситуации обозначилась и в глазах у дежурного вместо недоумения стала пробиваться паника, с катеров доложили, что лодка обнаружилась. Тем не менее, вышестоящее начальство было разбужено, персонал базы кто нехотя, кто активней зашевелился.
Но время уже было 5 часов 25 минут и на авианосцах «Сёхё», «Чийода», «Рюхо» и «Дзуйхо» в трёх милях от устья Темс, пилоты поднимали обороты двигателей до максимальных.
Ветер крепчал, поэтому авианосцам достаточно было просто стать против воздушного потока для лёгкого взлёта самолётов. Дымы с шашек, указывающих направление ветра, стелились ровно от носа в сторону кормы.
Первыми взмывали в небо Каваниши Сиден в варианте истребителя-бомбардировщика. «Сиден» принадлежали к базовой авиации и имели размах крыльев более 11 метров, но оказались предпочтительней, как ударный истребитель за способность нести ещё приличную бомбовую нагрузку, поэтому изначально стояли крепко пришвартованными к полётной палубе авианосцев. Четыре бомбовые тушки на подвесках моноплана выглядели внушительно и заставляли пилотов с опаской посматривать на дальний срез взлётки. Лётчики раскручивали двигатели на полную мощь, подбадривая их впрыском водоспиртовой смеси. Тяжелогруженые самолёты, казалось, неторопливо разбежавшись, отрывались от палубы, чуть просев, покачиваясь на крыльях, медленно набирали высоту. Эти превосходные машины, даже в руках лётчиков со средним опытом, в своё время загнали не одного американского аса на землю, поубавив у тех спеси и самомнения.
Выпустив 15 истребителей первой группы, авианосцы, по мере подъёма из ангаров на палубу следующих машин, за неполных три минуты, отправляли в небо по четыре, пять бомбардировщиков и истребителей. Рычащие движками самолёты взлетали навстречу Северному сиянию и ветру. Разбиваясь на звенья, монопланы ложились на левое крыло и, прижимаясь к самой воде, устремлялись в широкие ворота разлившегося устья реки, мимо огней Нью-Лондона к военно-морской базе.
Что бы избежать поражения нескольких самолётов одной зенитной ракетой, пилоты держались в непривычном для них, слишком разомкнутом строю. В атаке участвовало чуть более ста самолётов: двадцать восемь бомбардировщиков Аити В7А, тридцать два пикирующих бомбардировщика Йокосука D4Y, восемнадцать Каваниши и двадцать семь истребителей Мицубиси A6M2.