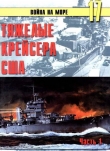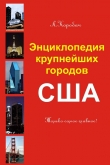Текст книги "Последний довод павших или лепестки жёлтой хризантемы на воде(СИ)"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 54 страниц)
Японские линкоры и крейсеры, обстреливая из всех калибров порт и корабли, только через двадцать минут получили действенный ответ. Один из тяжёлых крейсеров оказался мишенью сразу для трёх противокорабельных ракет, получив крен на правый борт, выдав в небо высокий факел огня и дыма, неожиданно взорвался и почти мгновенно затонул. Серьёзные повреждения имели ещё два крейсера – видимо из-за занимаемой передовой позиции основную часть ракет на себя приняли именно они.
Линкоры „Хюга“ и „Исэ“, в своё время подверглись некоторым изменениям. На месте двух кормовых башен главного калибра был построен обширный ангар с подъемником, вмещающий 22 самолета. Летчики были из отряда Тейсинтай – добровольцы-смертники в японских вооружённых силах. За неполных двадцать минут катапульты выстрелили самолёты последний полёт.
Наверно, каждый из двадцати американских кораблей, стоящих в порту Норфолка, хоть одно жёсткое попадание, но получил, не бомбой, так целенаправленной атакой камикадзе. Если не самопожертвенным тараном подбитых лётчиков, то 410-мм или 203-мм снарядом, не говоря уже о различных мелких калибрах.
Удар камикадзе совпал с удачным проходом эсминцев к боновым заграждения порта. Шесть эсминцев, пустив по четыре торпеды, разворотили причалы и заставили многие горящие суда тонуть. Некоторые камикадзе на бреющем полёте входили прямо в отрытые ворота крытых доков и ангаров, где стояли подводные лодки.
Отбомбившись, самолёты поливали из пушек и пулемётов жилые кварталы, казармы военной академии – как раз проснувшиеся от грохота взрывов, по тревоге из помещений выбегали заспанные военнослужащие. Одна за другой вспыхивали и взрывались автомашины вереницами стоящие на парковках вдоль шоссе по всей длине причала. Казалось, что на огромной площади военно-морской базы не осталось не одного места, где бы ни упал снаряд или бомба.
Получив доклады от офицеров об ослаблении и почти полном подавлении ответного огня, вице-адмирал Сиро Такасу дал команду на высадку десанта. Линкоры переключили огонь на военно-морские верфи города Портсмут. Уцелевшие крейсера отходили поддержать огнём эсминцы, обстреливающие аэродром Чемберз.
Некоторые лётчики первой волны на свой страх и риск умудрились сесть на свои авиаматки, для дозаправки и пополнения опустевшего боекомплекта.
Сами авианосцы, сделав этот прощальный жест, отдав последнее авиационное топливо, авиабомбы и боекомплекты к стрелково-пушечному вооружению, уходили в открытый океан. Их капитаны не хотели бросать свои, скорее всего обречённые корабли и с добровольцами решили попытать счастья в открытом океане. На катерах и шлюпах, не пожелавшие остаться матросы и последние из техников обслуги самолётов направлялись к берегу пополнять и без того огромные силы десанта.
* * *
Военный порт Норфолка и прилегающая территория горели.
Войска генерал-лейтенант Мицуру Усидзимы были разбросаны по большой территории.
20-я и 41-я дивизии уже прорвались со стороны залива, а 51-я дивизия, усиленная 9-м танковым полком накатывали на пляжи атлантического побережья. Десантные части из сил флота, неся неожиданные потери, высаживалась у Вирджиния-Бич.
24-я, 62-я дивизий под командованием генерал-лейтенанта Исаму Тё штурмовали Норфолк, солдаты отдельной 44-й смешанной бригады с боем высаживаясь прямо на пирсы и в припортовой зоне. Действия американского гарнизона и сопротивление моряков имели разрозненный, очаговый характер. Японцы, не считаясь с потерями, ломали оборону и буквально на плечах бегущих защитников врывались в портовые постройки, ангары, доки, пользуясь огнемётами, круша и ломая всё уцелевшее после бомбёжки и артобстрела.
28-й пехотный полк 7-й дивизии, выгрузившись с десантных кораблей в районе гражданских причалов, обходил оборонявшихся американцев с запада. Там где командирам янки удавалось организовать оборону, японские солдаты несли большие, просто катастрофические потери. Порой взводные командиры, в горячке боя, гнали солдат под мясорубки разнокалиберных пулеметов или 20-мм шестиствольных пушек, и сами глупо погибали, размахивая шин-гунто. Но находились трезвые головы – пехота откатывала, залегала, часть обходила по флангу и уничтожала засевших морпехов.
* * *
Выкатившая на Хэмптон-Роудс 3-я отдельная танковая рота, нарвавшись на ураганный огонь скорострельных пушек боевых машин пехоты, отползла назад за дома, оставив несколько чадящих Чи-Ха“. Экипаж одной из пылающих машин успел выстрелить, прежде чем противотанковая ракета, попав в подбашенное пространство, разорвалась, исковеркав танк до неузнаваемости.
В свою очередь 1,4-килогрмовый снаряд, вылетев со скоростью 825 м/с из 47-мм пушки японского танка, легко прошиб противопульную броню LAV-25 и, взорвавшись внутри, исковеркал её как вскрытую консервную банку. Мгновенно последовавший взрыв боекомплекта, разнёс и технику и укрывшихся за ней морских пехотинцев.
Вторая БМП, стоящая в пятистах метрах далее, врубив заднюю передачу, покатила, отстреливаясь назад.
Получившие по мордaм американские морпехи, таща на себе верещащих и призывающих „хелп“, да „док“ раненых, бежали под прикрытие броневика.
Быстрое продвижение японцев вносило ограничение в позиционную работу снайперов и, тем не менее, часто вламываясь в квартиры на этажах, солдаты устраивались в окнах и подлавливали суетящиеся внизу вражеские фигурки. Удавалось подцепить и нередкие вертолёты. Отстрелявшись, снайперы меняли позицию, оставляя в домах насмерть перепуганных (иногда в буквальном смысле слова) обывателей. Стала проявляться работа и американских рейнджеров с дальнобойными и мощными винтовками „Барретт“. Крупнокалиберные пули-одиночки из недоступного далека мало отклонялись от выцеленой траектории, но больше калечили, протыкая плоть, ломая кости, порой даже отрывая конечности.
Применение авиации было почти невозможно из-за задымления над местами боёв и перемешавшимися войсками противников. Однако некоторые отчаянные американские пилоты пытались поддержать своих внизу, успешно уничтожая передовые малые и средние танки, сметая с широких улиц огнём пулемётов пехоту противника. Сунувшись дальше к порту, „Апачи“ напоролись на бронетранспортёры со спаренными и строенными скорострельными зенитными пушками. Несмотря на не очень меткий, но шквальный огонь, потеряв несколько ударных вертолётов, американское командование запретило им летать вблизи боевых действий.
Геликоптеры зависали, укрывшись за домами и наводясь в инфракрасном режиме, посылали одну за другой противотанковые ракеты. Метко выбив несколько танков и самоходок, ко всему ещё разворотили пару жилых домов, а потому были вынуждены отказаться и от такой тактики. Не опасайся американцы за своих мирных граждан, может всё и сложилось бы иначе, но предприняв ряд, казалось, успешных контратак, янки были в основном вынуждены отходить назад под огнём артиллерии.
Японская пехота упорно продвигалась вперёд, умело и мобильно применяя разнокалиберные миномёты, жестоко подавляя любое сопротивление – им в отличие от американцев не надо было оглядываться на мельтешащих и путающихся под ногами гражданских.
Конечно, можно бы было проводить аналогию атаки на Норфолка и налёт в 41-м году на Пёрл-Харбор, искать какие-то схожести, сравнивать потери. Мощь и возможности современных сил обороны базы несопоставимы с вооружением тогдашнего Пёрл-Харбора. Но! Авианалёт на Норфлок поддерживала артиллерия кораблей. И удар был закреплён наземной операцией. Пройдясь огненным валом по территории военного порта, основные ударные силы армии уже не интересовали военные объекты базы. Осуществляя планы командования и действуя в рамках новой доктрины, армия занимала оборону в гражданских кварталах Норфолка. На территории военно-морской базы оставались специальные отряды, которые вооружившись взрывчаткой и зажигательными средствами, взялись за дело со вкусом – то, что не сделали бомбы и снаряды, довершили минёры.
Ланглей. Ньюпорт-Ньюс.
Специальные соединения морской пехоты с вспомогательными отрядами моряков и морскими оборонительными отрядами под командованием адмирала Ивабути рассеивались на малых боевых кораблях, катерах в многочисленных речных заливах и эстуариях Чесапика, высаживая отряды на причалы и станции.
Эсминцы, канонерки и вооружённые яхты с десантом вошли в реки Потомак, Патаксен и Джеймс, атакуя станции ВВС флота, стоянки кораблей ВМС, мелкие гарнизоны и учебные лагеря.
Выжившие после этих рейдов американцы, долго не могли забыть кошмара высыпающих на них, как саранча японских моряков, с орущими, перекошенными чужеродными азиатскими лицами, с выставленными вперёд ужасающими штыками. Судоходность Потомака до самого Вашингтона предполагала совершить рейд до самой столицы США. Канонерки 14-го дивизиона и корабли 1-го и 2-го дивизиона патрульных кораблей, под командованием капитана 1 ранга Охаси, забитые под завязку морскими пехотинцами из 4-го спецсоединения Йокосука и 8-го Сасебо, совершали самоубийственный бросок вверх по течению.
* * *
Отдельная 35-я бригада в составе 3-х тысяч человек (три батальона из 28-го и 124-го пехотных полков) с 1-м специальным соединением морской пехоты Куре под командованием капитана 1 ранга Фудзимуры были переброшены к Ньюпорт-Ньюс.
Внешне база армейской авиации Ланглей и военный городок сухопутных сил, находящиеся в Ньюпорт-Ньюс, выглядели неважно. Казалось, что горело всё. Виной тому были автомобили с цистернами авиационного бензина.
Задержка на нефтяном терминале в порту потянула за собой всю цепочку последующих опозданий и нарушений планирования транспортных перевозок.
Уже стемнело, когда бензовозы въехали на территорию базы. Водители из гражданского персонала – пузатенькие мексиканцы (и не какие-нибудь нелегалы, а честные обладатели „гринкарты“), донельзя непунктуальные и зубоскально-разговорчивые одержали безоговорочную победу в словесной перепалке с дежурным офицером. Опираясь на совершенно неуместные фольклорные аргументы (типа – пятнадцатилетие одной из дочерей), а так же на вполне законное ограничение рабочего времени, чернявые потомки испанцев и индейцев ацтекской империи с достоинством оставили старшего офицера наедине с телефонами и формулярами.
Пока недавно заступивший на вахту офицер листал журнал дежурного, водители, недолго думая, бросив машины возле КПП, намеревались покинуть территорию базы. И лишь сержант из взвода охраны, хоть как-то выправил ситуацию, велев им отогнать машины с полными цистернами авиационного топлива за технические ангары. Откатив тяжеловозы, куда им было велено, улыбчивые креолы заперли кабины, и с характерным пшиком дёрнув за колечки, открывающие баночное пиво, свалили в город.
Узнав об этом, дежурный офицер разразился бранью – налицо нарушение всех инструкций регламентов безопасности, но, в конце концов, махнув рукой, распорядился: „как только завтра утром эти деятели объявятся, немедленно сливать топливо в подземные резервуары“.
* * *
Истребители под командованием капитана Сабуро Синдо, выйдя с восточной стороны, сразу обнаружили стоящие в ряд на краю взлётки крупные транспортные самолёты и вертолёты. Восемь машин незамедлительно бросились на лакомую мишень.
Сам Синдо повёл свой „Реппу“ к группе административных зданий и построек. Пилот не видел стоящие в тени ангара цистерны – он метил в сам ангар. Две 250 килограммовые бомбы пробили куполообразные крыши и рванули внутри. Ангар вспух, сорвало тонкую обшивку, одну из несущих металлических балок сорвало, отлетев, она перебила растяжку антенны связи. Какое-то время та ещё стояла, но торчащая наверху, как лопух, тарелка имела хоть и небольшую, но парусность и ветер всё же доконал двадцатиметровую железяку. Сначала нехотя поскрипывая фермами конструкции, а потом все быстрее и быстрее антенна завалилась на стоящие параллельно в рядок бензовозы. От удара цистерны не взорвались, но лопнули одна за другой, и 30 тонн легчайших фракций нефти растеклись по территории.
Выскочившие из казарм солдаты, захлюпав по лужам и вдохнув испарений, замерли в ужасе, понимая, что одна искра и полыхнёт! Тем более что в нескольких сотнях метров бухали взрывы, пылала авиатехника, и растекающееся топливо рано или поздно доползёт до огня. Но случило всё чуть раньше. Керосин, устремляясь в низины, просочился под люк и заливал шахту доступа к кабелям энергоснабжения и связи. Наконец, где-то в трубопроводах возникло КЗ. Воспламенившиеся пары в шахте взорвались так, что тяжёлый чугунно-пластиковый люк с эффектом инопланетной летающей тарелки подлетел на несколько метров. Огонь, подгоняемый ветром, за минуты разбежался в разные стороны.
Вырубилось электричество. Автоматически включившиеся дизельгенераторы гоняли в холостую – линии подачи были оборваны. Истратив весь боезапас, самолёты убрались восвояси, так и не получив ничего в ответ. Американцы метались по территории, пытаясь потушить пожары.
На объединённой базе Ланглей-Юстис размещается транспортный центр: 7-я бригада транспортного обеспечения, учебные корпуса армейской и авиационной школы логистики. В авиационном парке за малым исключением, числилась тяжёлая транспортная авиатехника, которая в основном уже горела на взлётной полосе.
Теперь взмыленные техники, надрываясь, выталкивали из ангаров это исключение – два устаревших „Ирокеза“ и одну „Птичку“, спеша, заправляли их и вооружали.
Пожары послужили прекрасным ориентиром для самолётов второй волны капитана Ясуси Никаидо. Как уже было сказано – горело всё, но яркое пламя ослепляло, и японские лётчики не заметили нырнувшие в темноту геликоптеры. Прагматичные американские пилоты сразу не собирались бросаться в бой, перегруппировываясь, занимали удобную позицию для атаки. Японцы успели сбросить бомбы, на этот раз не так безнаказанно – снизу уже летели им на встречу белые шарики трассеров.
Один „Зеро“ взорвался в воздухе, второй самоубийцей спикировал, но малая высота не позволила лётчику сманеврировать точно на цель – истребитель рухнул за территорией базы.
Прилетевшие со стороны управляемые ракеты, а потом добивающие пули и НУРСы, уничтожили ещё шесть монопланов. Ушёл лишь один агрессор с дырками в плоскостях и с барахлящим двигателем на север к обещанным дальновидным командованием полевым аэродромам.
На пятнадцать минут наступила передышка, но вдруг, по личному составу пробежала новая нервная волна – поступило сообщение о стрельбе со стороны берега и высадке десанта. Но оно видимо запоздало, потому что опять на базе послышалась стрекотня автоматического оружия – моторизированная пехота ворвались на базу. Завязался яростный ближний бой, вплоть до применения холодного оружия.
Объединённая база Литл-Крик-Стори.
По огневой мощи объединённая база Литл-Крик-Стори была слабее, чем Норфолк, но и силы японского флота и десанта, выставленные против неё, были меньше. Японское командование исходило из материально-технического обеспечения, количества личного состава и уровня его подготовки – факторов в совокупности определяющих боеспособность объектов атаки. Так, например, наличие на базе Литл-Крик пары сотен спецбойцов не принималось в грубый расчёт. Да и правильно – сравнимы ли, пусть и суперподготовленные двести человек с несколькими тысячами солдат, высаживающимися на берег. Но если уж говорить о каких либо совокупностях, то собранные вместе ряд случайностей: не совсем верных сведений, чьих-то удач и неудач, подготовленности и решимости, весь расклад боя сложился не так благоприятно для японцев.
Ведь в чём преимущество внезапного нападения? Атакующая сторона, подавляя средства обороны, остаётся безнаказанной и преобладающей силой, продолжая подавлять и добивать противника. А если это условие не выполняется, то чаша весов может склониться в другую сторону.
Командующий гарнизоном сухопутных сил капитан Билл Кроу, принял на себя общее командование и сумел организовать сначала своих запаниковавших рейнджеров, а затем и морских пехотинцев.
Приближающийся на бреющем самолёт, кажется ползёт на тебя как-то неторопливо, виден даже в фонаре кабины вертящий головой пилот, под брюхом тушка бомбы, стороннее попадание света обозначивает бликами вертящийся в носу самолёта пропеллер. Вжимаешь голову в плечи, когда в крыльях и в носу появляются огоньки сжигаемого пороха, и ты понимаешь – в тебя летит смерть, но потом самолёт проносится над головой на скорости 300–500 км/ч, обдав рёвом и ветром.
Упреждающий шквальный огонь из стрелкового оружия дырявил слабобронированные японские самолёты. Некоторые получив смертельные повреждения на подлёте, зачастую падали прямо на обороняющихся, некоторые успевали сбросить бомбы, но уходя, вдогон и на развороте получали свою разнокалиберную порцию свинца, стальных осколков.
Бойня! Самолёты пачками сыпались вниз, но и от гарнизона осталось чуть больше половины. А ведь ещё летели снаряды с моря. Поначалу в сторону океана ушли ракеты, дым и огненная засветка говорили о том, что небезрезультатно. Потом обесточились ракетные установки. Включили резервное питание – накрылось и оно. И надрывный вой носящихся на бреющем самолётов, да свербящий свист болванок с взрывчаткой, рассекающих воздух, продолжал давить на уши и на мозги стервенеющих янки.
* * *
Тяжёлый крейсер „Тонэгава“ или как чаще его сокращённо величают „Тонэ“ стоял носом к северному ветру параллельно береговой полосе. Следом в кильватере покачивался систершип „Тикума“. Контр-адмирала Хариаки Абэ коробило использовать скоростные корабли, как обычные плавучие батареи, но это было самое удачное, при сложившихся условиях, положение. В плюсе – отсутствие бортовой качки, способствующее более меткой стрельбе, и использование всей главной (носовой и кормовой) артиллерии.
Контр-адмирал, получив довольно малые силы для огневой поддержки десанта, попробовал одну из своих задумок, что бы хоть некоторое время обезопасить свои крейсера от удара крылатых ракет. Вероятность потери корабля буквально от пары ракет не давала ему покоя. Утонувший за каких-то пять минут крейсер „Нагара“ тому подтверждение.
Борта кораблей, на подлётной траектории крылатых противокорабелок прикрывали своими профилями танкеры!
Крейсеры, задрав стволы под пятнадцатиградусным углом, долбили в сторону берега, перебрасывали снаряды поверх принесённых в жертву кораблей.
Расчёт Хариаки Абэ оправдался.
Для береговых ракетных батарей весь это суп с фрикадельками (прибрежная акватория кишела сотней десантных кораблей, ботов, плавающих танков и анфибий-транспортов) был уже вне зоны покрытия. Всю эту десантную ораву должны были встретить поредевшие силы капитана Кроу и системы ближнего боя.
При всём старании лётчиков и плотности артобстрела, у ничтожить все пусковые установки японцам не удалось, а среди американских военных нашлись герои, которые смогли восстановить повреждённые системы обнаружения и наведения на цель.
В глубине территории под землёй урчали дизеля, питая электроэнергией ракетные системы и аппаратуру, под землёй же сидели и одуревшие операторы, глядящие на мониторы, испещрённые непонятными зелёными точками. Так, даже не цели – намёки, при всей неразберихе и сумасшедших помехах. Лишь побитые и покорёженные антенны локаторов торчали снаружи и, несмотря на свой подпорченный вид, выдавали информацию, высветив в нескольких милях от берега две яркие засветки.
Усыпанные землёй и мелкими камнями, подняв пыль, откинулись крышки пусковых установок, уже ураганом выталкивая на нетерпеливых стартовых двигателях ракеты. Пыхнув белым дымом „Гарпун“, чуть выше ложились на горизонтальный маршевый полёт к цели.
Ракеты проревели над разорённой базой, запрограммировано упали до высоты 50 метров над уровнем океана, оглушив мелькнувшим воем силы десанта, и далее, хватанув ГСН отражённый луч от вытянувших свои борта кораблей, опустились ещё ниже (5 метров) на прямую атаки.
Танки (резервуары) кораблей прикрывавших крейсера естественно были пусты. Танкеры вообще использовались как войсковые транспорты. Они уже стояли на своей самоубийственной позиции, а кран-балки не переставали спускать на воду катера и шлюпы с десантом. Управлять кораблями остались добровольцы – минимум для поддержания интервала и дистанции.
Последние шлюпы с десантниками уже отплыли на сто метров, как мимо них, буквально над самыми головами промчались одна за другой, с минутными паузами, стремительные сигары. Они их и не заметили, шлюпы лишь колыхнуло и показалось, что лица обдало жаром, в нос ударила вонь сгоревшего топлива, а на головы опустился белый дым. В следующий миг позади раздались взрывы.
Их было слишком мало – матросов на танкерах, что бы бороться с пожарами и за живучесть кораблей. Получив команду они в спешке спускали спасательные шлюпки, бросая стыдливые взгляды на капитанов, оставшихся погибать со своими кораблями. А те, стоя на мостике, глядя на подбирающийся огонь, пытались удержать пылающее, упрямо не желающее тонуть железо на курсе прикрытия более важных крейсеров.
Капитан 1 ранга Томедзи Окада считал удары сотрясавшие танкеры, удивляясь живучести, по сути дела, этих гражданских судов и поражаясь пробивной слабости хвалёных американских противокорабельных ракет.
Три, четыре! Пятая ракета втыкалась в борт, танкер уже был весь объят пламенем, но никак не тонул. Потеряв управление, он начал сваливаться с курса, медленно сближаясь с крейсером.
Переведя взгляд на временную связку – крейсер „Тикума“ и танкер „Эримо“, капитану вдруг удалось разглядеть следующую серию ракет.
До этого программа гнала „Гарпуны“ на минимальной высоте в довольно устойчивые к ударам борта кораблей. Очередная партия выполняла предстартовую малую горку. Тут ракеты уже легко пробивали палубы, укорачивая агонию мишеней, и корабль прикрывавший „Тикума“, встретив несколько крылатых гостей, стал медленно погружаться в воду.
Один „Гарпун“, не долетая до цели, сделал свечку и, пикируя под небольшим углом, как буридановский осёл между двух кормушек, так и не выбрав ни одну, всколыхнул воду меж танкером и тяжёлым крейсером. Близкий направленный вниз кумулятивный удар даже не вмял бронированный борт корабля.
Всё произошло чрезвычайно быстро, капитан Окада и предположил бы, что это всё привиделось, только в небе ещё целую минуту висела белая дымная дорожка ракетного выхлопа, чётко нарисовав „высокоточную“ траекторию.
– Умная, тварь! Оказавшись сверху, словно выбирала цель покрупней, да вероятно высоты для манёвра не хватило, – губы капитана изогнулись в угрюмой гримасе.
Дальше – хуже. „Тикума“ получает и в борт и в палубу, горит, но держится. Удар сотрясает и „Тонэ“.
Томедзи Окада нервничает, борясь с естественным желанием предпринять манёвр уклонения, и вынужденно сбить наводку своих орудий, но сдерживается, понимая, что это не снаряды летят в них, а самонаводящиеся ракеты. А их таким примитивным способом не обманешь.
„Тикума“ уже лежал на боку – держать уже было нечего, и вокруг кишело от спасательных лодок и болтыхающихся матросов.
Может капитану крейсера Томедзи Окада почудилось, но этот корабль, эта вроде бы железяка, являла для него то, может навсегда утерянное ощущение родных берегов, тот клочок суши именуемый ЯПОНИЯ. Крейсер „Тонэ“, как чувствуя смертельный удар, вздрогнув, заскрипел, застонал металлом. Хитрая боеголовка ракеты, кумулятивным зарядом прожгла палубу, проникнув внутрь корабля, и только потом, второй боевой частью, где-то внутри освободила заложенную в ней энергию.
Пошли отрывистые доклады о вторичных детонациях, внешних и внутренних пожарах, поступлении забортной воды. Стал появляться быстро растущий деферент на нос и крен на левый борт. Команда отчаянно бросилась бороться за живучесть корабля.
Капитан 1 ранга Томедзи Окада, приказал, идти к берегу, надеясь посадить судно на мель и продолжать, во что бы то ни стало вести бой.
* * *
Подлетая к базе, вертолёт „Си Стельон“ попал в самоё пекло. Сначала его чуть не сбила своя же ракета. Потом, когда вертолёт уже садился, пошла очередная волна вражеских бомбардировщиков. Бой дотянулся и до южной стороны территории базы. Стало вдруг как-то неуютно. Даже сквозь грохочущую молотилку лопастей вертолёта было слышно, как застрочили пулемёты и скорострельные пушки, засвистели пули, послышался вой самолётов и падающих бомб.
Мимо, буквально в нескольких метрах по борту, по восходящей глиссаде тянул моноплан, крутя пропеллером в носу, пуская за собой струю чёрного дыма. Лейтенант Врайт оторопело смотрел на красные опознавательные знаки. Второй пилот Мич Дилан заорал, когда кабина наполнился треском и грохотом, рвущих обшивку вертолёта пулемётных пуль, через секунду ещё одна вражеская машина промчала мимо – утяжелившее вес вертолёта на 453 килограмма титановое бронирование спасло экипаж „Сикорского“, однако на приборах замаячила сигнализация о повреждении двигателя и управления.
Лейтенант, плотно сжав губы, сажал вертолёт, ставший вдруг неуклюжим и неповоротливым. Едва винтокрылый транспортный „кабан“ тяжело и жёстко приземлился, прозвучала команда покинуть машину. И вовремя, следующий горящий самолёт шёл почти у самой земли, когда чиркнув крылом о бетонное покрытие, мгновенно потерял управление и уже на брюхе скользил к геликоптеру, разбрасывая искры, погнув, подмяв под себя остановившийся пропеллер.
Встряв в транспортник, моноплан, как бы раздумывал, а потом сначала у одной, а потом и у другой машины взорвались топливные баки.
– Командир, я не понял – это воплотившийся бред „Седьмого авианосца“? – спросил тяжело дышащий Дилан.
– Это что-то покруче, Норфолк тоже бомбят, – угрюмо прорычал борттехник, баюкая напитавшуюся кровью штанину на коленке.
К ним подбежал весь белый от бетонной крошки морпех.
– Так, летуны! Техники для вас всё ровно нет. Оружие есть? Вижу – нет! Пукалки ваши попридержите для строевых смотров, – „хряк“ отмахнулся от высунутого Диланом пистолета (единственный из экипажа кто успел прихватить личное оружие).
– Вот и ты, брат, воплотил мечту Майкла Джексона, – кривясь от боли, Браун всё же не сдержал ухмылки.
Морпех проведя рукой по лицу, стёр густой слой белой пыли, обнажив чёрный цвет своей кожи.
– Когда в корпус „котиков“ попало, я недалеко был. Всё в ухнарь разнесло.
– А с ними что? – Пилоты переглянулись.
– Да почти всех накрыло, персонал из „гражданских“, кто в штаны не наложил, до сих пор завалы разбирают. Ладно! Пошли! Получите оружие – со стороны океана высаживается десант.
Причалы, транспорты-доки и патрульные корабли, с десяток мелких спецсудов превратились в горящую бетонно-металлическую мешанину. Самолёты авианалёта иссякли, и прикрываемая огнём эсминцев, к берегу двигалась японская десантная флотилия.
Более сотни разнотоннажных судов, начиная с тяжёлого крейсера, и заканчивая десантными ботами на двенадцать человек, неумолимо приближались к вылизанным Атлантическим океаном пляжам.
– Только не спрашивайте меня ни о чём, я знаю не больше вашего, – капрал сноровисто выкладывал перед лётунами оружие и боеприпасы.
– А что, посерьёзней ничего нет? – Борттехник, напялив бронежилет-разгрузку, засовывал по кармашкам запасные магазины.
– Трещотки помощнее уже разобрали, не забывайте, что это склад 6-го батальона, остальные накрыло бомбами и завалило, а у шестого отродясь ничего путного не наблюдалось.
– Ага, мы прям в курсе всех событий, – ерничал Браун.
– Скажите спасибо, что гранаты к подствольникам остались, пользоваться умеете? – Уже вдогонку кричал капрал.
Они сразу попали в распоряжение, какого-то сержанта. Последовав за ним, протопали мимо суетящихся миномётных расчётов, выскочили из-за ангаров, прикрывающих территорию от ветра с океана, и сразу попали под пулемётный огонь. Залегли, не видя противника, стали пулять неизвестно куда, и как выяснилось не известно из чего – они настолько отвыкли от стрелкового оружия, что пришлось заново осваивать М4А1.
Сухо пощёлкивали пули, снаряды прошивали тонкую жестянку ангара, взрывались внутри или на излёте.
– Что там? – перекрикивая шум боя, указав рукой на ангары, спросил Врайт.
Сержант отмахнулся рукой, в это время из-за ангаров полетели 60-милиметровые мины американских расчётов.
– Пошли, – дал команду сержант. Вскочив, они пробежали несколько метров, меняя позицию. Взору Врайта наконец предстала сумасшедшая картина наводненного чужим десантом океана. Дым, вспышки выстрелов, вздыбленная ответным огнём вода и абсолютно безликая, плотная масса атакующих.
У самого берега уже чётче вырисовывались отдельные десантные средства. Порой, не дотягивая до самого песчаного пляжа, подходили и подходили транспортные корабли, боты и гусеничные амфибии. Из них неиссякаемым потоком, выпрыгивали солдаты, по нескольку человек зараз, выставив вперёд винтовки с поблёскивающими штыками, стреляя, падая под пулями, вскакивая, упорно продвигаясь вперёд.
– Господи, боже мой! – Пробормотал лейтенант, увидев ораву, которая пёрла в их сторону.
Берег был усеян трупами и разбитой техникой. Сквозь дым, проглядывались новые корабли, плюющиеся огнём и выпускающие новые десантные силы. В воде плавали обломки, мертвые и гребущие к берегу живые люди. Большой корабль, минимум эсминец дымя пожарами, сидел недалеко от берега на мели с небольшим креном, но его пушки не умолкали, судя по снопам изрыгаемого пламени.
Вокруг вздымалась всплесками вода, на судах появлялись вспышки разрывов, от которых мелкие посудины получали фатальные повреждения, разбрасывая ошмётки в разные стороны. На берегу от взрывов космато взлетал вверх песок и камни пляжа.
Прямо из воды на берег выползали танкетки с острым как у катера носом, за маленькой башенкой с пушкой виднелась нелепая надстройка, из которой валил чёрный выхлоп двигателя.
Врайт видел, как разорвавшаяся рядом мина, сорвала катерообразный клюв, обнажив прямые углы брони, но машина, постреливая из пушки и пулемётов, продолжала движение.
„Действительно, япошки“, – подумал пилот, разглядев на башенке знак – на белом фоне красный круг с расходящимися в стороны лучами.
Броня у танкеток была слабая, крупнокалиберные пули пробивали металл, и десяток этих гусеничных, необычных с виду машин уже стояли без движения.
– Сержант, я хоть и не пехота, но вижу – нам не удержать их, – орал лейтенант.
Но получив по радиосвязи команду, рейнджер сам замахал рукой, давая добро на отступление.
– Они высадились со стороны залива и окружают. Ходу, ходу, – орал рейнджер, посылая из подствольника в сторону берега гранаты.
Его вдруг как будто подсекло – крупнокалиберная пуля, раздробила колено. Той же очередью бросило вперёд на бетон борттехника, попав в бронежилет. Орущий сержант, лежал с неестественно вывернутой ногой, из-под которой быстро натекла лужа тёмной венозной крови.