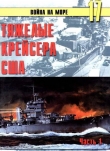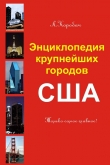Текст книги "Последний довод павших или лепестки жёлтой хризантемы на воде(СИ)"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 54 страниц)
* * *
В Чёрном море словно повторилась давняя история 1988 года. В этот раз в территориальные воды России запёрся американский крейсер «Монтерей». Наперерез ему устремились сторожевой корабль проекта «Гепард-3.9» и МПК «Ейск» приписанные к Севастополю. Русские намеревались, зажав беспардонного «американца» в клещи, аккуратно оттеснить его к границе международных вод. Правда нынче звёздно-полосатые вели себя более нагло и даже открыли предупредительный огонь из артустановки в сторону «Гепарда». Естественная реакция сторожевика на взбитую по волнам дорожку фонтанов – манёвр уклонения. А вот капитан малого противолодочного корабля, услышав сухую трескотню скорострельной пушки, неожиданно для себя самого приказал переложить руль на четыре румба.
Всё произошло столь быстро, что американцы не успели отреагировать. Набравший приличную скорость МПК «Ейск», имея водоизмещения всего лишь в тысячу тонн с небольшим, вспорол борт крейсера своим острым носом.
В результате оба корабля получили серьёзные повреждения. «Монтерей» с десятиградусным креном поковылял в угодливо раскрытые для американских покровителей грузинские порты, «Ейск» в сопровождении «Гепарда» с деферентом на развороченный нос – в ближайший российский порт.
* * *
В Индийском океане морская группировка США едва не атаковала пакистанские военные корабли, но мгновенный радиообмен прояснил недоразумение. В порыве кого-нибудь порвать, американцы, выловив кавитационные шумы, набросились на индийскую подводную лодку. Но «Чакра», некогда русская «Нерпа», а для амеров «Акула», словно растворилась в морской воде, заставив некоторых почувствовать себя дураками.
* * *
Но вернёмся снова в Тихий океан. Учитывая специфику и напряжённость в этом регионе, без серьёзных столкновений не обошлось. Особенно в северо-западной его части, где янки вальяжно следили за мелкой, но досаждающей вознёй Северной Кореи, снисходительно поглядывали на номинальные боевые единицы России и поигрывали бицепсами перед набирающим силу китайским «драконом».
Американские моряки привыкли к тому, что ВМС Поднебесной постоянно демонстрируют своё присутствие, и прежде всего в омывающих ее побережье морях. Частенько китайские подводные лодки преследовали целые авианосные группы, не взирая даже на обнаружение. Большая шумность позволяла легко их выследить и американцы не считали китайские ПЛ особо опасными.
В этот раз эсминец «Рузвельт» из ордера авианосной группы пас за новейшим китайским эскадренным миноносцем типа «Ланчжоу».
Казалось, противостоящие экипажи лениво щупали друг друга РЛС, «китаец» как бы говоря: «я тут на рубеже и вам нечего соваться дальше», а звёздно-полосатые по обыкновению показывали кто на море-океане главный, хозяин и доминант.
Но как только по приёмным антеннам кораблей соединения 3-го флота США хлестнули сигналы тревоги с самыми высокими приоритетами, всё резко изменилось. Ещё не обладающие достоверной информацией американцы просто забили тревогу и врубили боевые системы целеуказания, выводя ракеты в предстартовое положение. Это были уже не просто обзорные радары.
На «Ланчжоу» стояли современные высокоинтегрированные боевые системы с записанными в её память характеристиками американских радаров наведения. Китайцам понадобились секунды, что бы изготовиться к стрельбе. Американцы, интенсивно потея, наблюдали на своих мониторах выдаваемые «Иджис» характерные сигнатуры, известные ещё как французские разработки. Следующие действия предполагали включение средств активной радиоэлектронной борьбы. Естественно с обеих сторон.
Всё это напоминало стоящих друг против друга ковбоев в вестерне, держащих руки у засунутых в кобуру револьверов, настороженных и напрягшихся – кто быстрее выстрелит.
Оба капитана слали запросы командованию, не решаясь атаковать без приказа. Но ни одна из сторон ничего толком не знала. Китайский штаб, тот только, только начал впитывать шокирующую информацию о том, что кто-то вставил американцам серьёзный фитиль в задницу. Командир американского авианосного соединения, курсирующего в нескольких милях мористее, так же был в неведенье и в сомнениях, и единственное, что пока мог сделать – выслал на подмогу эсминцу фрегат и пару вертолётов.
Определённую уверенность капитану эсминца «Рузвельт» придавал высоко парящий в небе «глазастый» «Хокай», который держал постоянную двустороннюю связь. Правда, с непонятными перебоями, но ….
Американскому капитану казалось, что зуммер тревоги (вопли «Иджис» о захвате корабля активными системами наведения) сведёт его с ума. Обстановка была наклеена до предела.
Спусковым крючком оказалось перехваченное радиорубкой сообщение, что Соединённые Штаты Америки (ни фига ж себе!) подверглись бомбардировке.
У американцев была небольшая фора – первый ракетный залп! Затем включение средств радиоэлектронной борьбы. Незамедлительное сообщение «Хокая» об ответном залпе – и сразу отключение активной помехи, чтобы не приманить на неё ракеты противника, а так же мгновенная постановка облака диполей и уголковых отражателей.
Получилось всё как в рекламе: слетевшие с пилонов зенитные ракеты, эффектная дипольная «хлопушка-вермишель», далёкие взрывы и вжикнувшая, пропавшая в серебристом облаке стремительная тень – китайская ракета повелась на обманку. И только «дурак» – «Вулкан-Фаланкс» крутил по инерции стволы, в «досаде» что не успели отстреляться.
«Китайцу» не хватило этих нескольких секунд и он, пропустив половину ракетных «гостинцев», выбросил к небу заплясавшего смертельный танец огненного дракона.
«Рузвельт», приплясывая на волнах, живо рванул под спасительные «стены» авианосного соединения, понимая, что, во-первых – один в поле не воин, а во-вторых – сейчас ему в спину дышит всё миллиардное население Китая. А те если просто разом плюнут – утопят нахрен! Потому – бежать, бежать, бежать!
Но история на этом клочке водных просторов планеты ещё не закончилась. Маленькие и бойкие китайские адмиралы и не думали просто так отступить, утерев юшку с разбитых носов.
* * *
Она висела на перископной глубине, выставив пассивные радиоэлектронные «глаза». Обнаружить торчащий из воды шпенёк, покрытый радиопоглощающим материалом, можно было едва с расстояния 15 километров.
В центральном посту уже расшифровали сообщение – произошло трагическое недоразумение, чуть не повлекшее к военному противостоянию. Обе стороны решили «не выносить сор из избы» и к разрешению споров привлекались засучившие рукава дипломаты. Капитан китайской субмарины «Yuan Zhend 74 Hao» (попробуй по-русски произнеси!) воспылал гневным лицом и, не будучи в силах сдержать свою ярость, сорвал с себя фуражку, бросив её на пол центрального поста:
«Наглые американцы уходят безнаказанными, потопив новейший эсминец китайских ВМС»!!!
На его радость из штаба пришла зашифрованная радиограмма с недвусмысленным пожеланием. Именно не приказом, а пожеланием.
Капитану «Yuan Zhend 74 Hao» было всё ровно, что приказ был неофициальный. Засечка на радаре просто просилась на обработку в системы наведения и далее в ЭВМ ракет. Он засёк и спешащий на усиление американский фрегат, и уже вырвавшиеся вперёд вертолёты. Но его цель – эсминец, спешно улепётывавший подальше от китайских берегов.
Дистанция до «американца» составляла 60 километров – дозвуковой ПКР три минуты лёту. Провели вычисления, получили подтверждение, прозвучали короткие команды и пальцы, лежащие на клавиатурах аппаратуры, надавили на кнопки пуска, выпустив четыре ракеты из торпедного аппарата. Субмарина тут же ушла глубже под воду.
Первая ступень провела ракету под водой, вытолкнула её на поверхность и позволила набрать высоту. Следом зажглась горелка второй ступени, толкая реактивную убийцу в расчётную точку.
* * *
«Хокаю» понадобилось не менее 20 секунд (несмотря на солнечный шторм) на опознание цели и передачу информации.
На эсминце «Рузвельт» к этим тикающим мгновениям добавились ещё 30 секунд на принятие решения и выдачу команд, в том числе на применение средств радиоэлектронной борьбы.
– Все по местам! Палубная команда в укрытия! – Надрывно захрипела внутренняя трансляция.
Ещё 10 секунд откапало на исполнение команд. У них оставалось ещё целых 2 минуты! Ракеты с диполями отлетели на заданное расстояние, вспухнув искринками, оттягивая центр радиоэлектронной приманки в сторону – это, кстати, ещё 30 секунд. Ракеты противника были уже на дистанции 20 километров и их, наконец, обнаружили зенитно-ракетные комплексы эсминца. Какие-то две, три секунды промедления с принятием решения, и отвлекающие цели уже не помогут! «Спарроу» умчались целым скопом навстречу угрозе, каждые десять секунд вздымаясь над эсминцем, обозначивая вспышкой огня изменение траектории на горизонтальный полёт (программа у них такая – вертикальный старт и ложимся на горизонтальную траекторию). А дальше вся надежда на радиолокационную головку наведения.
Вторая ступень противокорабельной китайской ракеты отвалилась от головной части, хаотично закрутившись в бешеных потоках набегающего воздуха. Головная часть, при этом, уходила на ускорение.
«Спарроу» (Sparrow по-английски – воробей, не ахти какая птица, шустрая, но в еде не разборчивая) в большинстве не заметив скоростные и самые опасные головки ракет, бросились на лёгкую добычу – уже бестолковые вторые ступени.
Горячая головная часть противокорабельной ракеты, ускорившись до двух «сверхзвуковых», уже давно определив для себя цель, запомнив её местоположение, «наплевав» на всякие нестыковки с доплеровским смещением, рвалась к кораблю. Сзади остались «сестрицы-неудачницы», попавшие под шрапнель взорвавшихся противоракет, а навстречу неслись сотни бронебойно-подкалиберных снарядов «Фаланкс». Она прошла сквозь ослепляющее облако осколков и полетела себе дальше, лишь слегка поцарапанная. И вот она – цель!
Если бы она могла оглянуться, то к своему электронному удовольствию увидела бы ещё одну «товарку», прорвавшуюся к долгожданному срабатыванию взрывателя. Но в технических данных проектантов таких параметров не предусмотрено.
Эсминец «Рузвельт» – у них осталось всего 10 секунд, за которые возможно кто-то и успеет выпрыгнуть за борт.
Они ударили почти единовременно. «Фаланкс» всё же зацепил одну противокорабелку. В секунду ракета изменила траекторию, описав в воздухе спиралевидную фигуру пилотажа, резанула стремительно по поверхности воды и отрикошетив впилась в борт, слившись с ещё одним взрывом.
Экипажи американского фрегата и противолодочных вертолётов, с ужасом наблюдали костёр на воде, который весьма быстро угас – эсминец «Рузвельт», перевернувшись от сдвоенного удара, утонул всего за шесть минут. По указке, отследившего пуск ракет «Хокая» противолодочная группа бросилась на поиск, в остервенении устроив жестокую охоту за субмариной, рассчитывая легко разделаться с «китайцем». Однако «Кило» (по натовской классификации), перейдя на пятиузловой ход, оставила излишне энергичных, но незадачливых мореходов с носом, словно провалившись в чёрную дыру, в который раз оправдав своё прозвище.
Всё.
* * *
А в самой Америке события развивались лавинообразно. Волна паники колыхала американский континент. Незыблемые и могучие Соединённые Штаты трясло как в лихорадке. Ужасающая новость долетела до самых отдалённых уголков страны, вызывая неуправляемые движения человеческих масс. Люди были полностью деморализованы, объяты животным, паническим ужасом. Доподлинно пока никто не знал, кто же напал на Америку и ходили самые разнообразные слухи, пока наконец не сработала централизованная служба оповещения гражданского населения.
Не легче было и правящей верхушке со всеми ответвлениями управленческого аппарата. Ситуация доводилась до союзников и правительств других государств. А вот тут начинались разные сложности.
Во-первых, усматривались происки врагов. Как и дальнейшие усложнения отношений. Москва, Пекин и ещё ряд первоочерёдных, потенциальных врагов Соединённых Штатов клятвенно заверяли о не причастности к акту агрессии.
Во-вторых, союзники! А вот союзничкам американцы, как и всему миру, пока ещё не всё докладывали. В желании, как говорится, не выносить сор из избы. Слыханное ли дело!!! Самой мощной армии и вообще, обалдеть какому сильному флоту, за каких-то два, три часа наваляли по самое «нихочу». И кто!!! «Желтопузые макаки» с оружием прошлого века!!! Что звучит вообще, как с луками, стрелами и мечами. Без всяких там сверхзвуковых, лазерных, высокоточных и бла-бла-бла. И кстати, не изменятся ли отношение с союзником на Тихом океане – Японией в свете последних событий. С ними надо держать ухо востро. И со всеми востро. Покажешь слабину – порвут. А если уж и, в-третьих, то, КАК ТАКОЕ ВООБЩЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ?
А что до неразберихи и паники, то куда ж без них. Америка давно уже являет собой империю. И как любая долгоиграющая империя гниёт с головы. Не смотря на имеющихся толковых специалистов, во все структуры управления и не только, пролезла зараза именующаяся «свои». Начиналось всё с известных W.A.S.P., с университетских клубов, сынков, зятьков сенаторов и других чиновников, выгодных лобби по знакомству и связям.
И вот уже валятся «Шаттлы», встревают в дома «Боинги» и т. д. и т. п.
Образ «незыблемой и могучей» сверхдержавы вдруг оказался огромным «мыльным пузырём», который неожиданно и совершенно невероятным образом проткнули катаной.
Тихий океан.
Американцы спешили. На скорую руку составленные программы и циркуляры прошли не менее спешную коррекцию в связи с потерей ещё одного авианосца, как боевой единицы. Объёденный комитет начальников штабов приказал: «Фас!». Задействованные ранее корабли изрядно потрепанного 3-го флота получали новые директивы, покидали порты приписки и базирования.
Но охватить азиатско-тихоокеанский регион силами одних кораблей без применения авиации было делом не благодарным. Самолёты берегового базирования уже барражировали на пределе своей дальности, выглядывая локаторами перископы, насылая патрульные корабли на досмотр гражданских лоханок, чертыхаясь на поднявшуюся волну и наползающий шторм. Это они (начальники) там сидят в Колорадо-Спрингс и утро в самом разгаре, а здесь часовой пояс иной. А ночь – подруга крадущихся и затаившихся.
Из бухты Сан-Франциско, через пролив Золотые Ворота в кильватерной колонне во главе с универсальным десантным кораблём «Пелелиу», выходили ещё три эсминца и два минно-тральных корабля, прокладывая путь, используя инфракрасные локаторы. Главным в эскорте был крейсер УРО «Лэйк Эри». Впереди растянувшейся кавалькады тарахтела пара вертолётов-тральщиков «Си Хок».
Контр-адмирал Вильямс Элингтон больше всего переживал за выход из бухты. Он предполагал если не наличие вражеских подлодок, то, как минимум возможность минных банок. Напрягшиеся операторы, позабыв о своих неизменных пончиках под кофе, неотрывно сидели за мониторами сонаров и станций локации. Сигнальщики на мостике, по правой и левой стороне, всматривались в тёмные воды неспокойного океана. Пройдя мимо светящихся маяков на оконечностях мoлов, эскадра развернулась походным ордером, выпуская вперёд тралы. На палубе корабля стоял рабочий шум: проверялась работа всех систем вооружения, экипажи патрульных вертолётов и самолётов вертикального взлёта готовились к выполнению полётной программы. С потерей крупных авианосцев, значимость универсальных кораблей возросла и теперь «Пелелиу» шёл окружённый эскортом, построенным в виде ромба.
Наверное, каждый настоящий военный, в отличие от каких-нибудь штабных крыс, живёт в нетерпеливом ожидании возможности проявить свои способности, то бишь, в ожидании войны. Конечно, людям свойственна вера в собственную неуязвимость, но когда смерть холодком по коже пройдётся рядом, даже самые оптимистичные милитаристы съёживаются от страха. Вильямс Элингтон знал многих парней из погибших во время налёта самолётов-самоубийц. В свете последних событий вера в непобедимость и мощь собственных вооружённых сил значительно потускнела. Всё это было крайне неприятно. Вероятно, так себя чувствовали ребята после налёта японцев в 41-м на Пёрл-Харбор – побитыми собаками. И какое бы он мужественное лицо не делал, стоя на мостике, как бы за ним не вторили остальные офицеры, в глазах у подчинённых он видел затаённый страх и вопрос.
– Да, вопросы сейчас себе задают многие, – пробормотал Элингтон.
Отойдя от берега на 15 миль, контр-адмирал отпустил тральщики. Теперь можно было увеличить скорость.
Буквально через пятнадцать минут все контрольные посты раннего обнаружения заголосили о замеченном надводном объекте. Элингтон начал успокаиваться – пусть в мире перевернулись какие-то устои и законы, но военная машина работала в запрограммированном режиме. С авангарда вертолётов поступило сообщение об обнаружении судна под австралийским флагом. Многоцелевой «Сикорский» чуть ли не облапил сухогруз, облетев вдоль и поперёк, и наконец высадил досмотровую команду. В ближайшей акватории были замечены ещё как минимум десяток разнотоннажных судов, вероятно рыболовецких и каботажных, и со всеми надо было разобраться. Не удовлетворяясь запросами по радио, военные снова и снова высылали им навстречу вертолёты. Несмотря на то, что американская эскадра шла полным ходом, время словно замерло, прошло больше часа, прежде впереди показалось австралийское судно. К тому времени десант с вертолёта полностью удовлетворил своё любопытство, сноровисто забираясь в распахнутое чрево вертолёта.
Взрыв на «австралийце» прозвучал одновременно с докладом оператора MIDAS, заставив Элингтона прогнать прочь всё своё спокойствие. Эскадра врубила полный реверс, в стремлении полной остановки, но инерция протащила суда на несколько метров вперёд. Ещё два взрыва оправдали опасения кэптена. Досталось десантному кораблю и крейсеру, к тому моменту, рыскающему по курсу и сместившемуся далеко вправо. Полученные повреждения не помешали бы «Пелелиу» выполнять свою задачу, а вот крейсер…
Взрывом крейсеру вогнуло борт в кормовой оконечности и повредило опору правого винта. Продолжая вращаться со скоростью 3000 об/мин, погнувшийся вал выворачивало из креплений, корёжа кормовую переборку машинного отделения, до тех пор, пока капитан корабля не приказал заглушить турбины. Но к тому моменту создавшееся напряжение металла в районе вмятины не выдержало, и в лопнувшую внешнюю обшивку хлынула вода. Корабль оставался на плаву, но теперь предстояло организовать его буксировку в порт. По-прежнему оставалась опасность наскочить на мину. По заверениям оператора гидроакустической станции океан вокруг кораблей, словно суп с фрикадельками – нашпигован минами, которые к тому же хаотично дрейфуют.
– Зачистить акваторию, – брюзгливо бросил Вильямс Элингтон, понимая, что застрял у западных берегов на неопределённое время.
На десантный корабль возвращался потяжелевший вертолёт с военными и австралийским экипажем. Спустившись на палубу, где авиакрыло, гудя турбинами и сжигая горючку, отрабатывало зарплаты, кэптен лично захотел пообщаться с капитаном утонувшего сухогруза.
* * *
Взывающий о помощи офицер связи с подводной лодки типа «Лос-Анджелес», имеющей номер вымпела 763 и название «Санта Фе» естественно доложил о наличии мин в квадрате 031.
Сама субмарина находилась в необычном для себя положении. Напоровшись при дрейфе ещё на одну мину, и набрав в корму воды (в экипаже поначалу кое-кто шутил: «нас опять поимели в задницу»), лодка стала почти свечкой вверх. Тперь любители поминать задницу, чертыхаясь ползали как тараканы в чреве подводного монстра. Подлетевшие первыми на CH-53 вертолётчики, дружно схватились за мобильники, щёлкая потрясающее зрелище.
Из Сан-Диего вышло всё, что могло нести хоть какую патрульную службу, включая десантные спецсуда из Коронадо в большинстве лишившиеся своих наездников.
Корабли 76-й оперативной группы медленно продвигались к внешнему рейду, пронизывая ночное небо радарами в поисках самолётов, прощупывая океан на предмет подводных сюрпризов врага. Первыми сорвалась стая вертолётов, перекрывая курсовые сектора, бросая гидроакустические буи и всматриваясь в ночь всеми сканерами, напрягая в том числе хрусталики и сетчатку, дарованные матерью природой. Следом вышли фрегаты «Перри» и плотно пробомбили из реактивных бомбомётов акваторию, на случай если фарватер заминирован, не утруждаясь поисковой ГАС, выставляя лишь неконтактные взрыватели согласно картам глубин. Далее шли тральщики, за ними, постепенно рассыпаясь веером, эсминцы и крейсера. В надводном хвосте тянулся универсальный корабль «Эссекс». Последними, торча лишь высокими рубками над водой, выходили из бухты две субмарины типа «Стёджен».
Командовавший группой контр-адмирал Теодор Винерс, второпях ознакомившись с возможностями противника, не исключал ни одну из них, водил указкой по электронному планшету, презрительно цокал языком, приговаривая что-то вроде: «несерьёзно всё это», «да мы их» и «нашли чем пугать». Расстроенный от потери кораблей он страшно нервничал. Какое-то время его мерзко подташнивало, и он только недавно понял почему – нахлебался крепкого чаю натощак, совершенно забыв закинуть в рот хоть маломальский крекер. Ко всему его ещё всё с поводом и без повода раздражало: кажущийся после авианосца слишком маленьким десантный корабль, выделенная ему каюта, ироничное манера поведения капитана, наглая чёрная рожа старшего помощника громилы-афро. Его нервозность передалась офицерам. Плюс Винерс был из тех людей, которые считали себя самыми умными и знающими, а других соответственно наоборот. С информацией о камикадзе, тенсинтай и прочих японских штучках кратко ознакомились все офицеры вплоть до среднего звена. Об этом распорядился толковый Бизел. Но только Винерс считал, что ему открылись какие-то истины. Он сразу заявил, что именно их «наверняка» и «просто непременно» будут атаковать подводные лодки или экзотические камикадзе. Никого не желая слушать, контр-адмирал отдавал распоряжения, направляя вертолёты и корабли поиска широким охватом. Впрочем, усилия американцев сразу были
вознаграждены.
* * *
Выпустив камикадзе и тенсинтай, 1-я эскадра подлодок контр-адмирала Муцуми Симидзу, медленно на экономном и бесшумном ходу отползала от берегов Америки в ожидании, когда американские адмиралы дождутся разминирования минных банок, и отважатся выйти в открытый океан. Муцуми Симидзу рассчитывал после рейда, уйти к Малайскому архипелагу пополнить на островах боекомплект и топливо. Находящиеся в постоянном напряжении японские акустики услышали какие-то подозрительные шумы, но не смогли их классифицировать и не забили тревоги. С одной стороны напрасно, а с другой были ли у них какие-то шансы?
* * *
Получилось у них всё согласно регламентам, как на учениях. Действовали с полным и осознанным превосходством над противником, без лишней суеты и уж тем более всяких опасностей и потерь, а потому даже с удовольствием и юморком. Гидроакустические буи, шлёпнувшись с вертолётов, исправно доносили до ушей и глаз операторов все последние новости жизни подводных «полей и огородов». Выделив из фоновой музыки глубинных сфер всё, что напоминает попытки человека уподобиться обитателям подводного царства, пройдясь над подозрительным районом граблями магнитометра, пропустив полученные данные через фильтр компьютера (для верности), экипажи противолодочных винтокрылых машин, офигев от обилия целей, отослали доклад командующему, а тот не задумываясь, ретранслировал целеуказание на эсминцы сопровождения.
Вертолёты-охотники живо разбежались вокруг района обнаружения, повиснув в ожидании и находясь на подхвате. В свою очередь два эсминца эскорта произвели отстрел ракето-торпед с узкой специализацией, перекрыв стандартный расход боеприпасов более чем на пятьдесят процентов – для гарантии поражения.
Пилоты «Си Хоков» отмурлыкали в эфир сначала о расчётно-повисших над заданным квадратом парашютиков с колбасками торпед на стропах.
А те, оставив на воде проплешины не тонущего шёлка, нырнули на глубину – пошёл процесс торпедной охоты, растянувшись на целых минут сорок. Все сорок минут вертолёты и висели как приклеенные, а экипажи, навострив все сканирующие системы, докладывали, подтверждая поражения, сомневаясь, давая проценты уверенности и снова подтверждая. Некоторые не выдерживали и уходили пополнять топливные закрома, а самые терпеливые (в плане отлить-залить) напоследок ещё и со своих пилонов нароняли в воду «рыб», настроенных на алгоритм поиска и уничтожения.
Контр-адмирал Теодор Винерс, получая донесения об обстановке, доклады командиров кораблей и экипажей вертолётов, победно взирал с мостика с чувством непомерного достоинства, щуря глаз и презрительно кривя рот.
– Всё работает! – Повторил он уже третий раз за последние полчаса одну и ту же фразу.
Погода продолжала стремительно портиться и его слова всякий раз подхватывал ветер, порой не донося до ушей стоящих на мостике офицеров.
Капитан корабля, косясь на начальство и шепча философские мантры, подсказанные личным психоаналитиком, с тревогой посматривал на тёмные волны – «Эссекс» пропускал на правом траверсе мыс с мерцающим огоньком маяка «Лома», обозначавшего близкий берег. Как-то недобро мигал этот маячок, словно предупреждая о чём-то.
– В этот раз мы пресекли все попытки противника неожиданно нас атаковать, – перекрикивая ветер, важно заявил Винерс.
Так получилось, что от операторов вертолётных ГАС ускользнуло то, что субмарины противника двигались не к берегам Америки, а уже от.
* * *
Наверно лётчикам камикадзе легче – для них перед смертью открытое небо. И хоть на этой широте ещё глубокая ночь, и увидеть край всходящего солнца, конечно, не суждено, но в разрывах облаков нет, нет да покажет свою лапу Южный крест. И уж потом будет исполосованный трассерами воздух и стремительно приближающаяся вражеская палуба.
«Кайтен» – это нечто другое! Надо обладать немалым мужеством и самообладанием, сидя в тесном, замкнутом пространстве боевой рубки управляемой торпеды, сдавленной тёмными океаническими водами, без права выхода наружу, бросив последний взгляд в перископ, где в перекрестье обозначено лишь главное – цель.
Человекоторпеды «Кайтэн» – сигары длиною чуть меньше пятнадцати метров с торчащим единственным перископом за невысоким обтекателем по центру, крались на минимально-допустимой скорости со стороны берега.
Мешала поднявшаяся волна, норовившая вытолкнуть торпеды к поверхности. Ветер закручивал на гребнях пенные барашки, срывая брызги, бросая их на линзы перископа, затрудняя видимость. И вся надежда, что это пенно-барашковое стадо не даст преждевременно обнаружить засаду и позволит подкрасться как можно ближе к противнику. Каждый был предоставлен только себе, внешний мир – только через линзу перископа. Все договорённости (ещё на корабле-матке) полетели к чёрту – медленно ползущие смазанные силуэты вражеских кораблей с бледными навигационными огнями, расползлись, перестроились. Дальше ждать было нельзя.
Пять моряков-смертников наметили себе целью отставший «Эссекс» и медленно ползли на максимально допустимое сближение. Остальные, выбрав направление, опустив перископ, увеличили глубину погружения и полным ходом в режиме атаки ринулись догонять часто меняющие курс корабли сопровождения.
* * *
Нервное напряжение на мостике «Эссекса», которое нагнал на всех контр-адмирал Винерс, наконец, разрешилось ревуном тревоги. Первыми всполошились акустики подлодок, поддерживающие постоянный контакт с командным управлением эскадры через системы интегрирования. Малые прибрежные глубины и поднявшаяся волна создавали крайне неблагоприятные условия для обнаружения подводной угрозы – их заметили в самый последний момент, когда уже ничего нельзя было сделать. Американские подводники даже не успели вжать головы в плечи – им, впечатлительным, ожидающим с секунды на секунду сокрушительного удара, даже показалось, как их подводные «коровы» качнулись на завихрениях от винтов торпед.
Имея малый ход своих кораблей и возможность манёвра, единственное, что успели сделать, выпустить «приманки» и заорать в эфир об опасности.
Первая группа смертников прошли буквально в метрах от американских подлодок, нагнав на информированные экипажи страху от такой неожиданности и прыти. Фактически японские пилоты вывели свои аппараты в самый ордер американцев. Торчащие рубки двух «Стёржен» они в темноте не заметили, вовсю выглядывая высокий профиль и широкий зад авианосного корабля с призывно маячившим одиноким красным огоньком.
Подошедший на минимальную дистанцию противник, а так же кучность построения эскорта ограничивали ассортимент противолодочного оружия янки. Однако тёмные силуэты американских кораблей, враз озарились яркими огнями с фантастической подсветкой дымного ореола, наполнив мир в ближайшей округе воем и грохотом. Море вокруг на десятки и сотни метров за считанные секунды буквально вскипело – янки отрабатывали в панике, но с профессионализмом, основательно глуша врага и рыбу.
Шум под водой передаётся более чем хорошо. Расслышав поднявшуюся суету и стрельбу, японские моряки в отставших торпедах решили не искушать судьбу – они её, как говорится, меняли. Перископы юркнули вниз, глубина и скорость увеличились.
Слепая атака! В расчёте скорость торпеды, курс и скорость цели, угол упреждения. Руки двигаются автоматически, дёргая и вращая рычаги управления. Кто и сохранял хладнокровие – всё, от спокойствия не осталось и следа. И не потому что предстоит умирать… в этом стальном гробу. Нет! От того что может не дойти, промазать, сгинуть в пучине так и не выполнив свой долг. В дрожащей руке секундомер, искусанные губы шевелятся вслед за дискретным движением стрелки, под напитавшейся потом хатимаки бьётся только одна мысль:
«Давай! Сейчас! Ну, же!».
Один из пилотов не уследил за расходом топлива, либо неправильно выставил вентиль давления воздуха, и облегчённая торпеда неожиданно вынырнула из воды под мгновенно среагировавшие «фаланксы».
С мостика «Эссекса» контр-адмирал Винерс не заметил саму торпеду, но проследив за упругими жгутами, ударившими в поверхность воды, увидел вдруг вспышку и вставший из воды косматый грязно-серый столб воды. Минутой позже его ноги «уехали» куда-то в сторону – взрыв полутора тонн взрывчатки прогремели в корме «Эссекса». Для сорокатонного «графства» не особая встряска, но всех, кто имел неосторожность, при сохранении равновесия, уповать лишь на две конечности, повалило на пол. Лично для Винерса неудобство просто падением не ограничилось – посыпались вповалку, друг на друга, все в основном быстро вскочили и лишь адмирал, шипя ругательства, извиваясь под массивным телом старпома, вдыхая ароматы взволнованного человека, и ни как не мог высвободиться из-под объятий невыносимого афроамериканца.