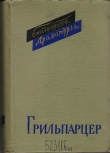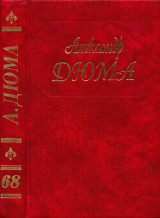
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)
Все эти статуи, с большим мастерством изваянные из золоченой бронзы, производят сильное впечатление. Особенно выделяются своим суровым великолепием статуи обоих монархов в своих украшенных гербами мантиях.
Встав спиной к алтарю, оказываешься лицом к месту заседаний капитула. Не ищите здесь, сударыня, изящных орнаментов в стиле Возрождения или выразительных скульптур пятнадцатого века. Нет. Высокие кресла, вместо того чтобы, как в Бургосе, радовать глаз прекрасными резными цветами или красивыми обрамлениями, соответствуют общей суровости; простая резьба, холодные линии – вот их единственное украшение.
Эта непреклонная и молчаливая воля, подчинившая законам всемогущего прямого угла и дерево и гранит, давит на вас с той минуты, когда вы входите в церковь. Все храмы мира дают вам надежду в обмен на молитву. Часовня же Эскориала посвящена богу мщения, микеланджеловскому Христу Страшного суда. Молитесь, если хотите, но часовня, словно темница святой Инквизиции, не откликнется эхом. Мрачную гармонию этой церкви нарушают две похожие на фонари кафедры, поставленные при Фердинанде VII, и роспись свода, выполненная по приказу Карла II.
Есть странность в том, что, когда некая могучая, твердая волевая личность выражает себя в каком-нибудь творении, несущем на себе отпечаток всех особенностей ее гения, люди не могут оставить это творение в неприкосновенности как неоспоримый и священный памятник. В кои веки приходит человек, характерный представитель своего времени, отражающий целую эпоху; он оставляет по себе памятник, дающий возможность всем последующим поколениям оценить его дух. И что же? Его сменяет другой человек, с умом бедным и ничтожным; он не может выносить возвышенную печаль, которой питал себя его предшественник, и потому является, ведя с собой маляра и жестянщика, и одному говорит: «Все выглядит чересчур грустно, чересчур мрачно, чересчур тягостно для моего бедного ума, легкого и безвольного, нарисуйте-ка мне на этих стенах что-нибудь приятное!»; а другому: «Смастерите-ка мне на этой лестнице что-нибудь веселенькое!» Маляр и жестянщик, обрадовавшись, принимаются за работу и навсегда оскверняют творение, считая при этом, что они его украшают.
Да помилует Господь Бог г-на Андриё, переделавшего «Никомеда»! Да простит Господь королю Карлу И, подправлявшему Эскориал.
И потому, сударыня, если Вы когда-нибудь посетите Эскориал, ограничьте свою любознательность знакомством с часовней, Подридеро и комнатой, где скончался Филипп; все остальное только ослабит Ваше первое восприятие. Глубокое впечатление – такая редкость в жизни; вызывая в нас дрожь, оно раскрывает перед нашим взором столько новых горизонтов, что я никогда не стану избегать его, даже если оно может повергнуть меня в печаль и ужас, как это было в Эскориале.
Подридеро – это мадридский Сен-Дени; это склеп, где хранится прах королей. Это своего рода Пантеон, отделанный яшмой, порфиром и другими ценными породами камня; но ему далеко до торжественно-величественных склепов Сен-Дени, где на последней ступени последний усопший монарх ждет своего преемника. Прах мертвый требует прах живой.
В той комнате, где Филипп II умер, он провел три последних года своей жизни, прикованный подагрой к креслу. Из алькова спальни через узкое слуховое окно виден главный алтарь часовни – таким образом, не вставая, не покидая кровати, король присутствовал на литургии. Его министры приходили в эту маленькую комнату работать вместе с ним, и посетителям Эскориала до сих пор показывают деревянную дощечку: она лежала на коленях у короля и у того, кого он допускал к себе, будучи в столь тягостном состоянии, и служила для работы и подписания бумаг. У стены стоит большое кресло; в него переносили Филиппа II, когда он оставлял кровать. Рядом с этим креслом стоят две табуретки – летняя и зимняя – на той или другой, в зависимости от времени года, король вытягивал свою больную ногу. Табуретки эти по форме складные: одна из них сделана из камыша, вторая обита овечьей шкурой. На обеих сохранился след его каблука, сорок лет давившего на половину мира; он явственно виден и выглядит почти угрожающе.
А теперь, сударыня, поблуждайте в бесконечных коридорах, по которым Вас будет водить слепец-весельчак, если Вы пожелаете вызвать к жизни один из тех снов, какие Шарль Нодье рассказывает в своей причудливой «Смарре». Вы ощутите, что этот узкий каменный проход с каждой минутой все больше сжимает Вас; Вы почувствуете, как тесно становится Вашей груди между гранитными стенами, гранитным полом и гранитным потолком; Вам станет необходим свет, воздух, солнце, и все это Вы обретете, поднявшись на самый купол, откуда Вы увидите под ногами у себя все сооружение, а на горизонте – Мадрид.
Но, покидая Эскориал, Вы пожалеете прежде всего о прекрасных монахах Сурбарана и Мурильо, в длинных волочащихся одеждах и с выбритыми головами. Эскориал без монахов – нелепая бессмыслица, и никакого объяснения этому быть не может. Вам скажут, что революция упразднила монахов; но разве революции могут достигнуть Эскориала? Разве Эскориал принадлежит земле? Разве Эскориал принадлежит этому миру? Да выгоните монахов из всей остальной Испании, господа философы, господа прогрессисты, господа устроители конституции, но во имя Неба сделайте исключение для Эскориала, как мы сделали его для Ла-Траппа и Гранд-Шартрёза.
Пока мы оставались в Эскориале, мы и не думали о завтраке – зловещее сооружение теснило нам грудь, но стоило нам выйти оттуда, как голод пробудился в нас вместе с жизнью. Мы направились к постоялому двору метра Калисто Бургильоса. Хозяин ждал нас у дверей.
Меню в Испании не отличается разнообразием. Нам предложили отбивные котлеты, картофель и салат, то есть, как видите, то же, что накануне, и вдобавок зелень. Впрочем, испанская зелень горько разочаровала нас; испанское растительное масло и уксус настолько далеки от наших кулинарных привычек, что я готов вызвать на спор любого француза, каким бы он ни был страстным любителем латука, рапунцеля или белого цикория, ибо уверен, что он не сможет проглотить даже маленького кусочка той или другой из этих трав, столь аппетитных на вид, однако, после того как они приходят в соприкосновение с той или другой из упомянутых мною жидких приправ.
Именно тогда, сударыня, мне впервые пришла в голову великолепная идея готовить салат без растительного масла и уксуса. Несомненно, будь во мне хоть какая-нибудь коммерческая жилка, это была бы для меня прекрасная возможность добиться привилегии на изобретение, а получив эту привилегию, разбогатеть, пустив ее в ход в Испании и распространив ее действие на Италию. Но, увы! Вы же знаете, гения коммерции забыли позвать на мои крестины, и, как те ревнивые феи, что преследуют принцев и принцесс в сказках Перро, этот зловредный дух не только не защищает меня, но и терзает.
Так что я просто-напросто сообщил своим товарищам по путешествию, как надо делать салат без растительного масла и уксуса, и, вместо того чтобы обрести звание разбогатевшего дельца, удовлетворился титулом благодетеля человечества. Итак, салат без масла и уксуса делают с сырыми яйцами и лимоном. Приготовление этой заправки к салату безмерно заинтриговало метра Калисто Бургильоса, и он проявил к ней такой интерес, что я, вырвав из рук Жиро салатницу, когда он потянулся к ней в третий раз, отнес последние уцелевшие листочки салата нашему хозяину. Туда же я добавил кусочек омлета моего приготовления.
Об этом своем добром поступке я совсем забыл, как вдруг, выходя из дома, столкнулся с метром Калисто, который поджидал меня на пороге, держа по бокалу в каждой руке и бурдюк под мышкой. В знак братства он угостил меня валь-де-пеньясом. На самом деле, метр Калисто Бургильос оказал мне эту честь, решив, что я повар из богатого дома и приехал в Мадрид на нынешние празднества. Я оставил его в этом заблуждении, ибо так он воспринимал меня куда более значительной персоной, чем если бы я открыл ему, что перед ним автор «Мушкетеров» и «Монте-Кристо».
Следовало торопиться: был уже полдень, а в семь часов нас ждали на званом ужине, который давала в мою честь французская колония. Да, сударыня, что тут поделаешь? Так уж устроены наши соотечественники: за границей они нас чествуют, радушно встречают, обнимают, а дома кусают и перемывают нам косточки. За рубежом вас окружает ваша посмертная слава. Стоит пересечь границу – и вы будто умираете. Это уже не вы, а ваша тень встречает на каждом шагу проявления доброжелательства, и, должен сказать, мою прославленную тень принимают здесь так, что это вызывает зависть у моего бедного собственного «я».
Дело в одном обстоятельстве, о котором Вы, сударыня, не догадываетесь и я, разумеется, тоже прежде не догадывался. Оказывается, в Мадриде я более известен и, возможно, более популярен, чем во Франции. Испанцам кажется, что они распознают во мне (когда я говорю «во мне», это, как Вы понимаете, означает «в моих произведениях») нечто кастильское, и это льстит их самолюбию. Ведь правда же, что, прежде чем стать кавалером ордена Почетного легиона во Франции, я стал командором ордена Изабеллы Католической в Испании. В этом отношении заграница показала дорогу моей родине. Не сомневаюсь, сударыня, что после моего возвращения меня заставят дорого заплатить за все те любезности, какие мне здесь оказывали. Но, тем не менее, по тому, с какой благодарностью относятся ко мне в Испании, я могу так или иначе судить, что обо мне будут думать после моей смерти.
И потому со времени моего приезда установились отношения подлинной сердечности между нами и испанскими деятелями искусства. Лавега носит мою ленту ордена Почетного легиона, а я – ленту Изабелы Католической, снятую с шеи Мадрасо. Бретон, этот испанский Скриб, и Рибера, который носит широко известное в живописи имя и сам вполне достоин этого имени, проводят все вечера с нами. Доступ в фойе театра Эль Принсипе, где собираются все выдающиеся люди мадридского артистического мира, был открыт нам двумя самыми известными драматическими актерами Испании: доном Карлосом де ла Торре и Ромеа. Каждый день кто-нибудь из только что названных мною лиц предлагает нам свои услуги в качестве чичероне, и перед ним открываются любые двери: картинные галереи, артиллерийские музеи, парки и королевские дворцы.
По правде говоря, посольство тоже изо всех сил помогает осуществлять наши желания. Господин Брессон, только что получивший от ее величества титулы герцога де Санта-Исабель и испанского гранда, безукоризненно любезен: три дня назад он устраивал для нас в прелестном дворце, где находится его резиденция, настоящий королевский прием.
Словом, возвращаясь к тому, с чего я начал это отступление, нас ждала в Мадриде в семь часов французская колония, которая давала в нашу честь обед на сто персон; руководил им брат отважного полковника Камонда, один из самых известных негоциантов Мадрида.
Это тоже был королевский обед, сударыня! Штраус, находившийся в числе приглашенных, устроил нам сюрприз. Во время десерта появился весь его оркестр – тот самый замечательный оркестр, который в течение целой недели заставлял королей и королев, словно простых пастухов и пастушек, танцевать, – и до полуночи играл вальсы, кадрили и бравурные мелодии так, как их умеют исполнять только немецкие музыканты.
В полночь все стали расходиться; за пять часов было выкурено сигар на пятьсот франков. Не стоит и говорить, что, будучи весь пропитан ароматом гаванских сигар, я не принимал совершенно никакого участия в их курении. Не знаю, что меня ждет по возвращении во Францию, сударыня; не знаю, в какие неведомые сражения я буду втянут; не представляю, какая новая гидра о семи головах опять выступит против меня – но мне точно известно, что я вернусь с сердцем, переполненным благодарностью за прошедшие дни, и ее с избытком хватит для того, чтобы с презрением отнестись ко всем ожидающим меня оскорблениям.
Сейчас три часа утра, сударыня, через два часа я уеду из Мадрида. Пожалейте меня, сударыня, ведь я провел здесь двенадцать самых счастливых дней в моей жизни, а как Вам известно, счастливые дни для меня редкость. Итак, прощай Мадрид, гостеприимный город! Прощайте те, искренняя дружба с кем связала меня только вчера, но будет вечной; прощайте, бархатные глаза, заставившие Байрона изменить английским красавицам; прощайте, прекрасные ручки, так ловко играющие шелестящим веером; прощайте, ножки, самой обычной из которых будет впору туфелька Золушки или даже, сударыня, туфелька еще меньше, известная только мне. Когда я говорю «только мне», я ошибаюсь, сударыня, Вы ведь знаете, у меня нет секретов от Вас.
Кстати, когда позавчера я ходил прощаться с господином герцогом де Монпансье, он любезно сообщил мне, что ее величество королева Испании только что пожаловала мне звание командора ордена Карла III, а возвратившись домой два часа назад, я обнаружил орденские знаки, присланные мне Осуной, который просил меня принять их на память о нем. Как видите, сударыня, не случайно я с сожалением покидаю Мадрид.
XII
Аранхуэс, 25 октября.
Через два часа после того как было закончено последнее письмо, которое я имел честь отослать Вам, сударыня, мы должны были ехать в Толедо. Путешествие было задумано в том же составе и таким же образом, как поездка в Эско-риал. Другими словами, Жиро, Маке, Буланже, Дебароль, Ашар и Александр должны были после замены уставших мулов на свежих забраться в достославную желто-зеленую берлину. Дону Риего и мне предстояло воспользоваться дилижансом. Я проникся дружеским расположением к доброму священнику и стремился не разлучаться с ним как можно дольше.
Запасы провизии были сделаны за день до отъезда и погружены в огромную корзину, так как в наши планы не входило возвращаться в Мадрид. Теми же транспортными средствами, какие должны были доставить нас в Толедо, мы рассчитывали добраться до Аранхуэса, а оттуда пиренейским дилижансом, в котором для нас были зарезервированы все внутренние места, всем вместе направиться в Гранаду. Корзина с провизией была отдана под непосредственное наблюдение Жиро.
В условленный час я распрощался с домом г-на Монье, площадью Алькала, воротами Толедо, и мы покинули Мадрид. Дорога шла вдоль берегов Тахо, по всему течению реки покрытых зелеными зарослями, которые были тем более заметны, что они вырисовывались на фоне бесконечных песчаных равнин и вересковых пустошей. Не знаю, ехали ли мы правильной дорогой или, пытаясь выиграть несколько километров, наш майорал выбрал какой-то нестандартный путь, но могу сказать, что половину дороги мы прошли пешком, проникнувшись жалостью к несчастным животным, тащившим нашу карету, а два или три раза, когда они застревали в песке или в рытвинах, даже оказывали помощь беднягам, что явно было для них существенной поддержкой.
Следует добавить, что каждый раз, когда случалось подобное происшествие, несчастный дон Риего начинал громко стенать, жалуясь на состояние дорожного дела в Испании и требуя дать ему самые точные сведения о состоянии дорог во Франции, а это доказывало, что, несмотря на свой преклонный возраст, он не потерял желания просвещаться.
В Испании, сударыня, есть одна страшная опасность, от которой надо заранее себя оберегать: это разница между расстоянием заявленным и расстоянием действительным. Так, вам заявляют, что от Толедо до Мадрида или от Мадрида до Толедо двенадцать льё. Вы трогаетесь в путь, держа в голове так или иначе мысль о французских льё. Тихо бормоча про себя, вы умножаете один на четыре, четырежды двенадцать – сорок восемь, и вы рассчитываете на сорок восемь километров, то есть на шесть часов пути, в предположении, что ехать вы будете с обычной скоростью. Вы отъезжаете, пребывая в этой уверенности, и начинаете высматривать дорожные отметки, которые во Франции отвлекают наше нетерпение, как кусочки шоколада отвлекают голодный желудок, – и что же? Никаких дорожных знаков, никаких указательных столбов – первое разочарование!
Вы продолжаете себе твердить: двенадцать льё. Ладно! Двенадцать льё, если предположить, что мы едем не так быстро, как рассчитывали, вместо шести часов займут восемь. Вы едете так шесть часов, восемь, десять, двенадцать; каждую минуту вы спрашиваете, близка ли уже цель, и вам каждый раз дают утешительный ответ. Наконец, через пятнадцать-шестнадцать часов после вашего отъезда вы различаете силуэт города, вырисовывающийся в лучах заходящего солнца.
Вы спрашиваете, что это: Толедо? Аранхуэс? Бургос? Гранада? Севилья? Вам отвечают: нет, но, когда мы доберемся до города, там уже будет близко до места назначения. В итоге, отправившись в пять утра, подобно нам, вы, так же как это произошло с нами, приедете в восемь часов вечера. На хороших дорогах и на больших просторах быстрая езда вас несколько утешит. При этом, правда, возрастает опасность перевернуться, но что за важность: пусть перевернемся, лишь бы поскорее добраться!
Подъезжая к Толедо, мы были поражены зрелищем этого города, ночью, возможно, еще более величественного, чем днем. Правда, Господь ниспослал нам, чтобы утешить нас за дневные тяготы, одну из тех темных и ясных ночей, какими он удостаивает лишь те края, что одарены его любовью. В таинственном и спокойном сиянии этой ночи мы увидели огромные ворота и дорогу, круто поднимавшуюся в гору; на вершине горы виднелись устремленные к небу зубчатые гребни домов и острые шпицы колоколен, в то время как из глубокой пропасти, окружающей гору, доносился рев несущейся по каменному руслу Тахо: река, на наших глазах так спокойно бежавшая по равнине, а здесь вынужденная сделать крутой поворот, стенала и роптала, словно путник, которому неожиданное препятствие внезапно удлинило дорогу.
В восемь часов вечера мы разместились в гостинице, возле которой остановилась карета, то есть в posada del Lino[21]. Мои товарищи выехали в четыре утра, а я в пять. Полагаясь на свои ошибочные расчеты, мы думали проделать двенадцать льё, и, стало быть, в два-три часа пополудни, самое позднее, должны уже были быть в Толедо. В два-три часа пополудни во всех странах мира, за исключением Лапландии, светит солнце, а когда светит солнце, тем более в испанском городе, найти друг друга несложно. Поэтому ни о каком условленном месте свидания речи не было.
Но вместо двух-трех часов пополудни мы приехали только в восемь. Необходимо было найти друг друга в тот же вечер. Я отправил всех лакеев гостиницы «Лино» на поиски своих друзей, рассчитывая, что и они, расположившись в какой-нибудь другой гостинице, тоже разослали всех тамошних лакеев с заданием найти меня. В оди-надцать часов поступили новости: мои друзья ужинали в fonda de los Caballeros[22]. Посланцу показалось, что они очень беспокоились обо мне. Я накинул плащ – в Испании, сударыня, всегда надевают плащи – и пошел за провожатым.
После десятиминутных странствий по фантастическим улицам, пройдя полкилометра вдоль края пропасти, тянущейся рядом с домами, наверное восхитительными при свете дня, провожатый остановился перед довольно непритязательным по виду домом и произнес: «Это здесь!»
Я вошел. Переступив порог, я уже не нуждался ни в каком проводнике. Вы знакомы с моими друзьями, сударыня. Никто из них не изображает из себя ни Гамлета, ни Фауста, ни Антони. Они обогатили гамму смеха, прибавив к ней новую октаву. В ту минуту, когда я открывал дверь, они исполняли эту гамму во всем ее объеме; хозяин с хозяйкой лично прислуживали за столом. «А вот и отец!» – воскликнул Александр. «Амо!» – промолвили все остальные. И, поднявшись со своих мест, мои спутники почтительно поклонились мне.
Я редко бранюсь, мало пью и не курю. В итоге, когда я совершаю какое-нибудь из этих трех запрещенных установлениями Бога и Церкви действий, я перехожу всякие границы. За последние три часа я скопил непомерное количество желчи и выплеснул ее в виде ругательства, от которого могло бы радостно затрепетать сердце немца. Жиро повернулся к остальным членам колонии: «Я вас предупреждал, что метр будет рассержен!» – «Это принц, это принц!» – твердили шепотом хозяин и хозяйка.
Для меня было загадкой, почему меня удостаивают этими наименованиями – «амо», «принц», «метр» – и чем вызвано напускное смирение, с каким вся колония меня встретила. «Ну же, хватит! – засмеялся я в свою очередь. – Что за шутки?!» – «Ашар! – произнес Буланже. – Ведь вы настоящий оратор, объясните амо, что происходит». Ашар поклонился. «Метр!» – начал он.
Я ничего не понимал, но, чтобы разобраться, надо было позволить оратору довести речь до конца; впрочем, заранее каждый из нас соглашался идти навстречу всякого рода фантазиям и причудам, которые могли бы доставить нам во время путешествия неожиданное удовольствие.
«Метр, – продолжал Ашар. – Да будет известно вашему превосходительству (я поклонился), что, торопясь сегодня утром уехать, мы забыли взять с собой нечто важное, а именно выхлопотанное и полученное вами вчера разрешение открывать перед нами ворота». – «Я его отдал Дебаролю, оно должно быть у него!» – прервал я его. «Это была ошибка, если, конечно, ваше превосходительство может совершать ошибки. Дебароль так тщательно спрятал разрешение, что никто его не видел в момент отъезда и все о нем забыли».
«Ты слышишь?» – воскликнул Жиро, надавливая на нос Дебаролю, который воспользовался передышкой, предоставленной ему выступлением Ашара, и погрузился в дремоту. «Что такое?» – спросил он, внезапно пробуждаясь. «Ничего, – успокоил его Жиро. – Продолжай, Ашар! Ты говоришь превосходно!» Ашар скромно поклонился и продолжил.
«Пришлось вернуться в дом Монье, но никаких следов разрешения мы не обнаружили. После получасовых поисков Дебароль вдруг воскликнул: "О, я вспомнил!" – "Что?" – "Я его использовал, когда заряжал карабин!" – "Разрешение?" – "Да!" Можете себе представить, ваше превосходительство, какими проклятиями был осыпан Дебароль. В пять часов мы вновь подъехали к воротам;
они открывались. Перед нами, – продолжал Ашар, принимая напыщенную позу, – виднелись длинные вереницы возов и караваны мулов; множество ослов, в беспорядке расположившихся на соседних полях, с философским спокойствием щипали морковь и капусту, предоставленную им во временное пользование. Огромные жующие быки, заполненные доверху телеги, пастухи с длинными хлыстами в руках – все это придавало величественную простоту простиравшейся перед нами местности». – «Браво!» – выдохнула колония. «Как он говорит! – восхитился Жиро. – Ни я, ни Леполль не способны на такое! Продолжай же, о мастер слова, продолжай!» – «Продолжайте!» – с достоинством добавил я.
Хозяин и хозяйка смотрели на эту сцену и слушали, пребывая в глубочайшем изумлении. Ашар возобновил свою речь, причем таким правильным выражением голоса, как если бы, словно Гай Гракх, он имел у себя за спиной флейтиста, задающего ему тон. «Вся толпа застыла в неподвижности и молчании; крестьяне, облокотившиеся на дышла повозок, как жнецы Робера Леопольда; погонщики, погрузившиеся в раздумье подле своих мулов и дымящие сигаретами; дровосеки в плащах, наброшенных на плечо, и с головами, повязанными платком, – никто из этих людей не толкал соседа и не пытался занять его место. Приехавшие последними становились в конец. Это безмолвие и эта степенность заставили меня вспомнить шум и суматоху, царящие у застав Парижа».
«О родина!» – вздохнул Жиро. «Превосходно!» – добавил я. «Так я могу отправлять это в „Эпоху“?» – поинтересовался Ашар. «Еще бы!» Александр поднялся, взял в руки уголь и написал на белой стене трактира: «Читайте „Эпоху“!»
Ашар продолжал: «Когда ворота распахнулись на петельных крюках, все стали проходить по очереди. Бледный свет покрывал глянцем землю, и влажные от росы борозды сверкали в отблесках рождающегося дня своими серебряными поясами; дрожащая дымка развевалась, словно вуаль невесты, над дальними селениями, и маленькие тучки проплывали по переменчивому розовому небу, напоминая ангелочков с картин Альбани…»
«Хватит! – вскричал Буланже. – Иначе я должен буду схватиться за кисти!» – «Да! Да! – поддержал его Александр., – Хватит, а то это никогда не кончится! Лучше я тебе расскажу, отец! Мы поехали по отвратительной дороге и потратили на нее четырнадцать часов вместо восьми. Ничего съестного нельзя было найти на протяжении всего пути, и поэтому нам пришлось открыть корзину с провизией. (Жиро со вздохом поник головой.) В конце концов мы добрались сюда, умирая с голоду. Чтобы получить хоть что-нибудь из еды, мы сказали, что составляем свиту очень важного сеньора и поджидаем его. Этот важный сеньор, разумеется, ты! Наконец-то ты приехал. Ты голоден?» – «Да!» – «Занимай место Дебароля: он опять заснул, подвигайся к столу и ешь!» – «Браво!» – закричала колония. «Амо?» – почтительно глядя на меня, поинтересовались хозяева. «Да!» – хором ответила вся компания.
Хозяин и хозяйка бросились обслуживать меня в соответствии с моим саном. Я остановил их жестом: «Я уже поужинал!» – «Ну, и что! – воскликнул Александр. – Даже если ты поужинал, все равно садись и, выпей мансани-льи, которую открыл для нас Маке, расскажи нам о своем путешествии». Я сел и в свою очередь рассказал о выпавших на мою долю испытаниях.
«Господа, – произнес Жиро, когда я закончил, – предлагаю проводить амо до его гостиницы; прежде всего, чтобы оказать ему уважение, как повелевает нам долг, а кроме того, надо запомнить, где она находится». – «Да, да! Проводим амо!» – закричали все.
Жиро надавил пальцем на нос Дебароля. «Эй, – воскликнул тот, – que quiere usted?[23]» – «Прекрасно, – заметил Жиро, – прекрасно. Поскольку ты расположен изъясняться по-испански, передай нашим славным хозяевам, что мы пойдем проводить метра в его гостиницу, а они тем временем пусть приготовят нам постели». Дебароль перевел слова Жиро и меланхоличным взмахом руки попрощался со мной.
С большой торжественностью меня провели по тем же улицам, по каким я шел к гостинице моих спутников. Мой провожатый поджидал меня у дверей. За свои труды он получил монетку, и, поскольку эта была первая в его жизни серебряная монета, попавшая ему в руки, он восторженно закричал: «Да здравствует монсеньор!» Ни дать ни взять Грипсолейль.
На следующий день Толедо был разбужен известием, что в стенах города появился принц, путешествующий инкогнито. Обратите на это внимание, сударыня, поскольку сказанное имеет куда более важное значение, чем Вы могли бы подумать. Шутка, хорошая или плохая, могла стоить жизни пяти нашим спутникам, и если в один прекрасный день Вы сможете их увидеть, то только благодаря вмешательству доброго Провидения, которое, поднявшись в одну с нами карету в минуту нашего отъезда, соблаговолило пересечь границу, будучи, несомненно, приглашено на свадьбу его высочества герцога де Монпансье, и последовало за нами в Толедо.
Возможно, сударыня, после того, что я Вам рассказывал о надменности испанских трактирщиков, Вы удивляетесь предупредительности хозяев гостиницы «Кабальерос». Дело в том, сударыня, что Толедо – умирающий город. От чего он умирает? Гордость не позволяет ему признать, что он умирает от голода.
Толедо, старинный королевский город, оспариваемый как самая драгоценная жемчужина короны, за которую они убивали друг друга, доном Педро Справедливым и доном Энрике Трастамаре; Толедо, насчитывавший прежде от ста до ста двадцати тысяч жителей, тщетно пытается отыскать теперь в своих опустевших стенах пятнадцать тысяч обитателей. Толедо стоит теперь далеко от всех дорог, сударыня, и, за исключением знаменитой сабельной мануфактуры, отрезан от всякой торговли; короче, Толедо живет, а вернее, держится на ногах исключительно благодаря редким иностранцам, решающимся пересечь пустыню, куда более пустынную, чем Суэцкая, чтобы добраться до него.
Эти иностранцы, приносящие с собою жизнь, здесь, как Вы понимаете, желанные гости, особенно для владельцев гостиниц. И если голод заставляет волков выйти из леса, то он же вполне может заставить трактирщиков выйти из своих домов. Отмечаю как факт, что содержатели постоялых домов в Толедо имеют характерную особенность: они покидают свои дома, чтобы отправиться на рынок и выйти навстречу путешественникам. В итоге в этом испанском городе, где больше всего голодных, можно лучше всего поесть. Впрочем, сударыня, следует поскорее объяснить Вам, что Толедо не заслуживает такого запустения.
Если говорить о местоположении города, его внешнем облике и об изобилии света в нем, то Толедо просто чудо. В нем двадцать церквей, так богато украшенных резьбой по камню, как ни одна церковь во Франции. Толедо хранит память о стольких событиях, что историку здесь хватит работы на десять лет, а летописцу – на всю жизнь. И это не считая того особого величия мертвых или умирающих городов, в которое Толедо облекся с царственным величием.
Все на свете описывают Толедо, сударыня, начиная с добрейшего и милейшего г-на Делаборда и кончая нашим другом Ашаром, человеком остроумным и ярким, который как раз сейчас, когда я пишу Вам, пишет Соляру, соединяя в своем послании все то, что было написано до него. Так что если Вы хотите узнать Толедо так, словно видели этот город собственными глазами, то повторю Вам, сударыня, слова, которые Александр написал известным Вам неудобочитаемым почерком на стене гостиницы «Кабальерос»: «Читайте "Эпоху"!»
С шести часов утра до четырех часов дня мы осматривали Толедо, бродя вокруг монастырей, входя в церкви, взбираясь на колокольни, выказывая при этом всевозможные формы восторга и в итоге, изнуренные самим этим восторгом, не имея более сил восторгаться.
Если Вы когда-нибудь приедете в Испанию, сударыня, и посетите Мадрид, возьмите напрокат карету, снарядите дилижанс, дождитесь каравана, если потребуется, но поезжайте в Толедо, сударыня, поезжайте в Толедо! Только проявите предосторожность и заранее подумайте о том, каким способом Вы будете оттуда уезжать. Я вот пренебрег такой предосторожностью и чуть было не остался в Толедо с доном Риего, чтобы основать там колонию.
В самом деле, Вы помните, сударыня, что я приехал в Толедо дилижансом. Так вот, находясь по-прежнему под влиянием своих ошибочных расчетов, заставлявших меня питать надежду преодолеть путь из Мадрида в Толедо за восемь часов, я рассчитывал воспользоваться дилижансом из Аранхуэса, отстоявшего, по словам все тех же испанцев, всего лишь на семь льё от Толедо, и проехать эти семь льё за три часа. Как бы не так! Мне было наглядно объяснено, что если я сумею проехать эти семь льё за восемь часов, то могу считать себя избранником Неба.