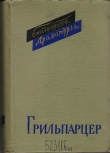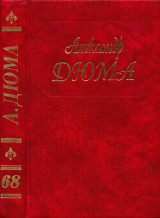
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 42 страниц)
Мы уже говорили об испанских танцах и о г-же Ги Стефан, и больше нам нечего было бы сказать о них, если бы не ее достойная соперница Календерия Мелиндес. Одноактные пьески как изображение национальных нравов заслуживают самой высокой оценки – все черты андалусского характера воспроизведены в этих милых и остроумных пустячках, прелестно сыгранных актерами, хотя ясно, что те же исполнители выглядели бы весьма посредственно в пьесах Скриба или Байяра, другими словами, если бы им пришлось представлять то, что совершенно не свойственно им самим. Зал был переполнен. Спектакль кончился в одиннадцать часов.
Когда мы вышли из театра, Гранада была окутана одной из тех ясных и звездных ночей, какие небо сотворило словно лишь для нее; что-то полупрозрачное, похожее на обратившийся в дымку опал, витало в воздухе и нежно овевало все живое, все способное дышать, своим легким и мягким дуновением; при таком дуновении грудь словно расширялась, увеличивалась в объеме и чудилось, что если великая тайна жизни, которую так настойчиво пытались разгадать алхимики пятнадцатого века, хоть как-то еще существует, то она должна быть раскрыта именно в Гранаде. Двери театра выходили на прелестную площадь; на ее углу перед образом Мадонны стояло пять или шесть постоянно горящих свечей разных размеров. Мадонна была восхитительна в своей непорочности и чистоте. Сказать ли теперь Вам, сударыня, чьи руки зажигают эти свечи и какого рода услугу ждут от этой Мадонны верующие, приходя к ней с молитвой? К несчастью, далеко не все женщины заслуживают или даже имеют притязание заслуживать ту репутацию добродетельности, какую снискали цыганки; напротив, многие были бы крайне недовольны, если бы им приписали ее, ибо это повредило бы не только их удовольствиям, но и их интересам. Так вот, сударыня, именно эти женщины и зажигают Мадонне свечи, и цель этого – добиться ее благосклонности к их интересам, которым, как мы только что сказали, репутация чересчур высокой добродетельности принесла бы страшный урон.
Позволю себе сказать, что, войдя непосредственно в обитель Мадонны, можно добыть адреса этих правоверных, а точнее неверных красавиц. Следует упомянуть, к чести моих товарищей и моей, что мы не пытались проверить этот факт. Так что в подтверждение этой забавной подробности мы можем привести лишь весьма смутные и неопределенные сведения.
Самым медленным шагом следуя по дороге, которая должна была привести нас к гостинице, мы вдруг услышали, как из какого-то дома разносятся веселые звуки гитары и кастаньет, дававшие знать, что там происходит испанский бал. Этот шум напомнил нам танцевальный вечер в Вилья-Мехоре, но на сей раз, находясь в окружении друзей и в центре города, мы могли не опасаться такой же развязки. Поэтому мы тотчас же остановились, прислушиваясь к царящему там зазывному веселью, и только один Жиро, казалось, был больше озабочен разглядыванием дома, чем желанием понять по доносящимся до нас обрывкам мелодии, какой танец там исполняют – халео-де-херес, фанданго или качучу. Прислушиваясь к музыке, мы задались вопросом, нельзя ли и нам принять участие в этом бале. В ту же минуту на Дебароля было возложено задание отправиться с этим вопросом к хозяину или хозяйке дома. Однако, к нашему величайшему изумлению, Жиро, не знавший ни слова по-испански, вдруг объявил, что он берет на себя это чреватое опасностями поручение.
Жиро постучал – дверь открылась, пропустила его и захлопнулась. Мы же остались у двери, намереваясь не только дождаться его с ответом, но и, если он чересчур задержится, вызволить его оттуда. Десять минут спустя Жиро появился и жестом победителя предложил нам следовать за ним. Бал происходил на втором этаже. К дому, бедному на вид, вел проход, а в глубине этого прохода были заметны ступени лестницы; на верхних ее ступенях стояли две или три молодые женщины и столько же молодых людей с лампами в руках. Такая предупредительность со стороны хозяев дома нас поразила. Испанцы холодны, суровы, очень сдержанны в проявлении своих чувств и, надо сказать, весьма несдержанны в проявлении своего негостеприимства.
Эти соображения не помешали нам разглядеть в первом ряду тех, кто освещал нам путь, красавицу-андалуску, смуглянку, как выражается Альфред де Мюссе; эта анда-луска, не будучи маркизой, была, тем не менее, совершенно очаровательной. Нежная приветливая улыбка играла на ее губах, позволяя увидеть жемчужный ряд зубов.
«Входите! – объявил Жиро. – Мы в доме друзей!» Это было очевидно, и мы подчинились ему без всяких возражений. Когда мы вошли в танцевальный зал, то первое, что бросилось нам в глаза, – это изумительно выполненная пастель с изображением умирающей девушки. У нее было бледное измученное лицо, а голова ее покоилась на подушке, усыпанной белыми розами, которым словно предстояло умереть одновременно с нею. Второе, что нас поразило, – это странное сходство между умирающей девушкой и той, что с пленительной улыбкой встретила нас у входа. Было ясно, что в этом и крылся секрет того, почему нас так дружелюбно здесь встретили. В двух словах нам его объяснили.
Полтора месяца тому назад Жиро находился в Гранаде и, стоя возле этого самого дома, рисовал бедняка, который, не догадываясь, что кому-то интересно писать с него портрет, был, по-видимому, занят, так же как маленький нищий Мурильо, только одним – он вылавливал насекомых у себя по всей голове и с привычной беспечностью предавал их смерти. Неожиданно на пороге появилась заплаканная женщина: ее дочь умирала, и она вышла попросить Жиро нарисовать портрет умирающей дочери, чтобы, когда та умрет, у матери осталось хоть что-нибудь, связанное с ее ребенком. Жиро тотчас же откликнулся на материнскую просьбу и нарисовал с натуры ту самую великолепную пастель, какую мы прежде всего заметили; после этого он ушел, оставив всю семью в слезах у постели умирающей. Но молодость страшится небытия и борется со смертью: две недели спустя на щеках больной снова заиграли краски, а по прошествии полутора месяцев она уже играла роль скромной царицы небольшого праздника, устроенного в честь ее выздоровления. Так что от всего этого мрачного события осталась лишь увековечившая его пастель. Вот почему вся семья встретила нас дружескими улыбками. Мы были товарищами человека, подарившего несчастной матери утешение, которое Господь в своем милосердии сделал, по счастью, напрасным и излишним.
В полночь бал окончился, и десять минут спустя дверь Каса де Пупильос захлопнулась за нами с шумом, во всеуслышание опровергавшим название улицы, на которой мы живем. Помнится, я уже говорил Вам, что мы живем на Калле дель Силенсьо, что означает всего-навсего «улица Тишины».
На следующий день мы проснулись с рассветом, то есть в семь часов утра. Всю ночь нам снились Хенералифе, Альгамбра, Алая башня, Токадор королевы и Лас Куэвас. Ибо, признаться, ничто в Испании не изумило нас пока в такой степени, как Гранада. Поэтому в одно мгновение мы были готовы к выходу и гурьбой, как школьники, кинулись к зеленому своду, простирающемуся от Алой башни до Альгамбры. По пути мы на минуту сделали остановку в трактире Сьете Суэлос – как раз на то время, чтобы заказать там себе завтрак, а затем разделились: одни отправились снова осматривать Хенералифе, а другие – еще раз посетить Альгамбру.
Не беспокойтесь, сударыня, я не буду утомлять Вас повторным их описанием. Смотреть что-либо во второй раз не так скучно, как перечитывать. Возможно, Вы не забыли, сударыня, что в одиннадцать часов у нас была назначена в доме нашего друга Кутюрье встреча со вчерашними танцорами, чтобы сделать их зарисовки. Ровно в одиннадцать мы постучались в дверь дома, расположенного на Пласа Кучильерос – иными словами, на площади Ножовщиков. Нелишним будет, вероятно, сказать несколько слов о месторасположении этого дома.
Как я уже говорил, он стоит на площади Ножовщиков, точно напротив дома Контрераса, где накануне мы осматривали макет Альгамбры, о чем я имел честь писать Вам в своем последнем письме. Он примерно такой же высоты, как и тот, и тоже заканчивается террасой. С высоты ее открывается вид на всю площадь. На этой террасе Кутюрье распорядился повесить простыни, которые затеняли одну ее половину, оставляя другую ее половину на солнце. Цыганам, привычным к почти тропической жаре, предстояло сидеть на солнечной стороне; Кутюрье должен был управляться со своим дагеротипом в тени. Мы все тоже должны были устроиться в тени: Жиро, Буланже и Дебароль – чтобы рисовать, Маке и я – чтобы делать заметки, а Александр – чтобы сочинять стихи в ответ на те, что были адресованы нам. Итак, цыгане собрались на солнечной части террасы: отец курил и играл на гитаре, дочери примостились у его ног и заплетали косы, а сыновья ласкали собаку, стоя спиной к дому Контрераса. Мы же, напротив, были обращены лицом к этому дому и пребывали в тени – кто сидя, кто лежа.
Всего-навсего за пять-шесть минут Кутюрье изготовил три прекрасных дагеротипа: мельчайшие детали тканей, полосы на штанах, бахрома шалей – все выступало явственно и ярко. В свою очередь, Жиро и Буланже наперегонки делали наброски – частично пастелью, частично в технике трех карандашей. Маке и я принялись за свои заметки, Александр слагал стихи; справа от цыган одна из простыней была приподнята, пропуская ветерок, дующий с той стороны.
Внезапно цыганка, стоящая справа от старика, вплотную к развевающейся простыне, слабо вскрикнула – что-то больно ударило ее в плечо. В ту же секунду в полуфуте от головы Дебароля, описав параболу, пролетел камень. Боль цыганке, очевидно, причинил другой камень, удар которого пришелся по простыне. Камни эти не могли быть аэролитами: вместо того чтобы отвесно падать с неба, один из них описал параболу, а другой пронесся по диагонали. Ясно было, что их намеренно бросили в нашу сторону из окон или с террасы какого-нибудь соседнего дома.
Мы тотчас же стали выяснять, с какой стороны ведется нападение, но это привело лишь к тому, что атакующие поспешили спрятаться. Все окна были закрыты, все террасы пусты. Однако направление, с которого прилетели камни, указывало, что новоявленные пращники укрылись в доме Контрераса. Самый юный цыган сменил свое местоположение и припал глазом к дырке в простыне. Под охраной этого часового мы возобновили свои занятия. Минут через десять цыган махнул нам рукой. Почти в ту же минуту я увидел, как Александр вскочил с места и кинулся к лестнице. Маке, отбросив записную книжку и карандаш, понесся следом. «Что случилось?» – спросил я. «Не знаю, – ответил Буланже, – но мне показалось, что у Александра лицо в крови». Цыганенок со своим обычным шипением наклонился, поднял кусок кирпича размером с яйцо и показал мне.
Этот кусок был отбит от целого кирпича, с тем чтобы его легче было кидать. Цыган видел, как его бросили с террасы дома Контрераса и как он пролетел под приподнятой простыней. На террасе появились три человека, каждый швырнул по камню, и, увидев, что один из них, судя по нашим движениям, попал в цель, все трое поспешно скрылись. Я догадался, как было дело. Александр, получив удар по лицу и придя в ярость от боли, ринулся, чтобы отомстить неизвестному обидчику. Маке последовал за ним, желая то ли успокоить его, то ли поддержать.
Я перевесился через край террасы и посмотрел вниз: Александр уже был на улице и колотил в дверь дома Контрераса.
«Ты твердо убежден, что трое кидали эти камни, один из которых попал в моего сына?» – спросил я у цыгана. Тот показал на свои глаза. Этот простой и выразительный ответ не оставлял никаких сомнений. Я в свою очередь помчался вниз по лестнице.
Дверь в дом Контрераса стояла открытой.
Не успел я добежать до второго этажа, как услышал страшный шум, исходивший откуда-то сверху. Я помчался наверх, перепрыгивая через ступени, оттолкнул двух или трех человек, вышедших из своих комнат, чтобы узнать, откуда доносится этот грохот, и, взлетев на какой-то чердак, увидел, что Александр и Маке вступили в схватку с тремя людьми. Двое из этих трех были вооружены стульями, а третий держал тонкий острый клинок, напоминавший по виду кинжал. Ах, сударыня, Вам, так же как и всем моим знакомым, известно, что я не обделен физической силой! Это дарование, столь ценимое первобытными народами, которым приходится сражаться с чудовищами, становится порой весьма опасной способностью в глазах цивилизованных народов, которым надлежит действовать под защитой госпожи Юстиции. Забыв, что я составляю одну тридцатидвухмиллионную часть цивилизованного народа, я схватил за шиворот двоих – человека со стулом и человека с клинком – и стиснул их. Надо думать, стиснул я их довольно сильно, ибо один выпустил из рук клинок, а второй – стул. Вероятно, после этого я должен был последовать их примеру и выпустить из рук их самих, но, признаюсь, такая мысль не пришла мне в голову. Александр прижал коленом грудь третьего. Маке бросился к лестничному проему навстречу другим обитателям дома Контрераса, которые, похоже, были настроены оказать помощь своим соотечественникам. Но, к несчастью для этих отважных помощников, все остальные члены французской колонии, за исключением Кутюрье, уже заполнили дом и защищали низ лестницы, в то время как Маке охранял ее верх.
У входной двери какая-то старуха кричала во все горло об убийствах и убийцах, созывая толпу, начавшую перетекать с площади во двор. Проскользнув среди всех этих возбужденных людей, Дебароль добрался до нас. Друзья предлагали с честью отступить, указывая, что через пять минут это сделать будет уже трудно, а через десять – невозможно. Мы пошли на полюбовное соглашение с нашими тремя метателями камней: Александр снял колено с груди одного, я разжал пальцы, державшие двух других, и было условлено, что они ни жестом, ни знаком, ни криком не попытаются воспрепятствовать нашему отступлению. Мы подобрали в качестве вещественных доказательств кирпич с отбитыми углами и напильник, красные зубцы которого сохранили следы кирпича, разбитого с его помощью, и спустились вниз. Жители дома расступились перед нами, а кто-то из них даже приветствовал нас.
Внизу мы обнаружили стражу и коррехидора. Собравшаяся толпа хором обвиняла нас в том, что мы ворвались в мирный дом прикончить трех парней, спокойно спавших на чердаке. Чем неправдоподобнее выглядело обвинение, тем больше оснований было опасаться, что ему поверят. Мы в свою очередь изложили факты, предъявили кирпич с отбитыми углами и прекрасно соответствующий ему брошенный обломок, показали изобличающий наших противников напильник, а сверх всего – окровавленную щеку Александра, более чем что-либо другое свидетельствующую в нашу пользу. Коррехидор Гранады оказался таким же справедливым, как и алькальд Аранхуэса. Слава испанским судьям!
Он объявил нас виновными во вторжении в дом Контрераса, но главную вину возложил на тех, кто беспричинно напал на нас и тем самым спровоцировал его. Кроме того, он заявил, что будет проведено расследование, и предложил нам идти к себе и ждать его итогов. Дважды повторять это предложение ему не потребовалось. Стражники открыли нам дверь со двора, и мы вышли. Чтобы добраться до дома Кутюрье, надо было всего лишь пересечь улицу, но на ней собралась толпа человек в триста. Все гневно смотрели на нас и злобно скрежетали зубами. Заложив руки в карманы, мы направились к дому. Я возглавлял шествие, Дебароль его замыкал.
Мы достигли двери дома Кутюрье, и угрозы в наш адрес, молчаливые и прозвучавшие, так и остались угрозами. Дверь распахнулась и закрылась за нами. Цыгане, находившиеся на террасе, за это время не сдвинулись с места. Бедняги отлично понимали, что к ним не станут относиться с таким же уважением, как к нам, иностранцам, и они вследствие этих событий вполне могут стать козлами отпущения.
Мы вновь принялись за работу, словно ничего и не произошло. Однако до нас по-прежнему доносился ропот собравшейся на улице толпы. Через четверть часа нам объявили о приходе г-на Монастерио.
Господин Монастерио – это глава гранадской полиции.
Мы с беспокойством встретили вошедшего, но сразу же успокоились. Господин Монастерио повел себя по отношению к нам совершенно непредвзято: он нас выслушал, все понял и пообещал способствовать справедливому решению. К тому же на простынях остались следы от брошенных в нас камней, и направление их полета говорило само за себя. Глава полиции попросил нас об одном – во избежание какого-нибудь нового столкновения не выходить на улицу, пока толпа не разойдется.
Часа в три площадь почти опустела. Мы вышли и добрались до Калле дель Силенсьо. Наши комнаты оказались заполнены escribanos[42], которые наперегонки строчили какие-то бумаги и, едва мы попросили их удалиться, разлетелись словно стая ворон, за исключением одного человека, заявившего, что он имеет право остаться.
Прощайте, сударыня, благодарение Богу, на сегодня хватит! Завтра, если господа из полиции, коррехидор и писари предоставят нам время, я опишу Вам продолжение этой трагической истории.
XXI
Гранада, 29 октября.
Возможно, Вы помните, сударыня, что, за исключением нашего отступления, которое я осмелюсь сравнить со знаменитым отступлением десяти тысяч греков, никакой развязки история с террасой в Гранаде не имела. Я уже описывал Вам тревоги нашего бедного Кутюрье, поспешные визиты к нам сеньоров секретарей суда, а также их различные оценки ущерба, причиненного осколком красного кирпича левому глазу Александра. Наименее любезный из этих секретарей, но определенно самый изворотливый, водворился у нас вопреки нашему желанию и, я бы даже сказал, несмотря на наши угрозы; закрепившись на стуле, слившись в одно целое со столом, он что-то писал, писал, писал, а если прерывался, то лишь для того, чтобы, приподняв свои зеленые очки над глазами и водрузив их между отсутствующими бровями и желтоватыми волосами, в очередной раз повторить:
«Господа! Семья Контрерас виновна в правонарушении, предусмотренном рядом испанских законов. Если вы обратитесь с ходатайством к городским властям, правонарушителей, конечно, вряд ли отправят в тюрьму, но им не удастся избежать огромного штрафа, колоссальных убытков». И с мрачной учтивостью и зловещей улыбкой он добавлял: «Прекрасная тяжба, господа, прекрасная тяжба! Семья Контрерас будет вконец разорена за две недели!» – и вновь принимался что-то скрипуче строчить с бесперебойностью механизма.
Эти заверения, которые он давал с невозмутимостью и полнейшей убежденностью, заставляли нас трепетать с головы до ног; мы переглядывались с тайным желанием придушить сеньора секретаря, а из его тела, на вид самого горючего из всех, какие нам доводилось когда-либо видеть, устроить вместе со всеми его бумажками костер: право, то был самый быстрый способ покончить с этим делом!
Как Вы прекрасно понимаете, сударыня, нам было трудно свыкнуться с мыслью, что мы явились в Испанию, проехав по живописным горам Гипускуа, сероватым пескам обеих Кастилий, шафрановым равнинам Ла-Манчи, под кипарисами, гранатовыми деревьями и виноградными лозами Хенералифе, равно как и Альгамбры, по дивным долинам, где по руслу из звонкой гальки, меж окаймленных олеандрами берегов катит свои воды Хениль, – и все это для того, чтобы устроить тяжбу, пусть даже весьма успешную, с тремя гнусными молодчиками. Да и все посетители, зачастившие к нам сразу после нашего возвращения домой, – а они шли один за другим целый день – так вот, повторяю, все посетители настойчиво уговаривали нас отнестись к брошенному камню как к песчинке, а к швырнувшим его негодяям – как к расшалившимся ангелочкам.
А теперь, сударыня, подумайте о том, что Гранада – самый прекрасный край на свете; подумайте о том, что здесь днем вдыхаешь все те ароматы, какими солнце заставляет благоухать апельсиновые деревья, фиалки, розы и вечно зеленый и цветущий жасмин, а ночью – всю ту прохладу, какую лазурное небо, усеянное мириадами звезд, может отряхнуть на землю; о том, что на каждом шагу ты теряешься здесь в аллеях самшита, мастиковых деревьев и смоковниц, сквозь ветви которых тебе чудится улыбающийся лик Господа, благословившего эту прекрасную страну; о том, что если смотришь на Гранаду с террасы Хенералифе, то слева видишь медно-красные башни замка, оплаканного Боабдилом; справа – Альбайсин и логовища цыган, затерявшиеся среди алоэ и кактусов; прямо перед собой – зеленую благоухающую долину, протянувшуюся до синеватого горизонта в полукруге горной цепи, которой ревнивый Господь, словно крепостной стеной, окружил город, получивший от его обитателей не только имя самого сладкого плода, но и его форму; и, наконец, позади себя – Сьерра-Неваду – огромную гранитную крепость с зубцами из матового и полированного серебра. Мы мечтали обо всех этих чудесах, прежде чем увидеть их, а увидев, восхитились ими. Подумайте о том, что, когда вечер окутывает дымкой поэтичную Гранаду, нам остаются еще беззаботные прогулки по уснувшему городу, театр, сверкающий блеском национальной сцены, и удовольствие, выйдя из театра, затеряться в таинственных улочках, где подле кротких и снисходительных мадонн горят благовонные свечи, – словом, право восхитительно отдохнуть ночью после проведенного в безделье дня. И вот, вообразите только, сударыня, что какой-то злобный писарь одним взмахом своего вороньего пера уничтожает все это счастье! Нам предлагают тяжбу, прекрасную тяжбу, замечательную тяжбу! Представьте себе, как Ваши бедные друзья-путешественники, которым так удобно в их дорожных куртках, облачились в черные сюртуки, чтобы отправиться к судьям; представьте Вашего покорного слугу в сопровождении переводчика Дебароля, вынужденного на время расстаться со своим карабином, – повторяю, представьте Вашего покорного слугу, заботящегося о поддержании своего отцовского права и своего достоинства посла! Вы видите, как г-н Дюма-hijo[43] в своем качестве живого свидетельства поддерживает под левым веком свежесть той радуги, какая обычно расцветает на ушибленной скуле? Вы видите, как Маке корпит над копиями документов и жалоб; как Жиро снимает планы обеих террас, а Буланже, держа в руках ленту землемера, измеряет параболу, которую описал обломок гранадского кирпича, начавший свой полет от руки испанца и закончивший его у глазной впадины француза?
Все это, согласитесь сами, сударыня, делало наше положение нестерпимым; и потому мы дружным голосом воззвали к нашему доброму Провидению, тому самому, с кем Вы уже познакомились, ибо видели, как оно приходит к нам на помощь в различных затруднительных обстоятельствах, где бы мы ни были. Как всегда, оно откликнулось на зов, о утешительное божество! Только на этот раз божество явилось в новом обличье: оно было одето в куртку из бараньей шкуры, в одной руке мяло снятую с головы высокую шапку с двумя помпонами по бокам, в другой – держало кнут погонщика и отзывалось при этом на имя Лоренсо Лопес. Распознав меня, как Жанна д'Арк – Карла VII, среди моих друзей, в глубочайшем оцепенении и испуге столпившихся вокруг секретаря суда, оно почтительно подошло ко мне и произнесло: «Сеньор, я привел мулов, как мне было приказано от вашего имени: они в конюшне, и мы можем ехать завтра утром так рано, как вы пожелаете».
Писарь вскинул свой выпуклый лоб: приспешник Ари-мана учуял приход Ормузда. «Так ваше сиятельство уезжает?» – с беспокойством спросил он. «А почему бы мне не уехать?» – поинтересовался я. «Потому что нельзя покидать Гранаду в такой момент, дон Алехандро!» – «Вы шутите?! Уж не считаете ли вы меня пленником?» – «Нет, но вам предстоит тяжба, а когда предстоит тяжба, особенно такая прекрасная, никуда не уезжают!»
Все это было сказано по-испански, с местным выговором, который мы понимали с большим трудом; но во всех языках есть слова, фразы, выражения, которые понимают все, даже не зная этих языков. Если угодно, сударыня, можете назвать это «языком обстоятельств». Поэтому переводчику Дебаролю не было никакой необходимости объяснять нам то, что хотел сказать сеньор писарь: интонации голоса полностью его выдавали. Я знаком показал Маке и Буланже, что они дожны вывести Провидение из комнаты.
Ариман остался один. Александр сел рядом с ним, устремив на него свой правый глаз и готовый в случае необходимости применить сдерживающую силу. Жиро, отточив карандаш как стилет, расположился около двери и, чтобы не терять время и свое неиссякаемое доброе расположение духа, начал набрасывать портрет писаря. Дебароль принялся отчаянно крутить свой правый большой палец вокруг левого – такое движение свидетельствовало либо о его полнейшем спокойствии, либо о его крайнем возбуждении. На этот раз ошибиться было невозможно: речь шла о сильном волнении. Я прошептал ему на ухо: «Вам, говорящему по-испански, как Сервантес, следует пойти помочь Маке и Буланже, пока они торгуются с погонщиком». – «Иду!» – ответил он и, взяв свой карабин, вышел.
Я очень рассчитывал, что циновки, лежавшие на полу, заглушат всегда довольно громкие шаги Дебароля, но сеньор писарь услышал их, обернулся, увидел, как наш друг выходит из комнаты, и почесал себе ухо пером. В течение десяти последующих минут ни Александр, ни Жиро, ни я никоим образом не пытались оживить беседу. По истечении этого времени вернулись Маке и Буланже, изображая самый невинный и беззаботный вид.
Сеньор писарь повернулся, следя за их появлением, так же как перед этим он наблюдал за уходом Дебароля. Когда он увидел, что они вернулись одни, по его лицу пробежал бледный луч радости. «Ну как, договорились?» – как можно тише спросил я у Маке. «Да, почти что: Дебароль и погонщик сторговались на десяти франках». – «Вы сказали Дебаролю, чтобы он словом не обмолвился при этом сеньоре о нашем отъезде?» – «Нет, но сейчас предупрежу его!»
Маке кинулся к двери, но в эту минуту она с грохбтом распахнулась и на пороге, скрестив на груди руки, с блеском в глазах и довольным видом появился метр Дебароль. «Дело улажено!» – громовым голосом воскликнул он. Писарь дернулся, словно прикоснувшись к вольтову столбу, и вскинул очки, как он делал, глядя на что-то еще помимо своих бумаг. Самые храбрые из нас побледнели.
Было ясно, что наш присяжный переводчик, как и ожидалось, совершил ошибку. И то, что наши отчаянные знаки, наконец, до него дошли, то, что его руки опустились, довольное выражение лица сменилось на унылое, а взор потух, уже не имело значения. Увы, сударыня! Было слишком поздно. Писарь все услышал и все понял; он сложил свои бумаги, вытер перо и, угрожающе кивнув, расстался с нами. Не успела за ним захлопнуться дверь, как на несчастного Дебароля обрушился залп упреков.
«Вы что, не видели, как я на вас смотрел?» – кричал Маке. «Вы не могли догадаться, что надо молчать, хотя я поднес палец к губам?» – вопрошал Буланже. «Я же тебе даже пинок отвесил!» – брюзжал Жиро. «Да что вам всем надо? В чем дело?» – испуганно бормотал Дебароль. «Черт побери! Дело в том, что вы во весь голос завопили: "Дело улажено!"» – пояснил Александр. «Ну и что? Я кричал на моем родном языке, испанец его не понимает!» – величаво ответил Дебароль, рассчитывая разбить нас в пух и прах этим утверждением. «Да, – согласился я, – но вы явились с победоносно сплетенными руками, испанец все понял и дал тягу, как говорят в Испании. Боюсь, что нам это не сулит добра!» – «О, разрази меня гром!» – воскликнул Дебароль, ударив карабином об пол, и выражение изумления на его лице сменилось отчаянием. «Ладно, не отчаивайтесь, – успокоил я его, – этим ничего не исправишь, скажите лучше, как прошли переговоры с погонщиком, на чем вы остановились?» – «Я нанял всех его мулов, – ответил Дебароль, – их у него восемь». – «Не хочу мула! – воскликнул Александр. – Он слишком медленно ходит!» – «Я предвидел такой случай: у вас будет лошадь», – произнес Дебароль. «А я тоже не хочу мула, – в свою очередь высказался Буланже, – он слишком быстро ходит». – «Я подумал о карете для вас, – ответил Дебароль, – но, поскольку между Гранадой и Кордовой есть места, с трудом проходимые даже верхом, то в Гранаде нельзя было нанять ни одной кареты». – «Тогда я пойду пешком, – сказал Буланже, – я не наездник». – «Друг мой! Не беспокойся на этот счет, – обратился я к нему. – Ты же видел мавританские стремена на испанских верховых животных: это нечто вроде сапог, куда человек погружает ноги по колено. Ты будешь как бы в лодке, а не на лошади». – «Это меня устроит, – согласился Буланже. – На лодке я могу отправиться хоть на край света».
В эту минуту распахнулась дверь и Пепино, патрон всех французских пансионеров, прошлых и будущих, переступив порог, объявил: «Господин коррехидор!» – «Ну вот, – прошептал каждый из нас, – тяжба началась, и нам от нее не отвертеться». Господин коррехидор, облаченный в черный редингот, появился на пороге, держа в руках свиток; нам он показался очень мрачным; сделав три шага вперед, он остановился, приветствуя нас.
Поскольку было вероятно, что магистрат, появляющийся с такой торжественностью, собирается разразиться речью крайне витиеватой, цветистой, насыщенной специальными терминами, пронизанной окольными ходами, словно пещеры цыган, то я поставил рядом с собой переводчика Дебароля, моля его забыть английский и немецкий и помнить только испанский и французский.
Предпринятые мной меры предосторожности оказались весьма разумными: судейский начал со вступления, затем перешел к изложению, развернул доказательства и произнес заключительную часть. На наше несчастье, мы столкнулись с оратором.
С Дебароля крупными каплями стекал пот; мне показалось, что разжижившаяся память нашего переводчика сочится из него через все поры.
Вот краткий пересказ услышанной нами речи, сударыня. «Я не осмеливался, сеньор и сеньоры, предстать перед прославленным писателем, этой блестящей планетой, сопровождаемой светящимися сателлитами. Но вот посредством камня вам было нанесено оскорбление, вам был причинен ущерб, на вас было совершено, по сути, нападение, и все это произошло, когда вы находились на террасе, выходящей на площадь Ножовщиков. Я велел предъявить мне этот камень, имеющий красный цвет, и вижу отсюда при свете свечей глаз вашего сына, имеющий зеленый цвет…» – «Синий», – прервал его Александр. «Вечером синий кажется зеленым, – объяснил Жиро, – не прерывай господина коррехидора из-за такой ерунды». – «… имеющий зеленый цвет, – повторил оратор. – Господа, за испанским правосудием дело не станет, и вы будете отомщены ужасным образом. Соблаговолите лишь подписать эту жалобу, которую я составил, дабы избавить вас от труда». – «Но, сударь, – ответил я ему через переводчика, – я не хочу жаловаться, а мой сын полагает себя вполне отомщенным».