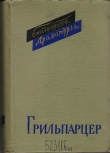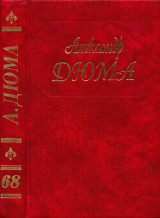
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 42 страниц)
Должен сказать, что мне редко приходилось видеть у людей удивление, сравнимое с тем, какое читалось на лицах наших распорядителей, когда они, устроив Буланже на то место, где ему следовало оставаться, увидели, как он всматривается в окружающий пейзаж, выбирает наиболее удобную точку обзора, надевает очки и точит карандаши. Дебароль был доверен Жиро.
Было бы невозможно рассказать Вам, сударыня, на каком расстоянии от центра охоты был по нашему требованию поставлен Дебароль: оно в несколько раз превышало дальность боя его ружья. Могу лишь удостоверить, что я долго видел его андалусскую шляпу и карабин, мелькавшие в зарослях, потом они исчезли, и я решил, что наш друг остановился, но десять минут спустя я вновь увидел, как вдали на горизонте внезапно всплыли маленькая черная точка и сверкающий лучик, прокладывающие себе дорогу к неведомой цели. Это был Дебароль: он все шел и шел вперед, но, в глазах всех, находился еще недостаточно далеко.
Нельзя вообразить ничего прекраснее начала столь новой для нас охоты! Мы расчистили ножами отведенное нам место, устроили себе ложе из срезанных ветвей и растянулись на нем в самых расслабленных позах в ожидании какого-нибудь сигнала. Незнакомые ароматы наполняли воздух. Широкие безлюдные просторы, только что описанные мною и протянувшиеся на десяток льё, дремали под солнечными лучами. Как восхитительно было созерцать это бескрайнее приволье. Эти тысячелетние заросли, в которых мы случайно оказались и в которых ничто не должно было сохранить наши следы; это вечное безмолвие, покой которого мы нарушаем чуть больше, чем пробегающий мимо заяц, и чуть меньше, чем обитающий здесь кабан, и которое дало нам возможность устроить себе приют на несколько часов и уступило нам несколько футов своей чащи, с тем чтобы сомкнуться за нами после нашего ухода и не вспомнить о нас никогда; эта гора, которая была столько раз потревожена в своем покое предсмертными криками и затаила под сенью своих деревьев улики убийств, став тем самым их сообщницей, и которая, после того как все эти крики затихли, скрыла память о них под покровом вечного безмолвия и неумолимой безмятежности, – все это поражало меня своим величием.
И тогда на ум мне пришли мысли, которые часто посещают людей и которым суждено тревожить их всегда, ибо, будучи правильными, мысли эти являются вечными. Сначала это было глубочайшее презрение к шуму, производимому человеком и столь ничтожному в сравнении с этим дарованным Богом безмолвием; потом горячее и действенное желание уединенной жизни среди этой бес-крайности и потребность изо дня в день созерцать это несущее утешение зрелище. Этот воздух, который долетел до меня из безкрайних далей, напоенный чистейшими ароматами, и которым я дышал полной грудью; этот пейзаж, увиденный мной впервые и настолько прекрасный, что Богу не понадобились ни люди, ни человеческие страсти, чтобы его оживить; эти просторы, над которыми вот уже шесть тысяч лет каждодневно встает приветливое и ясное солнце, освещая самые печальные уголки нашей цивилизации; все вплоть до таинственной и неведомой работы растений и золотоцветных насекомых, живущих, умирающих и воспроизводящихся под взглядом лучезарного неба, – все это посредством нового языка вводило меня в непривычный экстаз, и мне чудилось, что в глубине этой огромной сцены проходят все избранники Господа, внезапно проникшиеся великой любовью к уединению и носящие имена святой Августин, Мария Магдалина и святой Иероним.
Что касается меня, то я до такой степени был погружен в эти мысли, что никак не мог представить себе возвращение к человеческому обществу, от которого на мгновение отстранился. Не только мое телесное зрение, но и зрение моих мыслей и памяти не могли воссоздать за пределами этих гор, окружающих долины и замыкающих горизонт, силуэт шумного Парижа, покинутого нами всего лишь месяц назад; отделенному в своем воображении от цивилизованного общества, мне казалось невозможным, даже переступив горизонт и идя все дальше и дальше, найти что-либо еще, кроме того, что я видел. Человек, как бы он ни был велик, казался мне ничтожным в этом пространстве, и тем не менее, временами вся эта природа воплощалась для меня в одной лишь мысли, как все краски солнца повторяются в одной капле воды, и какой-нибудь стих Вергилия, Овидия, Ламартина или Гюго, этих великих пейзажистов, проносился в моем мозгу, отражая весь здешний пейзаж, подобно тому как хорошо отполированное зеркало шириной в фут способно воспроизвести протяженность в двадцать льё.
Внезапно раздавшийся звук выстрела мгновенно вывел меня из состояния грез. В одну секунду картина словно распалась – поэт исчез, остался только охотник. Я схватил карабин, лежавший у моих ног, и сосредоточил взгляд и внимание на маленьком облачке голубоватого дыма, появившегося одновременно с выстрелом и поднявшегося слева от меня, то есть со стороны Александра. Спрятавшись как можно лучше, я стал ждать. «Это что, грозный кабан или трепетная лань?» – шепотом спросил меня Буланже, в руки которого, к несчастью, попал томик Дели-ля, и он, как Вы уже имели возможность убедиться, последние два-три дня расцвечивал свою речь избитыми эпитетами. «Тише!» – остановил я его. Он замолчал и вернулся к своему рисунку.
Ничего больше не услышав и никого не увидев, я решил, что животное убито, и успокоился; но вдруг мне послышался легкий шум среди ветвей; тихий и почти неразличимый, словно шорох шелкового платья; я непроизвольно поднял голову и увидел перед собой лань: она замерла, прислушиваясь напряженным ухом, и, казалось, ждала от тишины и звуков совета, в какую сторону ей бежать дальше; она была за пределом ружейного выстрела, и к тому же мне представляется отвратительным стрелять в стоящих зверей такого рода. Чтобы охота была увлекательной и простительной, она должна иметь характер борьбы; с моей точки зрения, неувлекательно и непростительно убивать неподвижную и доверчиво смотрящую на вас лань.
Битва между зверем и человеком обязательно должна быть благородной, и, каково бы ни было мое охотничье тщеславие, возможно самое сильное из всех имеющихся у меня честолюбивых чувств, мне часто приходилось проявлять великодушие тайком, когда рядом не было никого, кто стал бы надо мной смеяться, и получать больше радости при виде того, как спасается испуганная козочка, чем от признания меня королем охоты, если бы я ее убил. На мой взгляд, в дичь можно стрелять, только если есть вероятность, что в нее не попадешь. «Это – трепещущая лань», – сказал я Буланже, показывая на нее. Он поднес лорнет к очкам и, рассмотрев животное, заметил: «Вероятно, мы сможем сегодня вечером собраться вокруг ее изысканной плоти!»
Привыкшая к шуму здешних гор, лань, по-видимому, уловила незнакомый звук – она прыгнула, стремительно взобралась на холм по правую руку от меня и, мелькнув, словно тень, в солнечных лучах, скрылась по другую его сторону. Я снова сел. Через минуту в той стороне, куда она помчалась, раздался выстрел.
«О-о, думается мне, Парка оборвала нить ее жизни!» – произнес Буланже, прищелкивая языком, что обнаруживало уважение, испытываемое им к предчувствиям своего желудка.
Я не мог удержаться от улыбки, но в то же время мне было больно сознавать, что, по всей видимости, эту бедную лань, столь уверенно уносившуюся вдаль, подстрелили. Так оно и оказалось, поскольку сразу после этого раздались громкие возгласы, означавшие, что в этом месте нам уже больше нечего делать, надо собраться вместе и составить новый план охоты. Я поднялся; Буланже последовал моему примеру.
Я видел, как все наши друзья поступили так же, и спрятанные до этого момента головы замелькали среди скрывавших их зарослей; вдали я различил почти невидимую точку, опознав ее только по отблеску солнца на стволе карабина, мелькнувшему на зеленом фоне: это был Деба-роль. Однако я выискивал другую точку, более темную, – Росного Ладана, ибо меня очень беспокоило, как бы его не приняли за кабана из-за сходства у них цвета кожи; но Росного Ладана не было видно.
Тогда, ясно различая всех наших товарищей, я стал искать глазами Александра, ибо был уверен, что, поскольку ему не хотелось расставаться с Полем, их удастся обнаружить вместе; но Александра тоже не было видно. Я позвал во весь голос, которым меня одарило Небо: «Поль! Александр!» Звук замер в горах, но ни Поль, ни Александр не появились. «На кой черт он тебе нужен?» – поинтересовался Буланже. «Росный Ладан пошел вслед за Александром, а тот не отзывается». – «Придет!» – «Я начинаю беспокоиться!» – «Почему?» – «Я слышал два выстрела и прекрасно знаю, куда попала вторая пуля, но мне неизвестно, куда подевалась первая». – «Ты с ума сошел! Александр в горах, он поднялся высоко вверх и не слышит тебя – вот и все!» – «Что ж, пойдем ему навстречу!»
Я пошел по направлению, на моих глазах выбранному Полем, и продолжал звать Александра. Мои спутники присоединились ко мне, и горы разносили крик: «Александр! Александр!», звучавший всеми тонами и на всех наречиях. Ответа не было. Тем временем мы подошли к месту, где они должны были остановиться, и уже стали по-настоящему волноваться, как вдруг заметили Александра, растянувшегося во весь рост на чрезвычайно удобном ложе из ветвей рядом со своим разряженным карабином и спящего сном, который не нуждается в определении, ибо Вы уже знаете, какую разноголосицу криков он выдержал.
По соседству с ним, но на надлежащем расстоянии, лежал Росный Ладан: он раскинулся на спине, полуоткрыв в блаженной улыбке рот, и тоже спал; зефир своими крыльями нежно ласкал его смуглое лицо, на котором весело играло солнце, просвечивающее сквозь ветви. В неподвижности Поль был по-настоящему красив!
Я тряхнул Александра, и он пробудился; но Росный Ладан явно решил посостязаться с Эпименидом и в это время пребывал в самом начале своей полувековой дремоты. «Ты давно спишь?» – спросил я Александра. «Стой минуты, как очутился здесь». – «Ты ничего не видел?» – «Нет, а что я должен был видеть?» – «Кабана, оленя». – «Я о них и не думал». – «Во всяком случае, ты заставил нас беспокоиться!» – «Ты хочешь подкрепиться?» – «Как это подкрепиться?» – «Ну, чтобы прийти в себя». – «Ты с ума сошел!» – «Почему?» – «Да потому, что у нас нет с собой никакой провизии!» – «Так ты хочешь съесть кусок хлеба и выпить стаканчик монтильи?» – настаивал он. «Конечно, хочу!» – «Тогда не шуми!»
Александр опустился на колено рядом с Полем, откинул полу одежды верного слуги и извлек из его кармана превосходный андалусский каравай; потом, зайдя с другой стороны, он продолжил свои поиски и извлек огромную флягу, полную обещанного вина. «Пей и ешь!» – предложил он мне. Поль был настолько неотделим от своей фляги, что, лишившись ее, он пробудился, как если бы от него отрезали кусок тела; но, прежде чем он окончательно пришел в себя, Александр положил уже пустую флягу в тот же карман, откуда она была вынута. «Теперь я понимаю, почему ты не хотел разлучаться с Полем!» – заметил я. «Да, – согласился он, – это секрет, который я раскрыл, и мы сохраним его для нас двоих! Останемся с Полем на целый день!» – «Какой смысл? Его фляга пуста, а хлеб съеден, следовательно, нам от Поля никакого толку нет». – «Не беспокойся: хлеб и вино снова появятся, как в "Филемоне и Бавкиде"». – «Откуда же он их возьмет?» – «Понятия не имею, но через час его карманы окажутся в том же состоянии, в каком ты их только что видел».
Тем временем Поль уже окончательно проснулся, и мы увидели, как при первом же проблеске сознания он машинально поднес руку к одному из своих карманов. Хлеб для Поля был, по-видимому, потребностью второго плана, ибо он удовольствовался тем, что убедился в наличии фляги, и ко второму карману даже не прикоснулся. «Я заснул!» – объявил он, протирая глаза и обнажая в улыбке свои белые зубы; руки его опустились, и он взглянул на нас, как бы говоря: «Теперь, когда вы меня разбудили, нам оставаться тут незачем; почему бы нам не уйти?»
Я прочел его взгляд, и мы тронулись в путь, чтобы догнать наших друзей: не понимая, зачем мы так суетимся вокруг Поля, они двинулись вперед, не дожидаясь нас. Через минуту мы следовали один за другим, и Росный Ладан, как обычно, брел последним, но за ним, замыкая шествие, на расстоянии, равном половине дальности боя ружья, шел Дебароль.
Через полчаса мы обогнули гору и направились к месту новой охоты. Поль нашел возможность отсутствовать эти полчаса, но, когда нас стали расставлять, выяснилось, что он уже стоит у нас за спиной. На этот раз мы заняли вершину холма; справа от нас простиралась бескрайняя долина.
Соседний холм своей левой стороной соединялся с нашим холмом, а правый его склон, постепенно понижаясь, переходил в бескрайнюю равнину. Загонщики, расположившись впереди, должны были выгнать дичь прямо на нас. Мы разместились на одной линии: Маке – недалеко от места слияния холмов, справа от него Александр и я; дальше, на некотором расстоянии друг от друга, – остальные наши друзья, скрытые зарослями.
Должен сказать Вам, сударыня, что во время второй части охоты Маке доставил нам неприятности: на нем была яркая красная куртка и черный картуз, и издали казалось, что на горе, среди мастиковых деревьев, неожиданно распустился мак колоссальных размеров. Нам пояснили, что нельзя ни кричать, ни показываться из зарослей; но Маке, которому, очевидно, забыли дать подобные указания, а может быть, плохое знание испанского языка и отсутствие навыков в охоте на кабана помешали ему их усвоить, – Маке упрямо стоял во весь рост, заставляя нас опасаться, что пугливый олень, как говорил Буланже, умчится со всех ног, увидев нашего друга, так как не заметить его было невозможно.
Мы пытались всеми понятными жестами объяснить Маке, что необходимо пригнуться, но он сначала просто не видел наших знаков, а разглядев, пренебрег ими. Напрасно мы с Александром старались, махая руками сверху вниз; красная куртка ярким пятном выделялась на фоне горы, и при этом еще двигалась. Тем не менее настал решающий миг, и наша пантомима стала настолько выразительной, что Маке внял ей: увидев, как мы скрылись в зарослях, он тоже спрятался. В эту минуту мы увидели, как с холма напротив нас спустились пять ланей, одна за другой, по-видимому собираясь пересечь долину, однако они были слишком далеко, чтобы их можно было повернуть в нашу сторону. Они промелькнули в полной тишине и скрылись в зарослях; время от времени там виднелись рыжие точки, потом они внезапно исчезли, и, наконец, мы снова увидели ланей в десяти шагах от того места, где они проскочили в заросли, однако эти десять шагов были сделаны по направлению к нам.
Александр, нетерпеливый, как все молодые охотники, вскинул ружье и прицелился в первую лань. «Какого черта! Что ты делаешь?» – шепотом сказал я ему, опуская ствол его карабина. «Я стреляю!» – «Глупец, они в шестистах шагах!» – «Ну, и что? Девим утверждает, что его карабин бьет на восемьсот шагов – это на двести шагов больше, чем нужно, чтобы попасть в первую лань!» – «Дай им поближе подойти, тогда Маке, ты и я подстрелим по одной, а сейчас на этом расстоянии ты промажешь и разгонишь их Бог знает куда!»
После минутного колебания Александр положил карабин себе на колени, и мы с удовольствием увидели, как лани, словно сумев понять мои слова или догадаться о наших намерениях, повернули и вновь понеслись на холм, с которого они спустились. Я стал раздумывать, что могло их насторожить, и увидел, что Маке снова высунулся из зарослей. Потом я посмотрел направо и тут же услышал звук выстрела – в тысяче шагов от нас одна из пяти ланей, явно раненная, убегала, приволакивая заднюю ногу. На этом охота закончилась. Мы тронулись в путь, с тем чтобы соединиться с остальными. Описать Вам досаду Александра невозможно.
Обогнув гору и пройдя минут двадцать, мы добрались до наших загонщиков; поджидая нас, они разожгли огромный костер. И тут началось то, что обычно бывает с охотниками, которые, вернувшись с пустыми руками, жаждут разрядить во что-нибудь свои ружья и доказать, что, если бы у них была возможность подстрелить дичь, они бы не промахнулись. Возникло состязание между испанскими и французскими карабинами; в сотне шагов от костра воткнули в землю палку, закрепили на ее конце лист бумаги величиной с круглую шляпную вставку, и каждый счел своим долгом показать свое умение. Эрнандес выстрелил и продырявил лист. Это вызвало в испанском лагере всплеск рукоплесканий.
Александр выступил вперед со своим карабином и, повернувшись ко мне, сказал: «Вот пуля, которую ты мне не дал выпустить! Смотри, мог ли я промазать?!»
Он вскинул карабин, тщательно прицелился и нажал на спуск – пуля не вылетела. Он перезарядил карабин, и трижды повторился тот же трюк. Оба лагеря не просто смеялись, а корчились в конвульсиях от хохота. «Как же так, он же от Девима!» – недоумевал Александр, снимая с плеча карабин и показывая его нам. «Прекрасное оружие! – засмеялся Парольдо, разглядывая карабин. – Легкое в руке, хорошо сделанное, с красивой гравировкой; жаль только, что им нельзя пользоваться!» Александр отошел, сконфуженный и обиженный.
«Ну, теперь твоя очередь!» – обратился Жиро к Дебаро-лю, наконец-то присоединившемуся к нам и, как всегда, пытающемуся без выстрела разрядить карабин, что ему никак не удавалось. «Нет, я не хочу стрелять!» – «Ты должен! Это научит тебя, как заряжать карабин, направляясь на охоту; к тому же ты обязан защитить честь французов своим испанским карабином; это, конечно, позор для Де-вима, но ничего не поделаешь!» – «Ты настаиваешь? Ведь я сегодня зарядил оба ствола в расчете на кабана». – «Тем хуже!» – «Ну, что ж!» – с привычной решимостью произнес Дебароль и прицелился, а мы в это время отошли как можно дальше от него.
Оглушительный грохот пронесся по всем горным ущельям; куда полетела пуля, мы так и не узнали, но Дебароль завертелся на месте и, бросив свое оружие, схватился рукой за вздувшуюся щеку и начал сплевывать кровь. Маке, человек предусмотрительный, вытащил из кармана флакон с нюхательной солью и дал Дебаролю вдохнуть ее; тем временем Жиро поддерживал его голову, а Эрнандес предлагал ему свою лошадь, чтобы уехать на ней. Не стоит и говорить, как все сотрясались от хохота. И в разгар этого на позицию вышел я.
Должен сказать, сударыня, что смех смолк мгновенно, возможно, с расчетом вновь возобновиться; однако, поскольку после неудачи Александра и Дебароля защита чести французов лежала на мне одном, мое тщеславие заставляет меня думать, что меня опасались, и молчание установилось в преддверии готовившегося важного события. Скромность, сударыня, не позволяет пересказывать мне Вам те поздравления, какие я получил, когда прозвучал выстрел и загонщик принес лист бумаги, пробитый в центре моей пулей.
Я не столько влез на моего великолепного осла, сколько меня вознесли на него, и все мы двинулись в дорогу, кто пешком, кто на осле, со смехом, шумом, пением, всегда сопровождающим возвращение с охоты. Наконец, пройдя по невероятно узким тропам, мы не без труда добрались до плато, окружавшего кругообразную долину. Большинство наших спутников, лучше нас, естественно, знакомых с горами, пошли окольными тропами и прибыли на место встречи раньше; добравшись туда в свою очередь, мы скинули свое оружие.
С места, где мы находились, вид на горы был великолепен; рядом с нами стояли три остроконечных соломенных шалаша. Почти в центре плато возвышалось дерево, между ветвями которого подвесили убитого кабана; брюхо его вспороли, чтобы вытащить печень, и оно зияло перед нами своим привлекательным нутром. Наши друзья включились в дело и стали подбрасывать в разведенный костер сухой хворост и ветки, собранные или срубленные ими в долине. На огромной скатерти, постеленной на земле, стали расставлять провизию. Громадные кастрюли стояли около костра в ожидании, когда ими займутся; самые ленивые или наиболее усталые загонщики уже расселись вокруг этого настоящего бивачного костра.
Вообразите: плато окружностью в сто пятьдесят футов, луна, свет, веселье, люди, а на горизонте, где заходящее солнце, словно паша, возлежало на золотых подушках облаков, – бескрайность, тишина, покой, Бог. В горах не было никого, кроме нас. Один из наших спутников, заблудившийся в горах, еще не добрался до места сбора, и время от времени в надвигавшейся темноте раздавался жалобный призыв его рога, в который он трубил и которому отвечали зычные голоса тех, кто сидел рядом с нами. Затем этот отдаленный звук стал приближаться в направлении тех, кто на него откликался, как если бы эти голоса перебросили в воздухе путеводную нить и путник ухватился за нее; в конце концов рог смолк, и вместо хриплого завывания музыкального инструмента горцев отчетливо послышался человеческий голос. Мы все сгрудились в той стороне, откуда должен был появиться горец, ведь для нас, парижан, привыкших к однообразным парижским вечерам, все эти подробности заключали в себе настоящую поэзию и подлинное своеобразие. Наконец в глубине долины, заполненной синеватой мглой, пронзить которую лучам заходящего солнца уже не хватало силы, мы увидели движущуюся белую тень; затем в последний раз послышался призывный и опознавательный крик, и минуту спустя путник оказался среди нас и принял участие в приготовл е ниях.
Солнце, словно заботливый отец, который поджидает возвращения всех своих детей перед тем как отойти ко сну, послало нам свою прощальную улыбку и окончательно спустилось за горизонт. Цивилизация лишилась заката солнца. И хотя изредка обитатели Сен-Жерменского предместья, прогуливаясь после обеда, еще видят, как солнце садится напротив собора Парижской Богоматери и озаряет заревом две его башни, похожие на две руки, которые простерты к Господу, дабы возносить вечную молитву, лишь в подлинном уединении такое зрелище представляется по-настоящему величественным, и люди, в течение шести тысячелетий любующиеся им, должны без конца восхищаться этой дивной улыбкой Господа, длящейся целый день и озаряющей весь мир. Наш день был завершен. Закрылись огромные светлые горизонты с их игрой света. Мрак, словно свинцовое покрывало, опустился на картину, которую мы видели с утра, и горы, еще более грандиозные, еще более грозные в своей таинственности, непреодолимости и бесконечности, скрыли нас от всего мира. Мы были окружены огромными зубчатыми силуэтами, и на закате красный луч, как змей, полз по вершинам этих зубцов. Это было похоже на последний отблеск заканчивающегося праздника, ибо луч этот становился все слабее и слабее и наконец исчез совсем: воцарилась непроглядная ночь.
И когда нас окутала тьма, такая глубокая, что нам казалось, будто солнце уже никогда не сумеет ее одолеть, отдельные подробности нашего уединения приобрели при свете костра совершенно необычайный вид. Эти облаченные в темные одежды и звериные шкуры люди, смуглые лица которых, резко очерченные бородой, освещались красным пламенем, своим обликом служили нам пояснением к Гойе. Я, как обычно, занялся стряпней; приготовленные мною печени оленя и кабана, убитых охотниками, заняли свое место среди всякого рода яств, разложенных на огромном белом полотнище, которое было брошено прямо на землю. Бурдюки были откупорены, и вино обильно потекло в глиняные кувшины и кастрюли; у бочек, наполненных оливками, было выбито дно, и зеленые плоды высыпали на скатерть; по кругу стола непрерывно передавали птицу, которую не резали, а разрывали на куски, и огромные окорока.
Мы лежали вповалку, ели без всяких церемоний и при этом с большим удовольствием; некоторые из нас воспринимали стаканы как причуду, вилки – как забытое предание, а тарелки – как волшебную сказку. Время от времени откуда-то появлялся кубок, какая-то фляга катилась по скатерти, и самые манерные вольны были пить из этой фляги или из этого кубка; трапеза была одновременно невероятной и роскошной. Огромные глиняные кувшины с вином, которые, будучи пущены по кругу, возвращались пустыми и мгновенно наполнялись вновь; вскрытые бочки; изобилие блюд; окрасившаяся вином скатерть; крйки; взрывы смеха, несущиеся со всех сторон; союз горной местности, веселья и разыгравшегося аппетита, начавшийся с последними лучами заходящего солнца и продолженный при свете пылающего костра, вокруг которого плясали и вопили, как черти, наши загонщики; оглушительный шум, разрывающий перепонки и вдруг теряющийся в соседствующем с ним безмолвии долины, где звук воды, падающей капля за каплей из родника, казался сильнее этого шума, – все это на меня и на всех нас, впервые оказавшихся на подобном празднестве, производило новое и неописуемое впечатление. Еще одна немаловажная подробность дополняла странность картины, представшей нашим глазам: наши ослы и лошади, с которых сняли седла, привольно паслись вокруг нас. Время от времени к нашему столу подходил кто-нибудь из этих прирученных четвероногих: находя свою пищу недостаточно хорошей, он требовал поделиться с ним нашей едой, а затем, изгнанный нами, удалялся тяжелым шагом и оставался в зарослях, освещенный лишь наполовину и неподвижный, словно какое-то фантастическое существо.
Между тем стала ощущаться потребность в воде, прежде всего потому, что вино заметно убывало* а веселье слишком шумно возрастало. И тогда слуги не раз отправлялись к соседнему источнику и приносили на головах кастрюли, полные свежей и чистой воды, однако Буланже продолжал утверждать, что в ней водятся пиявки и потому отказывался ее пить. Я предоставляю Вам, сударыня, возможность самой догадаться об истинной причине такого обвинения, являющегося не чем иным, как настоящей клеветой. Наконец, когда все было если не съедено, то, по крайней мере, испробовано, когда отсмеялись и выпили столько, что возникла необходимость смеяться и пить стоя, все поднялись.
«Поднялись», наверное, не слишком точное слово, сударыня, ибо должен признать, что среди нас были и такие, чьи попытки подняться долгое время оставались тщетными. К числу этих новоявленных Силенов мне следует отнести нашего друга Буланже – ему пришлось прибегнуть к помощи Жиро и Александра, чтобы сменить лежачее положение на вертикальное – единственное достойное цивилизованного человека. Когда же в итоге он поднялся и свежий ночной воздух овеял его лицо, тысячи веселых мыслей взыграли в нем: он стал слагать оды Бахусу, которым позавидовал бы Гораций, и обращенные к неведомым Делиям стихи, которыми гордился бы Катулл; он обнимал нас со всей пылкостью дружеского сердца, орошенного крепкими винами; он даже танцевал, но должен заметить, что ему пришлось быстро убедиться в невозможности продолжать это занятие, и, опираясь одной рукой на Дебароля, другой – на Маке, он спустился по склону, ведя веселые разговоры, а затем вернулся, напившись столь презираемой им воды и украсив себе голову сорванным по дороге вереском.
Однако, сударыня, поверьте, что я далек от желания строить измышления по его поводу. Во время путешествия Буланже проявил веселость, какую в Париже видели у него только близкие его друзья, а в этот вечер, вполне естественно, она возросла настолько, что проявилась в широком кругу; разумеется, причиной того, что его охватило поэтическое вдохновение и потянуло на смех и песни, были пары различных вин, наполнивших его желудок, но все это напоминало ароматы, исходящие из сосуда, на дно которого брошены цветы. Его слова не задели бы слуха женщины, идти рядом с ним было бы позволено ребенку; и, благословляя Небо за дарованный ему прекрасный вечер, он импровизировал куплеты такого рода:
Пусть будет песнь моя осуждена,
Но мне известно лишь одно:
Что женщина любимой быть должна,
Должно быть выпито вино.[56]
Невозможно передать Вам, сударыня, с какой искренностью эта песня исполнялась певцом и с каким восторгом воспринималась она теми, кто ее слушал. Но, казалось, прежде всего подобным итогом пиршества, примерно одинаковым для всех, в высшей степени были довольны наши хозяева.
Тем временем скатерть сложили, остатки кушаний убрали в ящики, и на месте, где за четверть часа до этого мы пировали, сложились оживленные кучки людей, освещенные красноватым пламенем костра; огни сигар сияли, как светляки; мы продолжали наши безумства, а ночь, безлунная, но в россыпях звезд, простиралась над горизонтом в своем величественном безмолвии и царственном покое. Но вот среди этого всеобщего и полного веселья, в которое каждый вносил свой вклад, послышались пронзительные звуки мандолины, и хор звонких голосов стал громко вторить им так превосходно, что через короткое время этот неподготовленный заранее концерт возобладал над веселым гулом, – все умолкли и стали слушать.
Пели «Los Toros»[57], и мне никогда не удастся описать Вам, какое впечатление эта дикая и ритмичная музыка производила среди темных гор, под звездным небом, в свете пылающего костра, вокруг которого плясали и пели наши загонщики, хохоча и совершая причудливые прыжки. Нам всем были знакомы если не слова, то, по крайней мере, мотив этой столь распространенной в Испании песни, и голос каждого влился в ее припев, в конце которого раздались громогласные крики как сигнал к всеобщему безумству. За песней последовали танцы; аккомпаниатор взял на себя роль оркестра, и наши хозяева гор начали исполнять невероятное фанданго, сопровождавшееся выкриками и щелканьем кастаньет; все это напоминало мне хоровод демонов.
Но когда их танец закончился, им пришла в голову новая мысль – заставить танцевать нас. Они требовали, чтобы мы исполнили танец нашей страны, как будто в нашей чинной стране есть танцы. Дебароль попытался им объяснить, что наши танцы безлики и невыразительны и что мы будем чрезвычайно нелепо выглядеть, танцуя кадриль посреди гор, особенно после характерного танцевального представления, устроенного нашими хозяевами. В ответ было сказано, что наша страна слывет самой развитой на свете и что невозможно поверить, будто в развитой стране, где люди способны выразить любое свое чувство, не умели столь легким способом выражать свое веселье; они уже начали думать, что мы чрезвычайно высоко ставим их как танцоров и стыдимся давать им представление, какое было дано нам. Надо было решаться!
Дебароль взял в руки гитару; как Вы знаете, сударыня, в юности Дебароль пленял всех этим инструментом и сохранил в памяти несколько мелодий, позволивших ему здесь, в горах, в полночь, среди чужих, задать ритм кадрили, которую предстояло исполнить. Буланже, Маке, Жиро и Александр принесли себя в жертву, и мне не достанет ночного мрака, чтобы скрыть от Ваших глаз хореографические достижения этого четверного союза. Тем не менее следует упомянуть, что Маке проявил больше желания, чем умения, а Буланже – больше веселости, чем опыта; что касается остальных двоих, то они прошли кое-какую школу, как говорит Арналь.