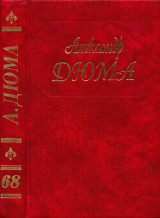
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 42 страниц)
Я уже говорил Вам об умеренности андалусок. Что касается напитков, то Анита, Пьетра и Кармен лишь слегка пригубили свои бокалы; что же касается еды, то они огра-ничилсь тем, что нехотя отведали два-три блюда, составлявшие ужин.
Как Вы видели, сударыня, в Испании за здоровье людей пьют очень своеобразным образом, присылая им свой бокал. Так вот, представьте себе, так же за здоровье людей здесь и едят, передавая им на кончике своей вилки кусочек кушанья из собственной тарелки или на кончике своего ножа уже надкусанный фрукт. Разумеется, мне со всех сторон подносили вилки и ножи.
Жиро воспользовался этим обстоятельством, чтобы нарисовать меня в роли жонглера. Вы не можете себе представить, каким веселым и шумным был этот ужин, хотя каждый сотрапезник выпил не больше четверти бутылки. Одни пели, держа в руках гитару, другие декламировали стихи, ведь, благодаря красоте кастильской речи, в Испании, как и в Италии, все поэты. Стихи слагались в честь Аниты: это были мадригалы, сонеты, оды.
Эти восхваления, слова одобрения, сравнения и метафоры; эти аплодисменты, крики и возгласы «браво» делали ненужным вино, ибо их одних было достаточно, чтобы опьянить тех, кто возносил хвалу, и ту, кому она предназначалась. На самом деле, сударыня, Вы понимаете, что все эти крайности – всего лишь проявление невольной признательности за совершенно бескорыстную любезность трех очаровательных женщин, устроивших нам этот вечер; и им платили – если только подобные милости можно оплатить – им платили восторгом, а скорее даже фанатизмом.
Этот восторг и фанатизм росли с жаждой минутой, и неизвестно, до чего бы они нас довели, как вдруг двадцать голосов закричали: «Вито! Вито! Вито! Анита, исполни вито на столе!» Анита не заставила себя упрашивать. Ах, сударыня, какой пример в этом отношении андалуски дают француженкам! Итак, Анита никоим образом не заставила себя упрашивать: она вскочила на стул, а со стула – на стол.
В то же мгновение тарелки, бокалы, бутылки, ножи и вилки были отодвинуты, чтобы не поранить маленьких ножек, обутых в атлас, и танец начался. На этот раз, сударыня, рассказать Вам о перестуке ножек, о радости и воплях всех гостей было бы невозможно; признаться, все это неистовство казалось мне вполне естественным. Не могу припомнить, чтобы я видел когда-нибудь зрелище любопытнее этих людей, опьяненных без всякого вина и приветствующих неподражаемую сильфиду, которая, не шатая стол, не колебля бокалы, не сотрясая тарелки, танцевала, царя над этим кружком исступленных мужчин, пожиравших глазами каждое ее движение. На этом ужин кончился. Аниту на стуле перенесли в бальный зал, крича: «Танец! Танец!»
Если кто-нибудь, не будучи предупрежден о происходящем, проходил бы мимо дверей и услышал эти крики, он решил бы, что здесь кого-то убивают, тогда как, напротив, всем своим существом присутствующие были обращены к радости и дышали наслаждением. Две другие танцовщицы, как и Анита, возглавляли каждая свой стол и, как и Анита, снискали овацию. Тем не менее, перед тем как бал возобновился, началось какое-то перешептывание в тесном кругу, между девушками и их ближайшими родственниками. Это шушуканье, которое было совершенно непонятно мне, бедному иностранцу, и окончания которого с явным нетерпением ждали все остальные собравшиеся, завершилось победными криками: «Фанданго, фанданго!»
Анита и Пьетра решили танцевать вместе, причем во всей его полноте, фанданго – танец, обычно исполняемый мужчиной и женщиной. Даже самые опытные устроители празднеств не смогли бы более искусно раз за разом усиливать эффект, как это только что сделали наши превосходные хозяева. Ах, сударыня, коль скоро мне не удалось найти выражений, чтобы описать Вам качучу, оле и вито, не надейтесь, что я буду делать попытки дать Вам представление о фанданго. Вообразите двух пчелок, двух бабочек, двух колибри, которые носятся и летают одна подле другой, сталкиваются, касаются друг друга кончиками крыльев, снова сталкиваются, отскакивают; вообразите двух ундин, которые в дивную весеннюю ночь резвятся на берегу озера, прыгая по верхушкам камышей, не сгибающихся под их матовыми ножками, а затем, вволю покружившись и набегавшись порознь, постепенно приближаются друг к другу, пока не соединятся их дыхания, не смешаются их волосы, не соприкоснутся их губы. Этот поцелуй – высшая точка танца, трижды он повторялся со все возраставшим притяжением и на третий раз силы танцующих были исчерпаны. Танца не стало, как если бы исчезли с глаз ундины, вернувшись в свое озеро.
Больше всего меня удивили два обстоятельства: полная апатия, овладевшая танцовщицами после окончания танца, и почтение к ним всех этих мужчин, не осмелившихся ни единого раза, при всем своем безумном исступлении дотронуться до края одежды Аниты, Пьетры и Кармен.
Вечер кончился в два часа. Каждая танцовщица набросила на плечи свою накидку, взяла под руку свою мать, попрощалась и пешком направилась к себе домой. Я вернулся в гостиницу, доведенный до изнеможения этими впечатлениями. Два совершенно разных вечера оставили во мне неизгладимые воспоминания – вечер охоты в сьерре и вечер бала в Севилье.
На следующее утро я поинтересовался, какой подарок в знак благодарности можно послать этим дамам. Мне ответили, что они не примут ничего, кроме конфет. Я пошел на французский базар (в Севилье есть французский базар, сударыня, хотя на нем все говорят по-испански), купил там три фарфоровые корзинки и, наполнив их конфетами, фруктами и цветами, отослал в дома танцовщиц.
XXXIX
Севилья.
Вся Севилья пребывает в печали, сударыня! Сегодня, в воскресный день, корриды не будет. Вы, вероятно, помните, что Монтес и Чикланеро задержались в Севилье и обязались устроить здесь корриду. Но увы! Всю ночь шел дождь: «Nocte pluit tota», как сказал Вергилий, а зрелище, вместо того чтобы вернуться утром, сорвалось. Вот такие люди Монтес и Чикланеро, сударыня; это щёголи, не пожелавшие пачкать свои шелковые чулки и атласные туфли; увидев грязь на улице, они сказали: «Фи!» – и сели на пароход, отправлявшийся в Кадис.
Монтеро, который задержал свой отъезд на пару дней, рискуя нанести урон Португалии, и сделал это исключительно ради того, чтобы посмотреть корриду, зрелище, имевшее для него прелесть новизны, отправился следом за ними на мальпосте. Нюжак, в свою очередь, уезжает завтра на «Trajano» (читается «Трахано», если Вы хотите произносить это название на испанский лад). Он сопровождает до Порту г-на Мёльена, консула в Гаване. Мёль-ен – один из тех немногих пассажиров, кто уцелел во время кораблекрушения «Медузы». Александр уехал неизвестно куда; он исчез вчера в пять часов, и даже Дебароль, его неизменный страж, не может мне ничего о нем сообщить.
Как только ему стало известно об исчезновении Александра, он взял свой карабин и предложил мне отправиться на поиски беглеца, но мне не показалось, что это так уж необходимо. Мы пребывали сегодня с утра в каком-то растерянном состоянии: все наши планы были связаны с корридой, и, раз ее не было, приходилось искать новое занятие.
Занятие это нашлось быстро: мне захотелось увезти с собой что-нибудь на память о вчерашнем вечере. Я взял с собой Жиро и Бюиссона, и мы направились на улицу, где живет Кармен. Речь шла о том, чтобы добиться от нее разрешения написать ее портрет, на котором она была бы в своем парадном облачении, то есть в платье из газа, с блестками и украшениями, составляющем наряд танцовщицы.
Увидев нас, бедная девушка зарделась. Она вместе с матерью и младшей сестрой была занята шитьем арагонского платья: ей предстояло надеть его сегодня вечером, чтобы танцевать хоту.
Работа была спешная; я едва решился сказать Кармен о цели нашего визита, ведь уже наступил полдень, платье не было готово, а сеанс должен был занять не менее часа. Это было возражение, выдвинутое нам матерью Кармен, но девушка прошептала ей на ухо несколько слов, и все препятствия были устранены. Потом я узнал, что это были за слова. «Я откажусь от обеда, – сказала она, – и наверстаю потерянное время». Итак, было условлено, что Жиро проявит все свое проворство, а Кармен будет позировать.
Мы находились в маленькой бедной комнатушке на первом этаже; как все испанские дома, изнутри она была побелена известкой; вся ее обстановка состояла из четырех стульев. Кармен попросила нас подождать ее, а сама быстро поднялась по лестнице, чтобы сменить наряд. В ее отсутствие мать поведала нам о всех своих бедах: отец семейства болел и умер от какой-то изнурительной болезни. Кармен долго не решалась посвятить себя театру, но ее рукоделие приносило не больше трех-четырех реалов в день. Несчастная семья вынуждена была продать свои немногочисленные драгоценности, и на вырученные деньги Кармен, ощущавшая в себе способности к танцам, смогла взять несколько уроков.
Наконец с огромным трудом ей удалось устроиться в театр; она работает там около года и зарабатывает – не смейтесь, сударыня, мне стало очень грустно, когда я это услышал, – пятьдесят су за каждое свое выступление. Танцует она четыре раза в неделю, то есть получает сорок франков в месяц; из них она должна тратить что-то на свои туалеты. Вы понимаете теперь, что, хотя бедная Кармен и не вернулась к шитью и вышивке, ее новое ремесло не сильно обогатило семью, но сестра, мать, Кармен – все работают, и если они не могут жить на свои заработки, то, по крайней мере, делают вид, что могут.
Возможно тот, кто не слышал только что рассказанного нам, усмехнулся бы, увидев при ярком свете дня жалкий наряд из газа и всю мишуру, которые вчера, при свете четырех чадящих кенкетов еще способны были произвести некоторое впечатление, но у нас, после того как мы выслушали это печальное повествование, клянусь Вам, сжалось сердце, едва перед нами снова предстала эта девушка, которая в возрасте, когда полагается быть лишь красивой и счастливой, уже вынуждена нести тяжелую жизненную ношу.
Она позировала с очаровательной улыбкой, недоумевая, почему за время ее отсутствия в наших глазах появилось грустное выражение. Жиро попросил мякиш хлеба, чтобы стирать карандаш, но в доме хлеба не оказалось, пришлось идти просить его у соседей. Через час портрет был закончен – он получился прекрасным. У Жиро набросок редко выходит таким удачным.
Мне было непонятно, что можно предложить в подарок этой семье; я попросил Кармен сделать для Жиро украшение, подобное тому, какое она носит на голове. Это что-то вроде газового банта, вышитого серебром; она тотчас же сняла свой и протянула ему. У меня в рукавах рубашки были запонки – пара бриллиантов. Я отстегнул их и упросил Кармен взять их, чтобы сделать из них серьги. Потом я дал луидор ее сестричке, не осмеливаясь дать больше из боязни, что могут подумать, будто я подаю милостыню.
Вам трудно будет осознать чувство глубокой грусти, владевшее мной, когда я покидал этот дом. Конечно, Кармен далеко до Черрито, Эльслер и Тальони, но может ли эта дистанция сравниться с глубиной пропасти, разделяющей нищету одной и роскошь других? Кармен взяла с меня обещание посмотреть, как она будет танцевать арагонскую хоту; я не замедлил согласиться – бедная девочка так радовалась этим запонкам, точно они стоили тысячу луидоров. Она обещала мне надеть их в тот же вечер.
На обратном пути я встретился с выходящим от меня графом дель Агвила. От кого-то он прослышал, что отъезд Монтеса и Чикланеро меня огорчил. В самом деле, я высказывал сожаление, что не состоялась эта коррида, по всей вероятности последняя, которую мне предстояло увидеть в Испании, и граф пришел предложить мне замену. Он и его друзья задумали дать в мою честь праздник за городом и показать мне, как они сражаются с быками. Вы понимаете, сударыня, размах этого гостеприимства? И не чудо ли, что десять или двенадцать самых знатных дворян города будут ради меня играть роль пикадоров?! Я с благодарностью принял предложение; праздник намечен на послезавтра – надо еще успеть сделать все необходимые приготовления к корриде.
Александр не вернулся, и я начал серьезно волноваться, когда Бюиссон мне во всем признался. Александр взял у него накануне переводной вексель на тысячу франков и просил успокоить меня по поводу своего отсутствия; однако он не знал, когда и где ему удастся к нам присоединиться, и просил нас отмечать камешками наш путь, как это делал Мальчик с пальчик. Поскольку заемное письмо было выписано на имя Парольдо, то нетрудно догадаться, в какую сторону направился наш беглец. Что бы там ни говорил и ни делал Александр, его отъезд меня все же несколько тревожит; в любую минуту мы можем получить уведомление, что в Кадисе нас ждет корабль, и вынуждены будем уехать; и тогда, я Вас спрашиваю, сударыня, на каком краю света к нам присоединится «малыш Дюма», как называет его Жиро?
Остаток дня прошел в разглядывании дворов, вид на которые открывается через ворота. Ах, сударыня, что за прелесть эти севильские дворы! Прежде всего, здесь нет никаких ужасных массивных дверей, хорошо Вам знакомых, есть только изящные решетки, такие узорчатые и очаровательные, каких я никогда в жизни не видел: со всевозможными рисунками в стиле Людовика XV, вензелями, рядами острых пик, все целиком из железа, но железа, обработанного так, как это делали четыре столетия тому назад.
За решеткой виден двор, вымощенный мрамором; здесь невероятно дорог камень, а мрамор используют на каждом шагу. Итак, за решетками виден мраморный двор с фонтаном посередине и мраморными арками вокруг. Это античный имплювий и одновременно арабское патио. Кругом много цветов, незнакомых в наших северных краях: с крупными красными венчиками, изогнутыми в виде рожка; длинные синие гроздья на стебле, покачивающем множеством своих колокольчиков при малейшем дуновении ветра; какие-то сорта роз телесного цвета, поднимающиеся на высоту в двадцать футов; пурпурные звезды, пылающие в темно-зеленой листве, которая напоминает листву бузины, а по углам – апельсиновые и лимонные деревья, согнувшиеся под тяжестью своих золотых плодов. Кое-где под арками этих дворов висят картины, как в галерее.
Да, кстати о картинах, сударыня: Вам нравится Мурильо? Наверное, это Ваш художник? У него есть цвет, рисунок, очарование. У него есть все, и, не будучи ни Рафаэлем, ни Рубенсом, он писал мадонн таких же целомудренных, как Рафаэль, и в таких же сочных красках, какими пользовался Рубенс. Но, если Вам нравится Мурильо, не стоит приезжать в Севилью. Мурильо родом из Севильи, вернее из Пиласа, маленького городка в ее окрестностях. И потому, каждый севильский собиратель картин считает своим долгом, как земляк Мурильо, иметь или, по крайней мере, утверждать, что он имеет, пять или шесть его картин. У Мурильо, так же как у Рафаэля, было три манеры письма. Это обстоятельство очень удобно для любителей живописи, которые приписывают метру все грехи его учеников и твердят, что у них есть Мурильо во всех жанрах – Мурильо холодный и теплый, Мурильо бледный и темный. Если так считать, то в одной лишь Севилье примерно три тысячи картин Мурильо. Как видите, по сравнению с этим неутомимым тружеником Рафаэль и Рубенс просто лентяи.
Новости, сударыня! Новости, и какие! Минуту назад мы узнали, что «Трахано» потерпел крушение в Гвадалквивире. Как Вы понимаете, в первую очередь мы забеспокоились о судьбе наших соотечественников, господ Нюжака и Мёльена. К счастью, никто не погиб, хотя все страшно испугались, за исключением Мёльена, проявившего поразительное бесстрастие. Наверное, если пришлось тонуть на «Медузе», приходится так или иначе свыкаться со всеми кораблекрушениями.
Вот как обстояло дело. С приближением к Кадису Гвадалквивир принимает вид настоящего океана. И потому там случаются небольшие штормы. Капитан «Трахано», опаздывая на два часа и пробиваясь сквозь густой туман, умудрился сесть на мель в пятидесяти шагах от берега. Однако, поскольку в это время был прилив, в течение шести часов оказалось невозможным добраться до желанного берега. Все эти шесть часов пассажиры освежались бесконечными волнами, набегавшими на судно, и всем пришлось взбираться на ванты и даже на марсы, как при настоящем кораблекрушении. Во время отлива море отступило, и «Трахано» оказался почти что на суше. Пассажиры спустились, но не на землю, а в воду, кое-как добрались до берега, а оттуда до Кадиса, куда они явились невредимые, но весьма взбудораженные.
Вот такая самая большая новость в Севилье на этот час, и я спешу поделиться ею с Вами, сударыня. С той же почтой пришло известие, что наш корабль еше не прибыл; это позволяет нам не терзаться угрызениями совести по поводу нашего несколько затянувшегося пребывания в столице Андалусии, которую мы покинем послезавтра на товарище «Трахано» – судне «Е1 Rapido»[62]. Наш отъезд намечен на десять часов утра. В силу своего названия «Стремительный» обещает нам прибытие в Кадис в четыре часа дня.
Всего доброго, сударыня! В следующий раз, вероятнее всего, напишу Вам уже из Кадиса.
XL
Кадис, 19 ноября, вечер.
Вот видите, сударыня, как день на день не приходится, так дело обстоит и с кораблями. Мы гордо проплыли в полу-льё от трупа несчастного «Трахано», все еще погруженного в береговой песок и ожидающего высокого прилива, чтобы сняться с мели, в то время как для «Стремительного» все обошлось без всяких происшествий.
Сейчас семь часов вечера, и мы только что расположились в гостинице «Европа»; из Севильи мы выехали в десять часов утра. Вчера утром в девять часов меня ждала карета, запряженная семью мулами; однако стояла она не у дверей гостиницы, ибо даже коляска, запряженная одной лошадью, не могла бы туда подъехать, а на соседней площади, именуемой, должно быть, площадью Конституции. В Испании все площади носят имя Конституции. Мне никогда не приходилось видеть более изысканного выезда, чем этот – с шелковой красной и желтой упряжью, помпонами, плюмажами, колокольчиками, кисточками, сага-лом и кучером.
Господин Экала (так зовут дворянина, приехавшего вместе с нами из Кордовы в Севилью) тоже прислал мне карету, так что в нашем распоряжении оказалось три свободных места. Одно из них по праву занял Бюиссон, другое было предложено Сен-При.
В ста шагах от городских ворот, куда мы с шумом подъехали на двух своих экипажах, у дверей маленького трактира, где принято останавливаться, чтобы выпить по пути бокал хереса, нас ждал господин граф дель Агвила. Вино было хорошим, а форма бокалов превосходной. Там собралось примерно человек двадцать – все в андалусских костюмах, верхом на лошадях, вооруженные длинными копьями пикадоров. Костюм графа дель Агвила, хотя и очень простой, отличался безупречным изяществом, возможно, именно благодаря своей простоте. Его лощадь, хотя и несколько изношенная, как все лошади, на которых собираются участвовать в корриде, таила под своим укороченным галопом превосходную стать. Граф дель Агвила предназначал ее специально для состязаний, в которых нам предстояло его увидеть. Он слыл одним из лучших пикадоров Испании.
В Испании, сударыня, помимо рехонеадоров, о которых я Вам уже говорил и которых можно увидеть только на больших празднествах, в корридах не так уж редко участвуют и знатные дворяне – либо ради собственного удовольствия, либо на пари, либо во славу дамы, как говорили во времена рыцарства. Несколько лошадей были приведены в поводу для тех из нас, кто пожелает ехать дальше верхом. Жиро и Дебароль воспользовались этим предложением, однако отказались от одновременно предложенных им копий. Мы тронулись в путь прямо через равнину; испанские лошади и мулы не так привередливы, как наши, которым обязательно нужны дороги; они проходят повсюду и тащат за собой экипажи; правда, надо сказать, почти всегда эти экипажы изготавливают в предвидении таких чрезвычайных обстоятельств. Место встречи было выбрано на берегу Гвадалквивира среди невозделанной равнины, как будто засеянной короткой и сухой травой, среди которой кое-где торчали пучки чертополоха. Над равниной господствовал холм; на вершине холма стоял монастырь. Обзор закрывала стена огромного парка, а над ней высилось несколько прекрасных деревьев. Место, где мы собрались, представляло некое подобие квадратной арены, с одной стороны загороженной зрителями, с другой – Гвадалквивиром, с третьей – холмом и стеной парка. Четвертая сторона оставалась свободной, оттуда и должны были появляться быки, видневшиеся вдали: группами по пять-шесть в каждой они неповоротливо паслись на равнине, а время от времени поднимали головы, вытягивали шеи и протяжно ревели. Граф дель Агвила вместе с двенадцатью – пятнадцатью всадниками образовал большой круг, взяв быков в кольцо, как загонщики поступают с дичью. Во время этих приготовлений быки выказывали явные признаки тревоги; они поворачивали голову в сторону, мычали, били себя хвостом по бокам. Заметив приближающихся всадников, самые предусмотрительные быки тронулись с места; несколько других проявили большое беспокойство, но, казалось, решили не покидать приглянувшееся им пастбище до последней возможности; наконец, другие – то ли самые несведущие, то ли самые здравомыслящие – вроде бы вообще ничего не замечали. Но вскоре вторые двинулись вслед за первыми и остались только самые беззаботные. Впрочем, ощутив прикосновение копий, они тоже пустились в дорогу. В итоге стадо в шестьдесят голов рысцой бежало в кругу, грузно переступая и оглядываясь то направо, то налево: с одной стороны путь им преграждала каменная стена, с другой – людская. Животные не видели третье, скрытое от их глаз препятствие – Гвадалквивир, зажатый между берегов, но они чувствовали, они знали, что впереди река. Как только быки сбились в кучу, каждый всадник выбрал себе противника, и коррида началась. Стадо состояло из животных четырех-пяти лет, предназначавшихся для цирка. Эта коррида была для них своего рода испытанием их будущей храбрости. Те, кто заслужит чести погибнуть на поле битвы, тут же получат клеймо, а тех, кого признают слабыми или трусливыми, безжалостно отправят на бойню.
Граф дель Агвила, руководивший корридой, ударил копьем первого быка; животное, спасаясь от боли, бросилось бежать; граф последовал за ним, ускоряя ход лошади по мере того, как оно ускоряло свой; затем, когда лошадь и бык разгорячились как следует и в какое-то мгновение все четыре копыта быка одновременно оторвались от земли, граф вытянул руку и копьем ударил его между основанием хвоста и верхней частью бедра.
Бык, не имея опоры, трижды перевернулся через спину и остался лежать брюхом вверх, совершенно ошеломленный тем, что с ним произошло, и тщетно пытаясь осознать случившееся. Граф подождал минуту, чтобы посмотреть, поднимется ли животное и продолжит ли оно сражение; но бык, восстановив равновесие, остался сидеть на месте с еще более задумчивым видом, чем когда он лежал на спине. Было очевидно, что его охватили раздумья и что, возможно, это был великий мыслитель, но не смельчак. С криком «На бойню, на бойню!» граф направился к другому противнику.
В это же время с ббльшим или меньшим успехом, в зависимости от ловкости пикадоров, проходило еще двадцать сражений. Два-три быка, перевернувшись кубарем, как и тот, за злоключениями которого мы только что наблюдали, поднялись и кинулись на пикадоров; одного из них противник даже начал изо всех сил теснить, и всадник пустил лошадь в галоп, пытаясь уйти от преследующего его быка, как вдруг граф ударил животное концом копья и опрокинул, заставив его откатиться на десять шагов. Однако бык этот обладал инстинктами настоящего бойца: он поднялся во второй раз и двинулся на графа, который, только что показав нам свою ловкость как пикадор, проявил теперь блестящее умение наездника. Все то, что когда-то проделывал на наших глазах пеший Монтес, чтобы увернуться от быка, граф проделывал верхом на лошади.
Казалось, что у лошади и всадника общее мышление и даже общее чутье. Миф о кентавре воплотился в жизнь, и по прошествии десяти минут этой тщетной борьбы бык, устав от бесконечных петляний перед ним графа, рухнул на передние колени. Графу оставалось лишь тронуть его кончиком копья – и бык повалился на землю. Однако это падение было для быка равносильно победе: отныне он предназначался для цирка.
Все это состязание длилось три часа, сударыня, причем с переменным успехом: многие быки были опрокинуты на землю, но и некоторым всадникам пришлось поваляться в пыли. Впрочем, никаких серьезных происшествий не случилось. Как только тот или иной наездник оказывался в опасном положении, быка отвлекал либо другой всадник, либо какой-нибудь любитель из числа зрителей: он кидался в гущу схватки и начинал водить своей накидкой перед мордой животного, проявляя при этом если не умение, то, по крайней мере, отвагу настоящего тореадора.
Один из таких смельчаков оступился и упал; на секунду нам показалось, что сейчас он взлетит вверх, как несчастный Лукас Бланко, когда-то на наших глазах поневоле ставший воздухоплавателем. Но в то мгновение, когда рога должны были вот-вот коснуться несчастного, быка коснулось копье и он тоже повалился на землю. Два или три раза преследуемые быки врезались в людскую стену, закрывавшую им одну из сторон арены, но с их приближением стена эта с громкими криками раздвигалась, пропуская быка, лошадь и всадника, а затем смыкалась за ними.
Только здесь я понял, сударыня, каким необычайным хладнокровием обладают люди, которые в двадцати испанских цирках по двадцать раз в году вступают в схватку с быками. Бык, по-видимому, это исконный враг испанца. Каким бы еще ребенком ни был испанец и из какой бы провинции ни происходил, он не спасается бегством от быка, а вместо этого раззадоривает его и дразнит. Когда молодой человек решает связать свою судьбу с цирком, то кем бы он ни собирался стать – пикадором, чуло или бандерильеро, – ему следует проявлять прекрасное знание повадок животного. С детства он изучает противника, с которым ему суждено однажды помериться силами. И то, что ему предстоит сделать на сцене перед зрителями, он уже двадцать раз проделывал за кулисами, если можно так выразиться. Фердинанд VII, обожавший корриду, основал в Севилье училище тавромахии. Презрение к быкам в Испании невероятно велико; я сам видел, как двое мальчишек подбежали к опрокинутому графом дель Агвила животному: один из них натянул хвост быка, а другой стал ходить по этому натянутому хвосту, как по канату.
После двухчасового спектакля у меня возникла уверенность, что любой из нас готов был бы схватить копье и стать пикадором, если бы не удерживавший нас страх, но не перед быком, а страх проявить неловкость в упражнении, к которому мы были непривычны. Примерно в три часа пополудни, сопровождаемые целой толпой, мы вернулись в город. Ловкость, с которой кучер графа дель Агвила управлял на узких и извилистых улицах Севильи своими семью мулами и каретой, совершенно невероятна.
Остаток дня прошел в прощальных визитах и приготовлениях к отъезду. Как я говорил, Монтеро и Нюжак уехали еще раньше нас; Путрель заболел и оставался в Севилье; Сен-При решил ехать с нами. Накануне у него произошло неприятное объяснение с его незнакомкой, и он надеялся, что эта короткая отлучка сделает ее более сговорчивой.
Вечером давали большое танцевальное представление, имевшее целью в последний раз воздать нам честь: импресарио не ошибся в расчете – зал был полон. Я пошел за кулисы, чтобы попрощаться с Пьетрой, Анитой и Кармен. На этот раз я воздержался от целования ручек, поскольку раньше это привело к недоразумению, однако теперь мы стали добрыми друзьями и девушки сами подставили мне свои щечки. Кармен, пока я ее целовал, шепотом спросила, не смогу ли я устроить ей ангажемент во Франции.
К сожалению, эта бедная девочка, танцевавшая в театре не более полугода, была наименее искусной из всей троицы. Я поинтересовался, сколько времени ей нужно, чтобы стать соперницей для двух ее подруг; она ответила вполне чистосердечно: «Не менее года, да и то если я смогу платить преподавателю». Я перекинулся парой фраз с Бюиссоном, и было решено, что Кармен будет учиться в течение года.
Весь вечер я не столько смотрел представление, сколько ходил из ложи в ложу прощаться. В течение восьмидесяти дней моего пребывания в городе я приобрел множество знакомых и общался с этим новым для меня кругом людей так, словно знал их двадцать лет и не должен был с ними никогда расставаться; но вот уже завтра связь между нами должна была порваться.
Это завтра наступило, как случается со всяким завтра на этом свете. В семь часов утра в гостинице появился Бю-иссон; он был теперь не просто моим знакомым, он стал мне другом, и потому его охватило сильное желание поступить, как Сен-При, – оставить Севилью и поехать вместе с нами в Кадис. К несчастью, нынешнюю коммерцию можно представить в виде античной Нецесситаты с железными клиньями в руках, и Бюиссон не мог освободиться от тисков своей торговли. И потому он ограничился тем, что проводил нас до набережной, а вернее до палубы «Стремительного», капитан которого был его хорошим знакомым, и Бюиссон мог не покидать нас до третьего звонка; но вот прозвучал последний звонок – надо было расставаться. Это была грустная минута. Разумеется, как это принято в таких случаях, мы давали друг другу расплывчатые обещания: «Я вернусь в Севилью!», «Я приеду во Францию!»; но как плохо веришь этим словам, таким искренним в ту минуту, когда их произносят, но в конце концов уносимым на крыльях ветра, который веет в той пропасти, какую разлука изо дня в день прокладывает между сердцами, а годы обращают в итоге в бездну. Надо было расставаться, и Бюиссону пришлось сойти по деревянному трапу, еще соединявшему корабль с берегом;
трап подняли, и ничто больше не удерживало нас в гостеприимной Севилье: нам оставалось только видеть ее. Под конец я еще раз поручил Бюиссону позаботиться об Александре.
Корабль поплыл, скользя между двух берегов с их апельсиновыми деревьями, увешанными золотыми плодами; но для нас весь пейзаж сосредоточился на одной точке: Бюиссон махал своим платком, и мы дружно отвечали ему тем же; однако еще минут через десять надо было уже что есть силы напрягать глаза, чтобы различить его среди других провожающих, с которыми он в конце концов слился. Уверен, сударыня, что в эту минуту у всех нас сжималось сердце, а в глазах стояли слезы. Тем не менее взгляды наши перешли с предметов, сделавшихся невидимыми, на предметы, остававшиеся видимыми, – с горожан на город. Мы плыли с быстротой, вполне оправдывающей наименование нашего судна. Есть что-то приятное в мягком, ровном движении парохода, особенно после рыси мулов и тряски мальпоста. К тому же погода стояла великолепная; солнце, излишний жар которого смягчался первым дыханием зимы, сияло у нас над головой; все кругом способствовало тому, что барометр нашего душевного и физического состояния, на короткое время сдвинутый к дождю горечью разлуки, пошел вверх.








