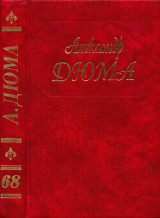
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц)
Хаэн – это огромный холм, лысый, словно львиная шкура. Сжигающее его солнце придало ему темно-коричневый оттенок, на фоне которого вырисовываются причудливые зигзаги старинных мавританских стен. Африканский город, воздвигнутый на вершине холма, мало-помалу спустился до самой равнины. Улицы начинаются у первых горных отрогов и после Байленских ворот поднимаются вверх.
Мы поспешили в гостиницу, откуда нам предстояло уехать лишь в полночь. Мои друзья решили воспользоваться этой передышкой и взобраться на самый верх холма. Что касается меня, то я предпочел остаться в гостинице. У меня было более интересное занятие – я писал Вам письмо. Когда мои спутники вернулись, они были охвачены тем страстным воодушевлением, какое присуще людям, желающим непременно внушить другим сожаление по поводу того, что тем не удалось созерцать увиденное ими. Они видели освещенную последними лучами солнца дивную местность, которую мы только что пересекли, и освещенный факелами огромный собор, который своей массивностью и высотой, казалось соперничал со стоявшим за ним холмом. В сокровищнице собора (по крайней мере, сударыня, в этом уверяли наших друзей его каноники) хранится подлинный платок святой Вероники, на котором вместе с потом Христа, совершавшего свой крестный путь, запечатлелся его лик.
В полночь мы тронулись в путь. По-видимому, время суток, когда разбойники выходят на промысел, зависит от того, в какой части Испании они орудуют. Как Вы помните, в Ла-Манче они бдили от полуночи до трех утра; в Андалусии от полуночи до трех утра бандиты спят. Впрочем, нам было обещано, что свирепые грабители появятся между Гранадой и Кордовой. Невозможно было указать место, где это произойдет, со всей определенностью, но нам должны были его уточнить, когда мы будем к нему приближаться. Я поклялся всем, что никакие соображения не помешают нам проучить их. Итак, мы уехали в полночь, и никому, ни мосо в желтых штанах, ни резвой горничной, не пришлось нас будить, так как мы и не ложились спать. Майорал обещал доставить нас в Гранаду к семи часам утра.
На следующий день, едва открыв глаза, мы стали настойчиво добиваться обещанной Гранады; ее еще не было видно, но на горизонте вырисовывались живописные зубцы Сьерра-Невады, к которой Гранада примыкает. Снега, покрывавшие эти зубцы, были восхитительных розовых тонов.
Мы все дальше и дальше продвигались в лоно африканской растительности: с обеих сторон дороги росли гигантские алоэ и чудовищные кактусы. Вдали, то в одном, то в другом месте равнины неожиданно возникали пальмы с неподвижными плюмажами, напоминая детей другой земли, забытых здесь древними завоевателями Андалусии. Наконец, появилась Гранада.
В отличие от всех испанских городов, Гранада как бы высылает навстречу путешественникам несколько своих домов. На дороге к ней, в одном льё от города-царицы, вы встречаете, будто пажей и придворных дам, идущих впереди своей повелительницы, множество построек, которые, кажется, саму равнину принимают за сады; затем эти дома попадаются все чаще, стоят все теснее друг к другу, становятся плотной массой; вы подходите к городским стенам – и вот вы в Гранаде.
Услышав красивое название «Гранада», сударыня, Вы уже выстроили в своем воображении средневековый город, пол у готический, полумавританский: его минареты устремлены к небу, его двери с восточными стрельчатыми арками и окна в форме трилистника распахиваются на улицы, затененные парчовыми балдахинами. Увы, сударыня! Повздыхайте над этим милым миражом и удовлетворитесь простой действительностью, ибо простая действительность тоже достаточно хороша.
Гранада – город с довольно низкими домами, узкими и извилистыми улицами; окна домов, прямые и почти всегда без орнаментов, закрыты балконами с железными решетками сложного плетения; и порой это плетение таково, что в просветы решетки едва можно просунуть кулак. Именно под эти балконы приходят по вечерам вздыхать влюбленные гранадцы, а с высоты этих балконов прекрасные андалуски слушают серенады; да, да, сударыня, Вы не ошибаетесь, мы в центре Андалусии, родины Альмавивы и Розины, и здесь все то же, что было во времена Фигаро и Сюзанны.
Жиро и Дебароль взяли на себя ответственность за наше размещение. Ни тот ни другой уже и не мечтали вновь вернуться в Гранаду и потому радостными возгласами приветствовали каждый дом. Я начинаю думать, сударыня, что самое большее счастье – это не просто увидеть Гранаду, а увидеть ее снова. В итоге Жиро и Дебароль отвели нас к г-ну Пепино, своему прежнему хозяину. Это они так его прозвали. Не спрашивайте почему: не знаю. Он живет на Калле дель Силенсьо. С такими друзьями, как наши, эта улица Тишины весьма рискует сменить свое название.
Метр Пепино содержит una casa de pupilos[34] – что-то напоминающее определенного рода гостиницы вблизи Сорбонны, в которых нашим студентам дают стол и кров. Не знаю еще, что представляют собой pupilos[35] нашего хозяина. Если однажды я это узнаю, сударыня, то буду иметь честь поделиться с Вами полученными сведениями. Войдя в дом, мы поинтересовались ваннами. Метр Пепино смотрел на нас с изумлением и повторял «Banos! Banosi»[36]тоном человека, совершенно не понимающего того, что ему говорят. Дальше в своей бестактности мы не пошли.
И мы приступили к вселению, раз ни к чему другому приступить было невозможно. Метр Пепино переселил трех или четырех пансионеров, и нам предоставили их cuartos[37]. Благодаря этим передвижениям в моем полном распоряжении оказалась милая небольшая комнатка, где я сейчас сижу и пишу Вам. Наши друзья, насколько мне известно, устроены примерно также. Надо Вам сказать, сударыня, что наш приезд в Гранаду не был неожиданностью для ее жителей. Думаю, что их предупредил письмом г-н Монье. В итоге через час после моего прибытия ко мне явилась депутация сотрудников газеты «Е1 Capricho»[38], застав меня за письмом к Вам; они мне принесли очаровательные стихи, напечатанные золотыми буквами на цветной бумаге. Я взял обычный лист белой бумаги, поскольку другой у меня не было, и написал в ответ на их любезность десятистишие – в Ваших глазах оно может иметь хотя бы то достоинство, что было написано без подготовки.
ГОСПОДАМ СОТРУДНИКАМ ГАЗЕТЫ «КАПРИЗ»
Из меда и любви Гранаду создал Бог.
Так почему Господь столь щедр к сестре Кастилий, Рассыпав свет и блеск под черные мантильи,
Тем самым обеднив небесный свой чертог?!
Альгамбру славили певец, герой, поэт;
Влюбленные в садах внимали серенаде.
Так почему Господь столь много дал Гранаде?!
Среди ее красот найду ли я ответ?
Наверное, когда ему наскучит Рай,
Бог предпочтет ему роскошный этот край.[39]
Должен сказать Вам, сударыня, что пока я только мельком видел Гранаду и совсем еще не видел Альгамбру. Однако я писал эти слова совершенно смело, заранее уверенный, что все это покажется мне чудом. Вместе с поэтами ко мне пришел и граф де Аумеда; он страстный охотник, и я показал ему весь наш арсенал: он изучает его и восхищается им, а я пока пишу Вам письмо. Господин де Аумеда показался мне очаровательным идальго, и я заранее убежден, что он из числа тех людей, о мимолетности встреч с которыми я всегда буду жалеть.
Позади поэтов и позади графа де Аумеда держался наш соотечественник, настолько «обыспанившийся», что я совершенно искренне посчитал его испанцем; он из числа одержимых путешественников; проезжая с дагеротипом в руках через Гранаду, он задержался здесь и вот, представьте, сударыня, уже два года живет в Гранаде и не может решиться ее покинуть. Цирцея удерживала силой своего колдовства, а Гранада удерживает лишь волшебством своей улыбки. Кутюрье – это имя нашего соотечественника – предложил нам себя в качестве чичероне. Мы согласились, и я сразу попросил его о первой услуге – проводить меня на почту, где через несколько минут я оставлю это письмо, которому поручено донести до Вас мое самое искреннее уважение. А затем, сударыня, нам предстоит осмотреть Хенералифе и Альгамбру!
XVIII
Гранада, 28 октября.
Получая послания с пометкой «Гранада», сударыня, Вы вполне можете считать, что у Вас сохранились сношения и установилась переписка с некой душой, продолжающей обитать в одном из уголков Неба, откуда Вы спустились к нам столь недавно, и что душа эта беседует с Вами о своей волшебной стране и о своих неземных впечатлениях. Гранада, более яркая, чем цветок, и более сочная, чем плод, имя которого она носит, похожа на склонную к праздности деву – со дня творения мира она нежится на солнце, раскинувшись на ложе из вереска и мха, сокрытая от посторонних глаз стеной кактусов и алоэ; вечерами она безмятежно засыпает под пение птиц, а по утрам пробуждается с улыбкой под журчание водопадов; Бог, возлюбив ее более всех ее сестер, даровал ей никогда не увядающий венец, способный вызвать зависть ангелов; венок, с которым ночью сливаются в таинственном и благоуханном союзе звезды небесного свода и который наполняется такими ароматами, что, когда дева, пробудившаяся от первых дуновений утреннего ветерка и первых лучей солнца, встряхивает головой, путники, идущие дорогами соседних Кастилий, останавливаются и спрашивают себя: откуда доносятся эти неведомые и неземные ароматы; но Гранада – женщина и, стало быть, кокетка. Обратите внимание, сударыня, что я склонен выступать с нападками на кокетство, представляющее собой дух красоты, не более чем на остроумие, представляющее собой кокетство ума, и, хотя нетронутой белизны легкое платье – это то украшение, каким мы с г-ном Планаром всегда будем восхищаться, я не отказываюсь от некоторого пристрастия к тем прелестным искусственным цветам, какими в определенное время года и в определенные годы жизни женщина вынуждена заменять натуральные цветы, которых ей недостает.
Итак, Гранада – кокетка, это вопрос решенный; и, невзирая на свою вошедшую в поговорку ленность, она время от времени поворачивается, принимая новое положение, так что утро часто застает ее совсем не в той позе, какую она приняла накануне вечером. Если Вы скажете, что Гранада научилась позировать таким образом, чтобы на нее могли взирать чужие глаза, – это будет серьезным обвинением, и я, ее друг, воздержусь брать на себя ответственность за него. Я твердо убежден, что и в наши дни любовь безгрешной испанки все еще отдана лишь природе и солнцу – ее матери и ее любовнику.
К несчастью, Гранада возлежит на холме, так что любопытные могут заметить ее издали, не будучи замеченными сами, и в одно прекрасное утро застигнуть ее врасплох, словно купающуюся Сусанну. А как бы ни была целомудренна женщина, обладающая склонностью к лени, она не может постоянно соблюдать стыдливость, поворачиваясь в постели; полагая себя в одиночестве, она обнажает руку чуть выше локтя и ногу чуть выше лодыжки; ее собранные волосы могут внезапно распуститься, и тогда, резким движением останавливая золотой или смоляной поток, обрушивающийся на ее плечи, она не заметит, что при этом разорвался краешек ее вуали и сквозь разрыв выставилась напоказ белоснежная округлая грудь. И кто помешает в такую минуту влюбленному, разумеется неведомому, но, тем не менее, присутствующему здесь, прильнуть взором к какой-нибудь нескромной щели в скалах или какому-нибудь просвету среди деревьев, а ведь этот влюбленный, все еще сомневаясь в красоте той, которую он столь жаждет, ожидает лишь такого неосмотрительного шага, чтобы убедиться в ее прелести, и такой убежденности, чтобы начать действовать. Увы, сударыня, именно это и произошло с Гранадой!
Несчастная девушка, с тем присущим целомудрию невежеством, какое усиливает опасность, подстерегающую девственниц, отдалась без стыда и зазрения совести всем капризам своего прихотливого и переменчивого сознания; однако это простодушное поведение на глазах у всех рано или поздно должно было привести к катастрофе, и андалусской Лукреции предстояло погибнуть, так же как и Лукреции римской, из-за того, что, по ее мнению, должно было ее защитить. По ту сторону Гранады было море, а по ту сторону моря обитали мавры. Во все времена мавры были самыми развратными людьми на свете, им всегда нужен был гарем, состоящий из городов, чтобы создавать гаремы, состоящие из женщин. Поднявшись на цыпочки, мавры увидели бедную Гранаду, которая, не зная, что ее разглядывают, занималась всем тем, чем может заниматься простодушная девушка, и внезапно их охватила страстная любовь к испанской девственнице. А мавры исполняют свои желания почти так же быстро, как те возникают, и в один прекрасный день, когда бедная девочка по своему обыкновению предавалась послеобеденному отдыху, они обрушились, словно стервятники, прилетевшие с Атласских гор, на несчастную голубку, дитя сьерры, и возвели стены, ощетинившиеся бастионами, вокруг целомудренного гнездышка, устланного мхом. Гранада кричала, плакала, защищалась, хотела умереть; но всякое противодействие людям, столь опытным в делах любви, как злодеи-сарацины, было всего лишь упорным сопротивлением; будучи любовниками рассудительными, а соблазнителями изобретательными, они ничего не требовали у своей новой любовницы, предварительно не сковав ее по рукам и ногам каким-нибудь великолепным подарком. И потому они тотчас принялись изготавливать две драгоценности, именуемые Альгамбра и Хенералифе. При виде этого великолепного дара Гранада поступила так же, как и всякая женщина: она склонила голову; но, когда она склонила голову, взгляд ее упал на Хениль. Случайно в то время года Хе-ниль был полон воды. Гранада увидела себя с этими новыми украшениями и зарделась: от стыда – говорят одни, поскольку в своем позоре бедняжка могла украшать свой лоб лишь для того, чтобы скрыть грязь на нем; от удовольствия – говорят другие, ибо при ее известном нам кокетстве она должна была забыть об угрызениях совести в ту минуту, когда столь чудесный венец вознес ее над всеми соперницами.
Как бы то ни было, устав от борьбы, она снова возлегла на своих подушках, несколько менее целомудренная, но несколько более красивая, чем прежде. И, не слывя моралистами, мы можем сказать сегодня лишь одно: как и многих других, бесчестье ее восхитительно красит и нас, явившихся к ней не столько из-за ее целомудрия, сколько из-за ее позора, не постигло разочарование. В самом деле, Вы знаете, сударыня, что испанцы, то ли из ревности, то ли из скупости, отвоевав Гранаду, мало что для нее сделали, и ее самые красивые драгоценности, самые богатые украшения доныне еще те, что бедной девочке подарили мавры, то есть ее любовники. Однако, как Вам известно, всякое безмерное счастье предваряется радостями: так в день вступают после рассвета, а в ночь – после сумерек. И потому нужно, чтобы, прежде чем посетить вместе со мной Альгамбру и Хенералифе, Вы проделали бы тот же путь, что и я. Не беспокойтесь, сударыня, дорога великолепная, и если Вы сочтете ее слишком долгой, это будет исключительно моей виной.
На этой дороге мы обнаружили, помимо прочего, небольшой дом, именуемый Кармен де лос Сьете Суэлос. В Испании все знатное или выглядит таковым – и люди, и дома. Кармен де лос Сьете Суэлос – одно из самых очаровательных звеньев в бесконечной цепи чудес, ведущих к Альгамбре. И в то же время Кармен де лос Сьете Суэлос со своим благозвучным именем – всего лишь трактир, сударыня! Увы, да! Обычный трактир; но я испытываю к нему чувство такой благодарности, что не могу не рассказать об этом Вам: зная, сколь Вы артистичны по натуре, я рисковал бы, утаив от Вас его описание.
Представьте себе, что, выйдя из ворот Гранады, то есть отшагав минут десять под раскаленным докрасна, словно лист железа, небом и огненным солнцем, Вы видите вдруг, как перед Вами встает, будто по волшебству, широкая, тенистая, уходящая вдаль аллея. Растущие по обе ее стороны деревья смыкаются над головами прохожих, сплетая свои ветви, как друзья, протягивающие друг другу руки.
Нет больше обжигающего солнца, и только языки света, рассеянного листвой, мягко озаряют дорогу, ничуть не лишая ее прохлады, и окрашивают предметы и людей в те теплые и живые тона, какие я не видел до сих пор нигде, кроме Испании.
Повсюду в этой аллее цветы, чей запах может свести с ума самого благоразумного человека, и птицы, чье пение способно внушить веру безбожнику. Длина аллеи – пятьсот-шестьсот шагов. В конце ее снова вспыхивает со всей своей яростной силой солнце, заливая светом небольшой белый дом, перед которым течет ручей; вдоль стены дома тянется увитый виноградными лозами навес, в тени которого почти всегда пять или шесть гранадцев, ленивых, хвала Господу, как их мать Гранада, впитывают тепло, ароматы и пение, возвращая взамен природе, подарившей им этот вечный праздник, вечный дым своих сигарилл. В Испании, как во Франции, и даже сильнее, чем во Франции, сударыня, дым сигар – это пар из перегонного куба по имени «человек», где все природные вещества перерабатываются и видоизменяются.
Если Вы проследуете до конца этой аллеи, сударыня, то придете в Хенералифе; если Вы остановитесь около трактира Кармен де л ос Сьете Суэлос, а затем, бросив взгляд на этот сияющий дом, сразу свернете налево и все время будете подниматься вверх, то придете в Альгамбру. Мы направлялись вначале в Хенералифе, но, подойдя к углу, где сходились две аллеи, услышали звуки, доносившиеся из только что упомянутого мною трактира; кто-то весело распевал под аккомпанемент кастаньет, светило солнце, и мы неожиданно для себя остановились, чтобы посмотреть на этот дом, сияющий белизной, на фоне которой изящной тенью колыхались подвижные силуэты листьев, покачиваемых горным ветерком. Особенно странный вид придавала дому длинная связка красного перца, висевшая возле одного из окон и делавшая его похожим на фантазию Декана. В сад поднимаешься по трем ступенькам и сразу оказываешься под зеленым навесом; листву его питает одна-единственная лоза, которая взбирается вверх, извиваясь вокруг ствола смоковницы, словно змея, обвивающая его своими кольцами, а затем прихотливо стелется по деревянной решетке, сделанной по заказу хозяина дома для того, чтобы веселиться под ней в любое время. Под навесом стояло несколько столов, напоминающих те, что можно увидеть в Монморанси и Сен-Клу: другими словами, они были составлены из четырех тонких корявых стволов, вбитых в землю, и двух досок, прибитых к ним гвоздями и покрытых чересчур короткой скатертью.
За одним из этих столов, с которого, вероятно из осторожности, сочли необходимым снять скатерть, сидели за вином два цыгана, два настоящих цыгана, сударыня, ручаюсь Вам; остальные же три или четыре стола, объединенные в один, являли собой одно из самых приятных зрелищ, которые когда-либо мог увидеть и оценить человек с разыгравшимся аппетитом.
Там стояло столько приборов, сколько было нас; тарелки с изображениями захвата Арколе, смерти Виргинии и любовной страсти юной Адели были по кругу, словно звезды, расставлены на столе, образуя заманчивый зодиак; вино, похожее на расплавленный топаз, сверкало в прозрачных графинах, и, наконец, закуски и маринады, один вид которых превращал аппетит в свирепый голод, сверкали в зыбких лучах солнца, пробивавшихся сквозь листву винограда. Все взгляды устремились на Кутюрье. Он признался, что это был сюрприз, приготовленный им для нас. Поскольку мы уже признавались Вам в нашем гурманстве, сударыня, Вы можете сами судить, какими благодарными улыбками заплатили мы ему за подобное внимание.
В самом деле, будучи человеком рассудительным, Ку-тюр&е подумал, что осмотр Хенералифе и Альгамбры займет у нас часть дня, и, зная, что там уже нет их щедрых хозяев, которые могли бы оказать нам свое гостеприимство, не захотел водить нас голодными по восхитительным садам и волшебным дворцам, поскольку из-за испытываемого нами чувства голода – настолько слаб несчастный смертный, как говорил господин аббат Делиль, – они могли лишиться в наших глазах всякой ценности. Деба-роль был вне себя от радости – его дорогая Испания предстала, наконец, перед нами во всем блеске. Александр, чей желудок всегда откликается эхом на сильные эмоции, сел за стол; Жиро и Буланже молча схватились за карандаши, которые они вытащили, едва увидев этот прелестный трактир; Маке объявил нам, что уже одиннадцать часов; а я засучил рукава и, как всегда недоверчивый, отправился на кухню взглянуть, что нам подадут на этих расписных тарелках.
Так вот, сударыня, я был поражен представшей передо мной трогательной картиной, напоминавшей, за исключением некоторых подробностей, времена древних патриархов. В зале, предшествующей кухне и наполненной ароматом жарящихся отбивных котлет, хозяин дома степенно танцевал со своей служанкой, такой же степенной, как и он, народный фанданго, то есть самый простой и самый пристойный вариант этого танца; под сводами зала всюду виднелись великолепные гранаты, подвешенные на бечевках к потолку и предназначенные для того, чтобы их употребили зимой, если только можно говорить о том, что зима когда-нибудь приходит в Гранаду Огромный камин, в котором на огне варился пучеро, служил украшением этого зала и символом гостеприимства; возле огня сидела хозяйка дома и, укачивая спавшего на ее груди маленького андалусского ангелочка, с улыбкой на устах смотрела, как ее муж танцует со служанкой. Ритмичное щелканье кастаньет сопровождало эту сцену, а солнечные лучи, дерзко врываясь в дверной проем, пронизывали светом танцующую пару и, проникая вглубь, заставляли мигать великолепную белую кошку, предававшуюся безмятежному сну.
Как Вы понимаете, при моем появлении танец прервался, но по моему жесту, присоединить к которому подходящее восклицание не позволило мне незнание испанского языка, он тотчас возобновился. Мои друзья, предупрежденные мною кивком, приблизились, в свою очередь, и замерли на какое-то время, подобно мне, созерцая эту семейную сцену, настолько обычную в этих краях, что нужно быть иностранцем, чтобы проявить к ней внимание.
Наконец, смутившись, служанка первая, смеясь и одновременно заливаясь краской, прервала танец, а ее хозяин, оставшись один, поприветствовал нас, снимая кастаньеты и удивляясь, что мы, по-видимому, получаем удовольствие от того, что ему представлялось естественным занятием всякого разумного существа.
Кутюрье смотрел на нас, бормоча нечто вроде «Ну?», означавшее: «Вы не ожидали такого, да?»; потом, поскольку служанка воспользовалась перерывом в танце, чтобы принести отбивные, он повел нас к столу, произнеся «Пойдемте!» не менее выразительно, чем «Ну?».
До чего же дивный был завтрак в Кармен де лос Сьете Суэлос! Не говоря уж о солнце, запросто расположившемся за нашим столом, и о легком ветерке, овевавшем солнце! Сидевшие рядом с нами цыгане, получив бутылку того же самого золотистого вина, что заполняло наши графины, составили о нас чрезвычайно высокое мнение и в благодарность за этот дар сопровождали всю нашу трапезу песней – мелодичной и монотонной, как журчание ручейка, бежавшего в четырех шагах от нас.
Кутюрье – а на нем, в его положении почти что местного жителя, лежала обязанность придумывать развлечения для иностранцев, экскурсоводом которых он вызвался стать, – Кутюрье поинтересовался, не хотим ли мы по возвращении из Хенералифе и Альгамбры посмотреть танец цыган. Как Вы понимаете, сударыня, предложение было встречено дружным «ура». После этого Кутюрье подошел к цыганам, которые тотчас перестали петь и перебирать струны гитар и начали слушать то, что им говорил наш чичероне.
Мы ждали окончания переговоров, прошедших столь же успешно, как если бы им противилось английское посольство; было решено, что в этот же день, в два часа пополудни, отец, а также его сын и две дочери, облаченные в свои самые нарядные баскские юбки, явятся в трактир Кармен де лос Сьете Суэлос и устроят по нашей просьбе танцы. Нам же предстояло тем временем ознакомиться с Хенералифе и Альгамброй. Вы видите, сударыня, что даже у Тита, притязавшего на роль очень занятого человека, день не был так заполнен, как у нас.
Поскольку мы вступили в мир сновидений, сударыня, Вы позволите мне, не так ли, на несколько мгновений предаться размышлениям. Ведь сновидение проносится так быстро, и потом я хочу, чтобы мой рассказ, точный во всех подробностях, не показался бы Вам неправдоподобным. Вот я говорил Вам, что здесь повсюду стоит прекрасная погода. Надо ли теперь говорить, что в Гранаде дивная погода? Да, потому что это даст мне возможность подчеркнуть, что в Гранаде по-особому прекрасная погода. Небо здесь совсем не такое, как везде; в воздухе стоит дымка, приглушающая краски и смягчающая тона горизонта до такой степени, что глаз будто отдыхает на океанах бархата; именно это поражало нас, особенно когда мы оказались под зеленым покровом смоковниц и платанов, который привел нас, как я уже говорил, к трактиру Кармен де лос Сьете Суэлос.
Выходя из трактира, мы устремили последний взгляд под тенистый свод, чтобы еще раз насладиться фантастической игрой света, составляющей неведомое, неосязаемое, непреодолимое очарование Испании. Затем мы отправились в путь и, преодолев пылающее огнем пространство, подошли к перекрестку, на краю которого стоял небольшой белый дом, а в середине темным квадратом вырисовывались распахнутые ворота. Можно было вообразить, что мы находимся на какой-нибудь нормандской ферме: куры на куче навоза, тележки с торчащими вверх ручками, лениво разлегшиеся собаки с положенной между лап головой; наконец, справа, под низкими виноградными лозами, трудились улыбающиеся женщины, и тут же мальчуган, весь перепачканный, как настоящий эги-пан, одетый в сероватый плащ с широкими рукавами, обрывал черный виноград всеми десятью толстыми коричневыми пальчиками.
Спешу заметить, сударыня, что эти ворота, нисколько не похожие на вход в мавританские замки, – граница Хе-нералифе, а точнее, его угодий; что женщины – это сторожихи и что ребенок обрывал виноград с тех самых лоз, корни которых переплелись с корнями кипарисов, дававших приют Боабдилу. Еще несколько шагов – и мы вошли в плавную въездную аллею, которая незаметно поднималась к дворцу, раскрывая по пути все красоты растительного мира и разворачивая мало-помалу все перспективы, словно постепенно приучая глаз к тем чудесам, какие ему вскоре предстояло охватить целиком.
Эта аллея вполне могла бы походить на те, что встречаются в наших английских парках, если бы деревья здесь не достигали высоты ста пятидесяти футов; если бы небо не было темно-синим; если бы взгляд, с трудом проникающий сквозь зеленые заросли, не наталкивался бы на незнакомые растения, на кусты странной формы, на олеандры рядом с миртами; если бы осень и весна не смешивали бы здесь цветы и плоды; если бы ошеломленный путник, подняв голову вверх, не осознавал бы, что на голову ему сыплются рубиновые зерна из лопнувших от перезрелости гранатов; если бы он не вдыхал аромат цветов померанца, одновременно восхищаясь небрежной прелестью островка пальм, и если бы, наконец, не замечал, как на головокружительной высоте, на самой макушке кипариса, блестят, словно карбункулы и топазы, грозди белого муската, лоза которого гигантской змеей победоносно увенчала ее, сумев прижать свою голову к пахучей верхушке исполина, служащего ей опорой.
Вы никогда не вдыхали аромата фиалок более нежного, сударыня, чем у тех, что я собрал для Вас: они росли на краю дороги, под шиповником и густым лесным орешником; их бархатистое ложе притягивает руку; они устилают берега грохочущего ручья, изливающего свою ярость на любой камешек, брошенный на его пути; но ярость эта вызывает лишь благодарность к нему, ибо, когда она заканчивается, всегда остается клочок пены, своего рода маленькая радуга; и заметьте, сударыня, в этой роскошной природе все стихии помогают друг другу, содействуя единой высокой цели. Солнце дарит свой жар воде, превращая каждую ее каплю в алмаз, жемчуг или сапфир. Из земли сплошным ковром поднимаются вокруг каждого цветка трава и мох; и, наконец, воздух становится нежным лишь для того, чтобы позволить славкам и соловьям петь свои песни во всей их чистоте. Поверите ли Вы мне, сударыня, если я, относящийся ко всему такому без особого восторга, скажу Вам, что это восхождение к Хенера-лифе по описанной мною выше аллее останется для меня на всю жизнь одним из самых пленительных и самых упоительных переживаний.
Маке и Буланже шли по дороге молча, обмениваясь только взглядами, но внезапно они остановились перед гигантской лозой, обвивающейся вокруг кипариса, вершина которого терялась в небе. Какой-то человек трудился в двух шагах от этого места, а точнее говоря, делал вид, что трудится; верно истолковав желание двух моих друзей, которые встали на цыпочки, позаимствовав эту позу у лисицы из басни, он начал медленно, но уверенно карабкаться по закрученным ступеням, образованным кольцами этой огромной спирали, и сумел оторвать от стебля несколько кисточек бархатистого муската, нигде больше мною не виденного и созревавшего здесь в полной безопасности, так как ему некого бояться, кроме ос и птиц. Очевидно, этот человек был духом, посланным нам доброй феей, которая правила в этом волшебном замке. Ему было поручено довершить наслаждение, испытываемое нашими органами чувств: зрение, осязание, слух, обоняние – уже были удовлетворены; только вкусу оставалось принять участие в этом всеобъемлющем празднике.
После третьего поворота аллеи мы увидели Хенерали-фе, вернее, каменную коробку, в которую он запрятан, словно драгоценное украшение – в футляр. На этот раз путешественник снова окажется обманутым в своих предположениях: внешний вид. строения прост и безыскусен. Перед зданием – виноградная лоза, образующая широкий навес зелени и бросающая густую тень на низкую сводчатую дверь этого таинственного жилища. Прежде чем переступить порог этой двери, мы последний раз оглядываемся. Справа видимость ограничена. Взгляд упирается в массив деревьев, который уступами покрывает холм, нависающий над Хенералифе; зато слева, напротив опорной стены, – открытое пространство, распахнутое небо и во весь горизонт – двадцать льё равнины, прорезанной двумя сьеррами и двумя реками. На первом плане – дремлющая Гранада.
Боясь упустить из виду малейшую частицу этой сокровищницы, мы не стали торопить предстоящее нам удовольствие, ибо заметили на левой боковой стене сооружения своего рода наблюдательный пункт – длинную галерею, освещенную стрельчатыми арками. Раз такой наблюдательный пункт существовал, искать другую видовую площадку не имело смысла. Мавры были люди умные, и, если они решили, что видовая площадка должна быть здесь, значит, она именно здесь и должна быть. Поэтому мы открыли маленькую низкую дверь и вошли в Хенера-лифе.








