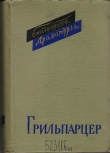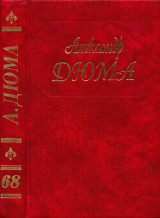
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц)
Надо признать, сударыня, что обед в Оканье служил извинением этому переходу. Нам был подан шафрановый суп, маленький кусочек вареной говядины и цыпленок, скончавшийся от легочной чахотки; справа от него стояло блюдо гарбансоса, о котором я уже имел честь Вам рассказывать, а слева – блюдо шпината, о котором я ничего рассказывать не буду. Обед завершался одним из тех невыносимых салатов, что плавают в воде – единственной улучшающей добавке к удушающему растительному маслу, которым, по моему мнению, салат заправляют с единственной целью – отпугивать от него травоядных животных. Когда все эти блюда исчезли из виду, как если бы они были съедобны, я повернулся к мосо.
«Нет ли еще чего-нибудь?» – спросил я на плохом испанском. «Nada, senores, nada!» – ответил он мне на чистом кастильском. Это означало: «Ничего больше, сударь, совершенно ничего!» – «А сколько стоит этот восхитительный обед?» – поинтересовался француз с улицы Сент-Аполлин. «Tres pesetas, senor![27]» – ответил Жокрис. В переводе на наш язык, сударыня, это означает три франка.
Я замечал, причем это относится ко всем странам, какие мне удалось посетить, что дороже всего приходится платить за обед, когда он скверный или даже когда он вовсе отсутствует.
«Черт побери! Я съел бы еще что-нибудь!» – сказал Александр, когда мы расплатились. «Господа! – вмешался француз с улицы Сент-Аполлин. – В купе дилижанса, в одном из моих дорожных мешков лежит утка, которую мой мадридский хозяин, человек, клянусь, дальновидный, положил мне в мешок, когда мы прощались». – «А у меня, господа, стоит корзина на империале дилижанса! – добавил я. – Эй, Жиро! Нечего тебе толкать меня ногой под столом! Итак, там корзина, а в ней…» – «Ну-ну, – промолвил Жиро. – Вот так решение! Корзина еще пригодится». – «… а в ней, – продолжал я, – гранадский окорок, две коробки нормандского сливочного масла, три бутылки растительного масла и бутылка уксуса, не говоря уж о колбасах, оливках и всякой другой снеди. Жиро, друг мой, ты главный хранитель провизии…» Жиро тяжело вздохнул. «Если тебе не хочется выполнять свои обязанности, я пошлю Дебароля». – «Ну уж нет! – воскликнул Жиро. – Я сам пойду! Черт подери! Я знаю Дебароля: он по рассеянности съест по дороге окорок!» Дебароль думал о чем-то другом и не стал опровергать это обвинение. «А я, – сказал пассажир с улицы Сент-Аполлин, – иду за уткой!»
Оба вышли и минуту спустя вернулись: один с уткой, другой с корзиной. «Ах! – воскликнули мы в едином порыве, увидев утку. – Так она поджарена на вертеле?!» – «На вертеле», – ответил владелец утки. А надо сказать Вам, сударыня, что вертел – орудие совершенно неизвестное в Испании. В словаре, конечно, есть обозначающее его слово «asador», но это не свидетельствует ни о чем, кроме как о великом богатстве испанского языка.
В Мадриде, взяв словарь в руки, я ходил по скобяным лавкам, но нигде не мог найти «asador». Три или четыре торговца, более просвещенные, чем остальные, знали значение этого слова. Один вспомнил, что, будучи в Бордо, он даже видел вертел. «Так у вашего мадридского хозяина есть вертел?» – поинтересовался я. «Нет, но у него есть шпага, настоящая толедская дага. Я заставил ее изменить своему первоначальному предназначению; не думаю, что это ее унизило». – «Да здравствует шпага! Да здравствует утка!»
Мы расправились с несчастной уткой за считанные секунды.
Наступила очередь Жиро предлагать свои запасы. Окорок, колбасы, сливочное масло, растительное масло и уксус – все то, ради чего Жиро так отважно рисковал жизнью в ночь катастрофы у Вилья-Мехора, – появились на столе перед глазами испуганного мосо в желтых штанах. Через какое-то время запасы провизии, существенно поредевшие, вернулись в корзину, а сама она вернулась под чехол. После этого нас подвели к тюфякам, которые должны были послужить нам постелями.
А теперь позвольте вполне серьезно сказать Вам, что в ту самую минуту, когда мы собирались залезть под простыни, с нами произошло то же, что случилось с несчастным г-ном Бонавантюром в пьесе «Неудобства дилижанса». Появился метр Жокрис и объявил: «Pronto!
Pronto, sen ores!»[28] – «Porque pronto?[29]» – с удивлением спрашивали мы. «Para la diligencia de Granada![30]»
Мы все посмотрели на Маке; Вы знаете, что он совмещал обязанности финансиста – эта должность была просто создана для него, – и часов; ему, как муэдзину, было поручено оповещать нас о времени. Догадавшись, чего мы ждем от него, Маке ответил: «Ба! Я только что смотрел на часы: всего только час ночи!» – «Mira! Una hora![31]» – пытался пояснить Дебароль. – «Una hora у media![32]», – отвечал жуткий мосо. – «Pronto! Pronto, senores!»
«Ну что ж, давайте вставать, – печально сказал я, – хоть на этот раз мы поспим спокойно: уж в дилижансе-то нас будить не будут». – «Черт возьми! А мне и вставать не надо, – донесся голос Жиро из другой комнаты, – я еще не ложился». – «И что же ты делал?» – «Я причесывался».
Следует заметить, сударыня, что у Жиро есть одна слабость – это его шевелюра. Он долго носил волосы, подстриженные бобриком, и в то время казалось, что он начисто лишен всякого тщеславия в отношении этого украшения своей головы. Однако после отъезда из Парижа он позволил своим волосам отрасти, и они воспользовались полученным разрешением настолько, что, глядя на них, невозможно было представить, будто к ним когда-либо прикасались ножницы. Столь быстрый рост волосяного покрова привел к тому, что у Жиро обнаружилось чувство самодовольства, никогда прежде мною не замеченное; он занимался своей прической час утром и час вечером, тратил кучу денег на покупку помады и крал все гребни, какие ему попадались.
Через десять минут все, даже самые медлительные, были на ногах; пример подавал я. Во время путешествия пунктуальность становится почти что добродетелью, и в похвалу себе могу сказать, что ужасное испанское «pronto» и неумолимое арабское «fissa»[33] никогда не заставали меня врасплох. И тут мы увидели, как появился Маке, бледный от ярости и негодования; его волосы, обычно откинутые назад, словно знаменитый жибюс Дебароля, на этот раз, словно живые, как говорила мать Гамлета своему сыну, стояли торчком на голове.
«Что случилось?» – трижды спрашивали мы, не получая ответа. «А то, – наконец ответил он, – что мулы не запряжены, дилижанс, словно Эндимион, спит посредине двора, освещенный лучами луны, ни майорал, ни сагал не вставали, и то, что нас подняли, – это шуточки проклятого негодяя Жокриса». – «Я отрежу ему уши!» – величественно объявил Дебароль, открывая свою наваху. «Отрежь, – поддержал его Жиро, – отрежь!» Дебароль рассчитывал, что мы бросимся удерживать его, но он ошибался. Побуждаемый требованием Жиро исполнить эту угрозу, он был вынужден выйти из комнаты.
Через десять минут он вернулся; наваха была спрятана в карман, и каких бы то ни было ушей в его руках мы не обнаружили. Он тщетно искал мосо по всему дому – резвый старикашка спрятался в каком-то вертепе, скрытом от глаз путешественников, и, вероятно, спал тем самым сном, который негодяи похищают у праведников. Дойдя до этого места, сударыня, я вынужден объяснить тактику испанских трактирных слуг – тактику, должен сказать, присущую не только мосо в желтых штанах.
Дело в том, что путешественники ложатся спать после ужина, в одиннадцать часов. Они должны отправиться в путь в три часа утра. Для того чтобы разбудить их без четверти три, заметьте, самому мосо, будь он в коротких штанах желтого цвета или какого-нибудь другого и даже в панталонах, надо подняться без двадцати пяти три. Вы согласны с этим, не так ли? А чтобы выполнять свои повседневные обязанности, лакей должен встать уже окончательно в пять часов утра. Поэтому он делает кое-что из работы, намеченной на следующий день, с одинадцати вечера до полуночи, в полночь будит пассажиров и, когда те встают, прячется в какой-нибудь укромной мансарде, где, возможно, его терзают угрызения совести, но постояльцы настичь не могут. Таким образом, ему остаются пять часов сна, плюс еще час, который он выкраивает за счет того, что часть утренней работы сделал с вечера: итого шесть. Находчиво, не правда ли!?
«Но ведь проклятия постояльцев должны его разбудить!» – возразите Вы мне. Ничего подобного, сударыня, напротив, ведь он еще не успел заснуть, и они его убаюкивают. К тому же, как очень толково объяснил Дебароль, по Испании путешествуют в основном немцы, англичане и французы; ругаются они, естественно, на своем родном языке, и мосо этих языков не понимает.
Не раздеваясь, мы кинулись кто на свои кровати, кто на стулья, а кто на циновки, доставшиеся сибаритам нашей компании. Без четверти три, падая от желания спать, мы сели в дилижанс и покинули постоялый двор в Оканье. Перед нашим отъездом служанка подала нам шоколад. Это утешение размером в один кубический миллиметр нас согрело, но нисколько не утешило. Наконец, как и прежде, восемь мулов помчали нас галопом.
Скорость, с какой мы неслись, могла бы вознаградить нас за ночные неприятности, если бы она не приносила с собой новые огорчения. В самом деле, быстрота, отрада путешественников, становится отрадой только на исправных дорогах. Чтобы доказать Вам, сударыня, что карета не может быть отрадой в Испании, я должен рассказать об испанских дорогах, о бороздящих их экипажах и о движении оных, как говаривали славный Жан Фруассар или наивный и остроумный Брантом.
В радиусе десяти – пятнадцати льё от Мадрида дороги, поспешим отдать им должное, можно считать проезжими, за исключением, конечно, тех дней, когда дожди размывают грунт, когда солнце вызывает трещины в земле и, наконец, когда дорожные рабочие занимаются их восстановлением.
Вы же видели, отдайте мне справедливость, сударыня, что, рассказывая Вам о нашей поездке в Аламеду, я не упоминал о состоянии дорог. Стало быть, оно хорошее, раз я о нем ничего не говорил. Как Вам известно, о хорошем не говорят. Но все дело в том, что в Аламеду мы ехали со скоростью большей, чем на почтовых, и на протяжении двух льё туда и двух льё обратно ни единый толчок, ни единая встряска не подвергали опасности наши драгоценные жизни.
А вот при выезде из Аранхуэса (между Мадридом и Аранхуэсом ровно десять французских льё), поскольку все прекрасно понимают, что ни у короля, ни у королевы никогда не возникнет мысль поехать дальше Аранхуэса, дорожные рабочие полагаются на снисходительность дорожного смотрителя. О сударыня, единственное, о чем я молю Господа в отношении дней моей старости – это возможность, уйдя на покой, сделаться испанским дорожным рабочим! Нет ничего интереснее, чем наблюдать, как мимо тебя проезжают путешествующие по Испании люди: кто в дилижансе, кто верхом на лошадях или мулах, кто пешком – все в разнообразных одеждах и с различными повадками. В минуты досуга, когда на дороге никого не видно, рабочий приносит, аккуратно собрав их на соседнем поле, и высыпает в рытвины строго ограниченное количество камней определенного размера, уложенных в небольшую камышовую корзину Я полагаю, что между рабочими заключено соглашение, по которому число этих камней не должно превышать дюжину, а размер их не должен быть больше яйца. В итоге, если яма, которую нужно заделать, вмещает сто корзин, содержащих по дюжине камней размером с яйцо, то, принося в день по десять таких корзин, яму удается заполнить ровно за десять дней. А поскольку в день по дороге проходят четыре кареты: две в одном направлении, две в обратном, – то за десять дней могут произойти сорок несчастных случаев.
Так вот, сударыня, благодаря большой скорости движения карета, наклонившись, не успевает перевернуться, и поэтому дорожное происшествие случается крайне редко. Однако дьявол при этом ничего не теряет, ведь те удары, какие получили бы пассажиры, если бы карета перевернулась, они получают, когда она выпрямляется: колесо наталкивается на другой край ямы, карета подскакивает, опускается, снова подскакивает – и так до тех пор, пока она не окажется на ровном грунте и на всех четырех колесах. Представляете состояние пассажиров, сударыня?
Как Вы понимаете, в ту минуту, когда карета наезжает на яму, заполненную на четверть, на половину или на три четверти, они дремлют, беседуют или вытягиваются в наиболее удобной позе, полагая себя в полной безопасности; мышцы у путешественников расслаблены, они более или менее отдыхают, расположившись на подушках, вялые, размягченные, убаюканные быстрым бегом – наслаждение, к которому и Вы, сударыня, по Вашему собственному признанию, не равнодушны. И вдруг – удар; люди, ружья, спальные мешки подпрыгивают к потолку, разлетаются, бьются друг об друга; потом, подскочив так еще три или четыре раза, все это снова опускается, но уже в большем количестве, чем всего этого было вначале. На каждое испанское льё приходится по десять таких ям, и, если кто-нибудь захочет оспаривать эти цифры, для убедительности приплюсуем сюда камни, еще не разбитые в щебенку молотами дорожных рабочих, русла рек, которые приходится преодолевать, и поваленные деревья, которые приходится объезжать, – и тогда, вместо десяти опасных мест на льё, насчитаем их тридцать.
Конечно, если бы майорал пускал упряжку всего лишь рысью, он мог бы избавить пассажиров от всех этих подскоков и толчков, но испанский форейтор имеет репутацию возницы, летящего во весь опор, и не желает ее терять; так что деревья бегут, дома взлетают, а горизонты несутся параллельно карете, как волшебные ленты; серые равнины сменяются голубыми горами; за голубыми горами открываются другие равнины: они ограничены белыми горами в великолепных бархатно-фиолетовых покровах, на которых снег рассыпал серебристые полосы, напоминающие те, какие королевский погребальный этикет требует наносить на траурные покрывала в Сен-Дени.
Проснулись мы среди безводных равнин сурового края Ла-Манча. Именно здесь, на этих зыбучих песках, Дон Кихот заставлял страдать несчастного Санчо, когда все четыре ноги его осла по колено погружались в эти подвижные раскаленные глубины, а творога, столь ценимого достойным оруженосцем, недоставало, чтобы подкрепить силы двух отважных искателей приключений! Я думаю о Дон Кихоте, сударыня; впрочем, я часто о нем думаю, потому что вчера утром мы пересекли Темблеке, ветряные мельницы которого, казалось, во второй раз бросали вызов возлюбленному прекрасной Дульсинеи; потому что позавтракать мы остановились на постоялом дворе Кесада, чье имя носит герой Сервантеса, и, наконец, потому что мы обедали в Пуэрто Лаписе, то есть в той самой знаменитой харчевне, где король странствующих рыцарей встретил двух прекрасных особ, которых он принял за дам, и которые, слава Богу, никоим образом ими не были.
Разумеется, мы посетили двор, где достойный паладин провел ночь в бдении над оружием и при этом проломил голову погонщику, пришедшему к колодцу за водой, чтобы напоить своих мулов. Честное слово, сударыня, мы могли бы повторить ошибки Дон Кихота, потому что трактир Пуэрто Лаписе по-прежнему изобилует красивыми девушками. Два очаровательных личика встретили нас улыбками, и это был лишь образчик того, что нас здесь ожидало. У хозяина одиннадцать дочерей. Поглощая вполне сносный завтрак, Жиро сделал набросок тех, что вышли нам навстречу первыми: их звали Конча и Долорес.
Пуэрто Лаписе – довольно живописное ущелье, расположенное между двумя горными цепями. Что касается постоялого двора Кесада, то это что-то вроде замка, самого что ни на есть испанского замка, почти совершенно разрушенного: две его угловые башни изъедены временем, а на главном жилом здании открывается лишь одна-единствен-ная дверь, похожая на печальный глаз и выходящая На передний двор, который засыпан навозом и ячменной соломой. На башнях – а точнее, на середине их, потому что время, изъев их стены, не пощадило и их кровлю – так вот, на середине башен еще сохранился ряд бойниц. О! Храбрый дон Кесада опасался нападений грабителей и мавров ничуть не больше, чем нынешние хозяева постоялого двора опасаются кристинос и карлистов, и, хотя сменились века, бойницы прошлых лет вполне стоят нынешних.
На постоялом дворе Кесада я насчитал всего два окна. Они указывают на расположение второго этажа. Еще три слуховых окна, разбросанных в живописном беспорядке, освещают нижний зал. Четвертое оконце открывается из маленькой комнатки, в которой, возможно, располагалась рыцарская библиотека, сожженная славным кюре: он проявил к ней не больше жалости, чем халиф Омар – к Александрийской библиотеке. Скажите, сударыня, верите ли Вы, что Дон Кихот существовал на самом деле, или согласны со всеми, что он вымышлен? Кто знает, сударыня? Многие мои персонажи тоже считаются плодом фантазии, а между тем они разговаривали, думали, жили, да и сейчас говорят, думают и живут, и, возможно, Сервантес был знаком с Дон Кихотом, как я – с Антони и Монте-Кристо.
Во время завтрака нам стало холодно, и мы вспомнили, что перед входом видели большую залитую солнцем площадку. Закончив завтракать, мы бросились к двери, решив выйти и погреться на этой площадке. Но сагал уже сидел в седле, а майорал – на своей доске, и нам ничего не оставалось, как подняться в дилижанс и уехать, что мы и сделали, послав прощальные приветствия одиннадцати дочерям нашего хозяина, и те приняли их с величавостью одиннадцати принцесс из «Тысячи и одной ночи».
По мере того как мы продвигались вперед, равнина становилась менее иссушенной и горизонт казался менее раскаленным. Ощущалось, что там, за горами, перед нами предстанет прекрасная и веселая Андалусия, с кастаньетами в руках и венком цветов на голове. Вскоре равнины действительно наполнились жизнью, и нам стало казаться, что местами они покрыты шелковистой тканью. Когда мы высовывались из окон кареты, разглядывая отсветы земли, они меняли свой цвет от опалового до сиреневого – самого нежного и самого гармоничного оттенка. Дело в том, что мы оказались в краю шафрана. Эти розовые озера были озерами цветов; эти озера цветов были богатством равнины и ее украшением; еще несколько поворотов колес – и мы въехали в чудесный маленький городок Мансанарес.
Какой же бьющей через край представляется жизнь обитателей Юга! Беспрестанные звуки песен! Вечные переборы гитар! Все нижние залы домов были заполнены юными девушками, которые выщипывали рыльца из цветков шафрана; кучи лепестков сиреневого цвета устилали пол, скапливались у стен и оттеняли яркие краски плеч работниц; на нежном фоне лепестков вырисовывались иссиня-черные волосы, огромные бархатные глаза, алые пылающие щечки и матовой белизны лбы.
Целый час мы любовались движением маленьких ручек, копошащихся в чашечках цветков. За это время мы входили в десять или двенадцать домов и каждый раз, едва наш переводчик Дебароль принимался произносить приветствия, начинался смех – сначала приглушенный, потом становящийся все громче; но в этом смехе не чувствовалось никакого недоброжелательства: это была всего лишь веселость юных девушек; и к тому же, как легко простить все смеющимся губкам, когда, смеясь, они показывают вам прелестные зубки!
К этому смеху добавлялись шутки, прибаутки, андалу-сады, как их называют в этом краю. Все это было вполне естественно, ведь мы – французы, то есть принадлежим к тому несчастному народу, который кажется испанцам самым смешным на свете. Испанцы всегда находят поводы, чтобы посмеяться над нами. Что поделаешь, сударыня! Это лишь доказывает, что мы менее насмешливы, чем испанцы, хотя все же это мы придумали водевиль! Манса-нарес предложил нам еще один вид зрелища – зрелище импровизации. Местопребыванием своим она избрала площадь города.
Импровизация явилась нам в облике несчастной слепой лет тридцати – тридцати пяти, которая обращалась со своими слушателями смелее, чем если бы она их видела, и щедро раздавала им цветистые комплименты. Она говорила то на испанском, то на латыни; не мне судить о ее испанском, но латынь ее, смею сказать, была безупречна. Мы потеряли, а вернее провели с пользой много времени, любуясь красивыми девушками Мансанареса. Майорал отыскал нас на площади в ту минуту, когда Жиро собирался начать ее зарисовывать, и потребовал, чтобы мы шли за ним.
Пришлось подчиниться; ничто не внушает такого уважения, как распоряжение майорала; к тому же импрови-заторша, латинские и кастильские стихи которой продолжали доноситься до нас, в какой-то степени смягчила нам горечь отъезда. Если Вы пожелаете увидеть очаровательный рисунок этой маленькой площади, сударыня, просите его не у Жиро, у которого не хватило времени его сделать, а у Доза, который ее зарисовал. Доза откроет Вам свои папки: воспользуйтесь этим и рассмотрите диковинки, привезенные им из различных путешествий по тем самым местам, какие мы сейчас пересекаем.
Прощайте, сударыня! Майорал объявил нам, что сегодня вечером мы останавливаемся на ночлег в Валь-де-Пеньясе. Тем лучше! Наконец-то, мы попробуем на его исконной территории знаменитое вино, название которого ласкает слух испанца.
XVII
Гранада, 27 октября.
Однако кое-что нас беспокоило: садясь в карету, мы узнали, что еще один дилижанс, направлявшийся в Севилью, едет впереди нас. Так же как и мы, находившиеся в нем путешественники должны были ужинать в Взль-де-Пень-ясе, а пифагорейская мудрость «Если есть для одного, хватит и для двоих» менее всего приложима к Испании. И это не были пустые слухи: нас в самом деле опережала карета, набитая пассажирами. И потому, прибыв в гостиницу, мы обнаружили, что столы там не столько заставлены снедью, сколько плотно окружены сотрепезниками.
Мы тотчас же рассредоточились по дому, что заставило нахмуриться дюжину гостей. Нам нужно было обследовать все заведение. Общий сбор после обследования был назначен в обеденной зале. Через десять минут все, за исключением Александра и Дебароля, явились туда. Я разыскал кухню и потолковал с главным поваром. Жиро разыскал горничную и договорился с ней о постелях. Буланже разыскал каштаны и набил ими карманы. Маке тем временем разыскал почту и выяснил, что в Валь-де-Пеньясе его ждало ничуть не больше писем, чем в Мадриде и Толедо.
Александр и Дебароль вскоре пришли. Случайно открыв какие-то двери, они обнаружили нечто гораздо привлекательнее всего того, что отыскали мы. Не буду Вам рассказывать, сударыня, что именно обнаружили Александр и Дебароль; Вам достаточно будет узнать, что два неосмотрительных молодых человека чуть было не явились нам превращенными в оленей, как Актеон… если бы время метаморфоз не ушло безвозвратно. Нам оставалось отыскать лишь место за столом.
Прибывшие ранее путешественники обрадовались при виде того, что мы собрались вместе, и, успокоенные теперь в отношении тех открытий, какие мы могли сделать, поспешили подвинуться и предложить нам место, которого мы домогались. Начался ужин. Разумеется, мы попросили валь-де-пеньяс. Первый, кто глотнул поданый нам омерзительной напиток, тут же выплюнул его под стол. «Ну как?» – повернулся я к Дебаролю.
Надо Вам сказать, сударыня, что в течение двух недель Дебароль вел разговоры о тех наслаждениях, какие нам было уготовано вкусить в краю, где мы сейчас находились. Дебароль покачал головой и подозвал мосо. Тот подошел.
«У вас есть вино лучше этого?» – спросил наш друг. «Разумеется!» – ответил мосо. «Тогда принесите его!» Мосо исчез и через несколько минут вернулся с двумя бутылками в руках. «Это лучшее из того, что у вас есть?» – продолжал допытываться Дебароль. «Да, сударь!»
Мы отведали этот второй вариант, и оказалось, что он еще хуже первого. На Жиро и Дебароля посыпались проклятия – обещанный нектар оказался хуже любой кислятины. «Пойдем! – произнес Жиро, вставая из-за стола. – Не будем здесь строить из себя господ. Мы обещали товарищам настоящий валь-де-пеньяс… Пойдем поищем, где он есть». «Пойдем!» – сказал Дебароль, в свою очередь поднявшись и взяв в руку карабин. Оба вышли.
Они вернулись спустя десять минут, неся за ручки огромный глиняный кувшин вместимостью в пять-шесть литров, доверху наполненный густым черным вином; его тотчас же разлили по стаканам. Мы попробовали. Это действительно был валь-де-пеньяс, с его терпким и возбуждающим вкусом. Жиро и Дебороль отыскали его в кабачке.
Я описываю эти подробности вовсе не для Вас, сударыня; Вы довольствуетесь – это известно всем Вашим знакомым – стаканом воды: едва касаясь его губами, Вы утоляете жажду и освежаетесь. Но письмам, которые я имею честь Вам писать, суждено быть опубликованными, и было бы правильно, чтобы менее бесплотные существа, чем Вы, знали, где искать знаменитый валь-де-пеньяс, неизвестный хозяевам тамошних постоялых дворов. Это густое терпкое вино, имеющее для настоящих пьяниц то преимущество, что оно никогда не утоляет жажды, естественно, пробудило в нас желание отыскать самые лучшие кровати и доверить им часов на пять наши тела, измученные тряской, которой подвергался на протяжении всего пути наш дилижанс и которая, естественно, досталась и нам. Но это входило в обязанности Жиро, поскольку именно он вел переговоры с горничной.
Эта горничная была четырнадцатилетней особой ростом с десятилетнюю французскую девочку. Ее роскошные черные волосы были заплетены с такой изящной небрежностью, а огонь ее темных глаз так умело отвечал на пылкие взгляды ее собеседников, что она с первого взгляда привлекала к себе внимание. Право же, этот ребенок заставлял нас смотреть на нее с большим любопытством, чем это могла бы сделать взрослая женщина, красивая или уродливая. В ней все – звучание голоса, улыбка, движения тела, – казалось, говорило: «Я женщина, восхищайтесь мной или любите меня, но главное – поглядите на меня!»
Мы ограничились тем, что всего лишь поглядели на это удивительное создание, которое указало отведенные нам комнаты и осведомилось, что нам нужно еще. Каждый открыл свой несессер и, попросив горячую или холодную воду, стал обмываться перед сном. То ли в ее наивности было дело, то ли в бесстыдстве, но наша мучача нисколько не была этим смущена. Выгибаясь и проскальзывая между нами, словно уж, она продолжала хлопотать, воспринимая и исполняя малейшие наши просьбы, выраженные словами или мимикой, удивительно ловко, точно и толково. Предполагая, что утром нам не удастся ее увидеть, мы дали ей две песеты и отпустили.
В полночь, как мы и предвидели, нас разбудил мосо. Нам стало понятно, что эта тактика известна всем трактирным слугам на юге Испании; но мы не приняли во внимание этот призыв и удовольствовались тем, что ответили, как ресторанные официанты: «Да, да! Уже идем!» Понятно, что, как и ресторанные официанты, мы никуда не собирались идти. Мы полагали, что карета – это мы, подобно тому, как Людовик XIV полагал, что государство – это он.
В три часа утра майорал пришел будить нас сам. Вслед за ним шла наша маленькая служанка.
«О сеньоры! – сказала она самым слезливым тоном, какой ей только удалось изобразить. – Хозяйка увидела, как я прячу две песеты, которые вы мне дали, и отобрала их; у меня ничего не осталось!» Говоря это, она строила глазки, умоляюще складывала ручки и играла прядью волос на смуглом плече. Мы не поверили ни единому слову из рассказанной ею истории, но, тем не менее, дали ей песету.
Бедная крошка! Если ради одной золотой монеты ты расточаешь столько улыбок, восхитительных подмигиваний и прикосновений твоих худеньких ручек, то наберешь ли ты много монет или же, скорее, раньше времени утратишь свою ласковую улыбку и магнетизм своих влажных глаз?
Мы уехали; через пару часов занялся рассвет, и, по мере того как светало, с первыми дуновениями ветра до нас стали доноситься самые сладостные запахи, какие нам приходилось когда-либо вдыхать. Они приходили из Сьерра-Морены, куда нам предстояло скоро въехать. Эту смесь ароматов испускали, насыщая ими утренний ветерок, олеандры, земляничные деревья с пурпурными плодами и смолистые кустарники, растущие на этих дивных горных хребтах в таком же изобилии, как трава на лугу.
Граница Андалусии обозначается колонной, называемой камнем Святой Вероники, вероятно из-за того, что на этом камне высечен лик Христа.
Во время одной из стычек между карлистами и кристи-нос колонна была изрешечена пулями, и чудесным образом ни одна из них не попала в лик Спасителя. Мы вышли из кареты в Деспенья-Перрос. Нет ничего более приятного и в то же время более печального, чем дорога, по которой мы следовали.
Как я Вам говорил, сударыня, повсюду там были мастиковые, миртовые и земляничные деревья, то есть цветы, плоды и ароматы. Но время от времени посреди этого огромного оазиса виднелся какой-нибудь жалкий дом, заброшенный со времен войны 1809 года, и его окна без рам смотрели на проходящих путников будто пустые глазницы мертвеца. С любопытством мы подходили к такому пустому и безмолвному остову и убеждались, что в отсутствие людей им завладели вяхири и лисы, хозяева, казалось бы, несовместимые, но на самом деле прекрасно уживающиеся: одни – на чердаке, другие – в подвале.
Не могу точно сказать Вам, сколько времени заняло у нас преодоление этого восхитительного горного хребта, считавшегося некогда опасным из-за действовавших там разбойников. Знаю только, что мы очень проголодались, пока добрались до Ла-Каролины, маленького городка, созданного как колония Карлом III, где, как уверял наш «Путеводитель по Испании», нам предстояло обнаружить речь, нравы и строгую опрятность Германии, откуда Карл III привлек первых своих колонистов.
Однако мы обнаружили там всего лишь дома с такими низкими дверями, что, переступая порог одного из них, Маке чуть не лишился жизни. К несчастью, за этой роковой дверью нас ожидало только несколько чашечек шоколада, за которые нам пришлось заплатить в шесть раз дороже, чем они того стоили. После Ла-Каролины на нашем пути появился крупный город Байлен, печально знаменитый капитуляцией генерала Дюпона. Тогда 17 000 французов сдались 40 000 испанцев. Оставим историкам обсуждение этого постыдного события – первого удара, нанесенного чистоте наполеоновской славы.
Замечу, сударыня, что некая испанская газета, не помню, какая именно, во время пребывания французских принцев в Мадриде с отменным тактом открыла на своих полосах подписку пожертвований на памятник победителю при Байлене. А поскольку у этого победителя уже есть большая лента Почетного легиона, то, как видите, он одновременно будет осыпан почестями и испанцами, и французами.
Вечером, в лучах заходящего солнца, мы подъехали к Хаэну – древней столице одноименного королевства.
Приближаясь к нему, мы в первый раз увидели Гвадалквивир, Вади-аль-Кабир, то есть «Большую реку». Некогда мавры, изумленные видом такого огромного количества воды, приветствовали реку этим восклицанием, которое их наследники переделали в «Гвадалквивир».