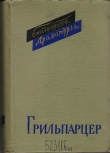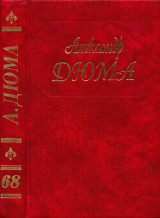
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 42 страниц)
Однако успех оправдывает все – эту истину мне часто приводили в литературных дискуссиях, и я вынужден применить ее, говоря о танцевальных навыках, неизвестных мне у Жиро, но надо сказать, подозреваемых мною у моего сына. Кадриль имела почти триумфальный успех, а двум дамам, чьи роли исполняли Буланже и Жиро, тем и вовсе с трудом удалось избежать намечавшейся овации. Едва танец закончился, хозяева, по-видимому отказавшиеся от сна и вознамерившиеся провести всю ночь, участвуя в этих импровизированных вакханалиях, предложили показать корриду, что было встречено бурей восторга. Один из них, тореро по роду занятий, вызвался играть роль быка, несомненно для того, чтобы хоть один раз возместить на других подлинные удары рогом, столько раз предназначавшиеся ему самому.
Он вошел в один из шалашей, символизирующий загон; мы разлеглись рядом со своими шалашами; даже те, кто с особой ленью растянулся вокруг костра, поднялись, и коррида началась. Все было, как положено: три пикадора, взобравшись на плечи своих мощных товарищей, охраняли левую сторону загона, а другие, с платками в руках, стояли справа. Один из тореадоров просигналил выход, проявив такой талант в имитации, что все вообразили, будто находятся в цирке, и в ту же минуту бык-человек кинулся на пикадоров; он опрокинул их за секунду, после чего они скатились в низину вместе со своими «лошадьми», и в течение нескольких минут там бесновалась беспорядочная куча людей и стоял неописуемый крик; когда «бык» остался один, повалив на землю всех своих противников, Жиро не смог удержаться и, взяв у Дебароля плащ, попытался дразнить им «быка»; это имело огромный успех у наших товарищей и завершило веселый разгул в горах, оставив окончательную победу за французами.
Был уже час ночи; заключительная игра исчерпала все силы, еще оставшиеся после целого дня охоты; возбуждение спало; Маке, Александр и Жиро отправились в доставшийся им шалаш; постели были приготовлены; последние сигары сменили последние безумства; костер стал гаснуть, и большинство наших загонщиков, закутавшись в свои накидки, уже спали; ослы и лошади разбрелись по зарослям вереска, и безмолвие просторов мало-помалу распространилось и на наше плато. Эрнандес и Парольдо приготовили для меня почти настоящую кровать; сами они отказались лечь в хижине, заявив, что предпочитают курить на свежем воздухе. Я особенно долго не настаивал, как потому, что решение их было твердым, так и потому, что меня начало охватывать непреодолимое желание спать.
Эрнандес и Парольдо устроились у костра, и еще с полчаса, провалившись в дремотное состояние, я слышал шепот их ночной беседы, примешивавшийся к шумному дыханию усталых охотников. В свою очередь я заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но разбудил меня какой-то непрерывный звук, раздававшийся среди жердей шалаша прямо над моей головой, словно кто-то проделывал дыру в его соломенной крыше. Я вышел из шалаша и увидел лошадь – проснувшись от голода, она спокойно поедала мое жилище. Я ее прогнал и осмотрелся по сторонам: Эрнандес и Парольдо заснули, как и все остальные; костер превратился в кучу золы, и луна, наконец-то появившаяся в безоблачном небе, озаряла серебристыми лучами дальние вершины сьерры и теми же лучами, но становящимися уже неясными и более таинственными, освещала глубины гор.
XXXIII
Кордова, 8.
В шесть часов мы были уже на ногах; наш туалет продолжался недолго: те, кто отличался деятельной натурой, спустились к небольшому источнику, ленивые же довольствовались водой, принесенной в мисках и кастрюлях. Быстро перекусив, мы отправились в путь. Во время завтрака на столе царило такое же обилие еды, как и за ужином накануне: мешки, бурдюки и бочонки казались неисчерпаемыми. Охота началась таким же образом, как и накануне, но нас продолжало преследовать вчерашнее невезение – я, например, за весь день видел всего одного кабана, причем вне пределов досягаемости моего ружья; однако, воздавая зверю должное, в утешение себе замечу, что по своим размерам он вполне мог сравниться с Калидонским вепрем.
Тем не менее, словно вознаграждая нас за подобное отсутствие охотничьих трофеев, природа выставляла нам напоказ свои бесконечные красоты: то это была долина со всеми своими перепадами тени и света и с узкими лощинами, в глубине которых сквозь голубоватую дымку просматривался участок равнины с живописной деревней или отдельно стоящим домом, прячущимся среди апельсиновых деревьев; то это была череда лугов, которые сливались в море зелени, покрытое гигантскими волнами и теряющееся в бесконечных далях – и все это временами казалось по виду таким безмолвным, величественным и безлюдным, как если бы на эти высоты никогда не смела ступать нога человека.
Весь день прошел для меня в восторженном созерцании череды этих картин, а для наших друзей-горцев – в упорно продолжавшейся охоте. Облава следовала за облавой, ярость сменяла душевный подъем; охотники пытались восстановить в наших глазах добрую славу своих гор; по их словам, в сьерре подобного невезения еще никогда не бывало.
К четырем часам мы вернулись в лагерь; в течение этого второго дня охоты были убиты волк, две дикие кошки и еще один кабан. Мы занялись кулинарными делами, важность которых осознавал каждый; поэтому в одну минуту был разожжен костер, и на его огне уже жарились ломти дичи, сворачивалась в кастрюле яичница-болтушка и готовились на сковороде печени оленя и кабана. Мы все намеревались сразу после ужина отправиться в путь, чтобы добраться до Кордовы к полуночи или в час ночи, но, по мере того как наполнялись наши желудки, нашими телами стала мало-помалу овладевать та сладостная истома, какая сопутствует пищеварению; ужин длился дольше, чем мы предполагали, а луна, которая, как мы надеялись, будет освещать нам путь, позволяя преодолевать все опасные участки, то и дело встречающиеся на дороге, взошла в туманном кольце, что грозило нам лишиться всякого света через час или два. В конце концов было решено, что мы проведем еще одну ночь в лагере, с тем чтобы на рассвете, за два часа до восхода солнца, двинуться в сторону Кордовы.
Такое решение не позволило развернуться празднеству, подобному тому, что было накануне, да и усталость брала свое; ее голос, словно крики рабов во время античных триумфов, внушал нам: «Помни, что ты смертен!» Каждый получше завернулся в плащ, бурнус или накидку; особое внимание было уделено тому, чтобы Жиро и Деба-роль, которых я письменно обязался возвратить в целости и сохранности в лоно их семей, не ложились спать под открытым небом, как они это сделали накануне. Был разожжен огромный костер, вокруг которого улеглись загонщики; слышались призывные крики наших ослов и мулов; Поль подсчитывал серебряные приборы; наконец, все погрузилось в сон. В три часа, как и было условлено, нас разбудили.
За ночь наши друзья приняли новое решение. Равес и с ним самые азартные охотники, стыдясь скудного итога охоты, решили задержаться еще на день; к сожалению, они объявили нам об этом в те минуты, когда мы заканчивали выдавливать вино из последнего бурдюка и обгладывать последнюю индюшачью тушку, так что мы оставили им только хлебные корки и воду из источника – вот и все; к счастью, истинные охотники не бывают слишком требовательны.
Мы попрощались с нашими хозяевами, проявившими в эту ночь по отношению к нам такую же заботу и внимание, как и в первую ночь. Я отвернулся, чтобы поискать в своем кошельке две-три унции и вручить затем их загонщикам, но Парольдо, заметив мой жест, взял меня за руку. «Что вы делаете?» – спросил он. «Вы же сами видите!» – «Вижу, именно поэтому и спрашиваю!» – «Разве в Испании не принято платить загонщикам?» – «Не этим, во всяком случае. Вы встретите отказ и испортите всем этим молодцам удовольствие, которое они получили, принимая вас. Протяните им руку, если вы не сочтете себя этим униженным, но руку пустую!»
Я положил унции обратно в карман и попросил Парольдо быть моим переводчиком при объяснении с хозяевами. Они с должной настойчивостью убеждали нас присоединиться к Равесу и другим охотникам, однако, в ответ на мои объяснения, что мы должны уже на следующий день ехать в Севилью, раскланялись с нами в знак сожаления. Помимо всего прочего, Александр со своей стороны непременно хотел вернуться в Кордову и привел кучу доводов, убеждая меня, что нам необходимо попасть туда до восьми утра. Я всегда с уважением отношусь к доводам Александра, но вовсе не к тем, какие он мне предъявляет, а к тем, какие он от меня утаивает. И потому, оставаясь в убеждении, что его призывает в Кордову какой-то неизвестный мне интерес, я дал сигнал к отъезду.
Не буду говорить с намерением растрогать Вас, сударыня, что мы расставались с нашими новыми друзьями, обливаясь слезами; нет, до этого дело не дошло, но прощание действительно оказалось довольно грустным. Было совершенно очевидно, что никогда в жизни мы больше не увидимся с горцами, с таким радушием принимавшими нас в эти два дня. Нет ничего печальнее, чем говорить себе: «Вот люди, с которыми я прожил два дня так, словно нам предстояло быть вместе годы и годы; мы сообща охотились, ели, спали; через несколько минут мы расстанемся и за первым поворотом дороги потеряем их из виду навсегда и никогда больше не встретимся с ними!»
Что-то подобное, по-видимому, хотя, вероятно, менее определенное, происходило и в душах наших хозяев, ибо, когда мы в окружении двух сопровождающих начали спускаться с высокого пригорка, где располагался наш лагерь, они вытащили из костра пылающие сучья и подняли их над головами, чтобы как можно дольше видеть нас в темноте.
Через десять минут мы потеряли из виду факелы, и тогда наступил миг, о котором я только что Вам говорил, сударыня: вечность навсегда разделила нас с минутными друзьями. И все же на протяжении этой вечности, а вернее, на протяжении того мига, каким мыслящий атом, гордо именуемый мною словом «Я», отметит свое место в вечности, эта поездка в Сьерра-Морену останется в моей памяти. Приезжайте в Кордову, господа академики, господа депутаты, господа пэры Франции, приезжайте в Кордову, господа государственные советники, господа управляющие делами, господа министры; приезжайте и попытайтесь предъявить свои визитные карточки в этих лачугах из срезанных ветвей, где нас так радушно принимали; попытайтесь – и увидите, как вас там встретят, ваши величества политики!
Мы шли около двух часов до того как забрезжил рассвет, и я не могу вспомнить что-либо столь же величественное и строгое, как этот ночной переход через горы; мы были похожи на один из тех столь превосходно описанных Купером караванов, какие безмолвно шествуют в ночи и явно опасаются, что какой-нибудь еле слышный звук разбудит краснокожих. Наконец, несколько красноватых отблесков мелькнуло сквозь деревья; мы достигли первых вершин, преодоленных нами по пути на охоту; с высоты этих пиков уже можно было различить сначала горы, встающие на горизонте, потом равнину, затем Гвадалквивир и, наконец, Кордову. Вскоре по левую руку от нас потянулась пропасть, которую за три дня до этого мы видели по правую руку от себя; мы снова проехали рядом с крестами, еще раз прочитали надписи на них; в восемь часов утра за спиной у нас оказались последние склоны сьерры, а в девять часов мы въехали в Кордову. Скачки с препятствиями, устроенные нами на ослах и выигранные Буланже, ознаменовали наше прибытие к воротам Кордовы. Во время этих скачек Жиро сильно рассмешил кордовцев зрелищем своего падения.
День прошел в беготне по городу и последних приготовлениях к отъезду; сразу после нашего возвращения Александр переоделся и исчез, поручив уложить свои сундуки Росному Ладану, исполненному гордости и ^прекращающегося изумления в связи с тем, что ему удалось привезти в целости и сохранности наше столовое серебро. Это непоколебимое доверие к Росному Ладану в итоге обернулось для Александра потерей панталон, жилета и двух или трех выходных рубашек. Я убежден, что нашу дорогу от Байонны до Туниса можно отыскать, идя по следу наших пожитков, подобно тому как Мальчик с пальчик находил путь по своим разбросанным камешкам. При отъезде у нас возникла одна сложность: дело в том, что все кареты, следующие из Кордовы в Севилью, – проходящие и заранее нельзя быть уверенным в том, что в них окажутся свободные места. А так как нас было семеро, считая Росного Ладана, то, как ни мало заполнены обычно испанские кареты, было бы чересчур наивной иллюзией надеяться уехать всем вместе в одном экипаже.
На всякий случай мы заказали для себя все свободные места в дилижансе и в мальпосте, прибывающих на следующий день. Наш въезд в Кордову, если и произвел какое-нибудь впечатление, то лишь устроенными нами скачками и падением Жиро; нас не ждали и, хотя наш отъезд в сьерру весьма возбудил все население, наше возвращение прошло почти незамеченным; однако, вернувшись, мы оповестили всех, что вечером прибудут наши товарищи, оставшиеся в горах, а потому в пять часов, в назначенное для их возвращения время, мы увидели, что ворота города буквально запружены толпами народа. После получасового ожидания, когда сумерки уже начали сгущаться, послышались два-три выстрела, прогремевшие в четверти льё от города. Это наши охотники возвещали о своем прибытии.
Выстрелы были встречены громкими криками; город был на посту. Рожки трубили.
Охота в сьерре происходит не так уж часто и всегда вызывает в городе большое волнение. «Что вы там видели? Что вы делали? Кого подстрелили?» – эти вопросы у всех на устах; Сьерра-Морена для большинства обитателей Кордовы почти такая же неведомая земля, какой была Америка для жителей Бургоса, Севильи и Вальядолида в 1491 году. Наконец, ружейные выстрелы стали раздаваться ближе, появились первые охотники; они составляли авангард и все время стреляли, прерываясь только для того, чтобы перезарядить ружья. Между ними и теми, кто оставался в арьергарде, шли четыре осла, нагруженные дичью; их вели пешие охотники, трубившие в рога. Добыча состояла из двух оленей, лани, двух кабанов и двух диких кошек размером с небольшого тигра. Те части кабанов и оленей, откуда мы уже вырезали куски, были прикрыты листьями.
Охотники арьергарда производили своими эскопетами пальбу не менее плотную, чем охотники в авангарде. Городские мальчишки приветствовали охотников восторженными возгласами, почти такими же оглушительными, как непрерывные выстрелы охотников. Весь караван и сопровождавшая его толпа вытянулись змеей, чтобы пройти ворота, словно это была плющильная машина; затем, будто найдя щель, змея эта вползла под свод и тут же показалась по другую сторону ворот, на улице, почти такой же узкой, как они сами. На улице выстрелы смолкли, но народу стало еще больше.
Встреча была назначена в гостинице «Почтовая». Оказывая гостям честь, нам предложили лучшие куски дичи. К сожалению, мы назначили отъезд на следующий день и сами воспользоваться этими дарами не могли. Мы удовольствовались тем, что велели разрубить туши кабанов и отослали четыре лопатки и филе в те четыре или пять домов, где нас принимали. Заказанный нами ужин оказался очень кстати, так как несчастные охотники умирали с голоду – не зная заранее об их намерении продлить свое пребывание в горах, мы накануне съели и выпили все, так что весь день они питались только корками хлеба, смоченными в воде. К концу ужина, поступая против всех своих привычек, Александр неожиданно исчез.
Мы расстались с друзьями, отложив прощание на следующий день, и легли спать. Александра все еще не было. В час ночи нас разбудил звук игравших мелодию часов. Это меня успокоило: значит, пока я спал, Александр вернулся.
Итак, до свидания, сударыня. Пишу Вам последние строчки этого послания в то самое время, когда мы прощаемся с нашими друзьями. Сейчас полдень; нам сообщили, что в мальпосте есть одно свободное место, а если хорошо настаивать, то одному из нас предоставят место кондуктора, находящееся в кабриолете, и дадут еще четыре места в дилижансе. Но нам большего и не требовалось. Вы знаете, какая гибкость присуща Полю; мы обвяжем его веревкой, как узел с вещами, и положим под брезентовый чехол дилижанса, ну а когда он там окажется, это уже его задача освободиться от пут, пустив в ход нож, как поступил Ваш бедный друг Эдмон Дантес, сброшенный в море с высоты замка Иф. Я позвал Александра, чтобы он вместе со мной выразил Вам свое нижайшее почтение в конце этого письма, но он снова скрылся. За этими исчезновениями скрывается какая-то любовная тайна; в свое время и в нужном месте она прояснится. Следующее мое письмо ждите из Севильи.
XXXIV
Севилья, 8 ноября 1846 года.
О сударыня! Молитесь за тех, кто путешествует по дороге из Кордовы в Севилью и обратно, если выражаться почтовыми терминами. Если я чем и могу пошевелить, и то с предосторожностями, так это правой рукой – ибо я обещал Вам написать и намерен сдержать свое слово. Увы! Как Вы помните, сударыня, почтовое начальство согласилось освободить в пользу одного из нас место кондуктора; между мной и Буланже даже разыгралась борьба великодуший по поводу того, кто займет эту злосчастную коробку, торчащую как нарост на передке мальпоста; по сравнению с нашей битвой то, что проделали Финтий и Дамон, было пустяком.
Буланже завладел этой коробкой, ссылаясь на то, что он на семнадцать дней моложе меня и, следовательно,
мне, как старшему, полагается лучшее место. Пришлось уступить: если бы я стал уличать его во лжи, то создалось бы впечатление, что я намерен скрывать свой возраст; пока этой слабости у меня нет, хотя я с огорчением слышу, как наши спутники называют меня, как правило, Дюма Утическим, чтобы отличить от Александра. Будем надеяться, сударыня, что я кончу лучше, чем новый заступник, которого мне дали со времени моего приезда в Испанию. Что касается других моих товарищей, то есть Маке, Жиро и Дебароля, ничего не могу Вам о них сказать, так как я уехал на час раньше их, и они должны добраться сюда только через двенадцать часов после моего приезда. Итак, вернемся к нам.
Ровно в полдень Буланже устроился в своей коробке, а я – в своей; разница между ними состоит только в размерах – у Буланже коробка была маленькая, а у меня большая, но у Буланже одиночная, а у меня населенная. Кондуктор сел рядом с кучером на маленькой дощечке, укрепленной впереди купе. Одним из моих соседей по большой коробке был французский негоциант по имени Путрель – он присутствовал на том знаменитом ужине в Мадриде, где, как Вы помните, на десерт были выкурены сигары общей стоимостью в пятьсот франков. Другой же был севильский дворянин, возвращавшийся из Италии к родным пенатам. Иметь таких спутников было большой удачей, ибо один говорил со мной о Франции, покинутой нами обоими, а другой о Севилье, куда мы все трое держали путь.
Как только они меня увидели, между испанским дворянином и Путрелем разразилась борьба наподобие нашей с Буланже. Я прибыл первый и потому имел право занять место только в середине. Каждый из моих спутников предлагал мне свое. Потом я стал подозревать их – простите меня за эту дурную мысль, сударыня, – потом я стал подозревать их, что они добивались этого не без умысла. Я долго сопротивлялся, но, как и в случае с Буланже, мне пришлось уступить. Я выбрал место Путреля, забрался в этот жуткий угол и устроился там.
Попрощавшись с нашими товарищами, которым предстояло ехать по той же дороге через час, мы отправились в путь. Заметьте, сударыня, что Александр так и не появился. Я расспрашивал о нем, настойчиво искал его, но он не появлялся. Карета тронулась.
С первого же поворота колес я начал подозревать, в какую бездну страданий мне суждено погрузиться. Мальпост несся как ветер, подскакивая по севильским мостовым так, как если бы его колеса были сделаны из эластичной резины; к несчастью, на обивку внутренней частй кареты явно поскупились, и все подобные скачки причиняли большое неудобство. Поскольку я с давних пор представлял себе протяженность мостовых испанских городов, меня это сначала не волновало. Но, когда мы выехали на большую дорогу и я увидел, что эта пляска продолжается и там, мной овладело сильное беспокойство. Что же касается обоих моих спутников, то они, казалось, были вполне приучены к такого рода упраженениям и даже не жаловались. Я услышал, как прямо надо мной Буланже, в свою очередь, пляшет у себя в коробке, словно орешек в скорлупе.
Время от времени до меня доносились возгласы досады и стоны, доказывавшие, что он приучается к новой обстановке, но эта учеба кажется ему трудноватой. Я тем временем стал задавать вопросы своим попутчикам. Для Путре-ля это была десятая поездка по Испании, ну а дворянин был испанец. Положение становилось серьезным. Обычно, если только я не путешествую с человеком, беседа с которым мне невероятно интересна, я сохраняю привычку (плохую или хорошую – зависит от той или другой точки зрения) крепко засыпать, едва переступив порог кареты. По-видимому, я испольэую эти часы досуга, вынужденно посвященные передвижению, пытаясь наверстать упущенный сон, за которым в обычной жизни, то есть когда мне приходится работать по пятнадцать часов в сутки, я тщетно гоняюсь и который никогда не могу ухватить. Я закутал голову во все шарфы, какие только мог найти, а поверх них натянул капюшон, надеясь таким образом смягчить получаемые удары. Но все было напрасно: через четверть часа я вынужден был с разочарованием признать невозможность прислониться головой к стенке экипажа.
Следовало брать пример с соседей: Путрель ухватился обеими руками за решетку на потолке, что давало ему возможность удерживаться в вертикальном положении; испанский дворянин просунул руку в подхват портьеры и с помощью такого приспособления предохранял свою голову от всевозможных ударов. Мне оставалось только беседовать или любоваться пейзажем. Я как можно дольше говорил с Путрелем о Франции и с испанцем об Италии, но любой разговор рано или поздно подходит к концу, и мне пришлось вернуться к созерцанию пейзажа. К сожалению, между Кордовой и Севильей в нем нет ничего живописного. И тут еще одна помеха, и даже не помеха, а настоящая беда добавилась к преследующим нас несчастьям.
Хлынул дождь, один из тех, какие можно увидеть лишь в южных странах. Разумеется, Вы читали, сударыня, в книге Бытия описание всемирного потопа. Так вот, поверьте, всемирный потоп – это просто порыв ветра по сравнению с тем, что произошло между небом и землей на дороге, ведущей из Кордовы в Севилью, вчера в среду 7 ноября 1846 года. Это был дикий ливень, сопровождавшийся таким громом и такими молниями, какие мне никогда не приходилось ни видеть, ни слышать.
У меня мелькнула мысль, что Буланже может утонуть в своей коробке, а мы не услышим его криков в этом страшном грохоте; я велел остановить карету, чтобы поинтересоваться его состоянием, К счастью, на дне водовместилища, в котором он находился, были просветы, и все, что туда попадало сверху, выливалось вниз. Я протянул Буланже мой бурнус и накидку, чтобы в большей степени предохранить его от дождя, после чего мальпост снова тронулся в путь. Стемнело; дождь стал еще неистовее, хотя казалось, что сильнее он быть не может.
Невозможно пересказать, как я провел эту ночь, то падая на Путреля, то ударяясь о костистые стенки кареты. Это одна из тех ночей, какие, оставляя следы на всем теле, остаются в памяти на всю жизнь. Вне всякого сомнения, если бы Данте был известен такой способ передвижения, то в его «Аду» мы бы нашли какого-нибудь прбклятого – и из первостатейных, как говорит Гюго, – впившегося зубами в дверцу севильского мальпоста. Примечательно, однако, что и в счастье, и в несчастье время все равно проходит. Забрезжил день; ливень не прекращался; все кругом было видно словно через пелену; мы проехали Эсиху и Кармону, но я не был в состоянии хоть как-то посмотреть на эти маленькие городки; наконец, на рассвете мы увидели Алькалу. В том состоянии ошеломления, в каком я пребывал, единственным оставшимся у меня впечатлением был древний замок, стоящий, как мне показалось, на еще более древней хоре. У подножия этой крепости, валы которой выглядели чрезвычайно живописно, на дне глубокого оврага текла река, издававшая сильный грохот, вероятно под тем предлогом, что воды в ней чуть больше, чем в других реках. Должен признаться Вам, что самым приятным из всех сведений, полученных мною об Алькале, было то, что этот город находится всего лишь в трех льё от Севильи.
У последних ворот нас остановили и поинтересовались, нет ли среди пассажиров господина Александра Дюма. Господин Александр Дюма показался, пряча насколько возможно свой лоб, украшенный шишками, и узнал, что в течение двух дней его ожидала карета маркиза дель Агви-ла; о его предстоящем приезде, несколько отсроченном из-за похода в сьерру, стало известно, и один из самых знатных дворян Севильи отправил свою карету навстречу, чтобы господин Дюма мог въехать в столицу Андалусии в достойном его экипаже. Видите, сударыня, Вашего друга в Севилье встречают столь же любезно, как и в Кордове. Что касается меня, то я совершенно не был подготовлен к таким почестям: Франция, наша нежная мать, никогда не баловала нас до такой степени.
Мысль о том, что мы приближаемся к Севилье, подействовала на мои раны как бальзам. Путрель и я высунули головы из окон нашего купе, чтобы как можно раньше увидеть этот город, где проживают филантропы, которые высылают навстречу иностранцам собственные кареты, ибо, несомненно, им превосходно известно, что представляют собой общественные экипажи. Что касается Буланже, то я даже не посмел справиться о нем: вероятно, он был разбит вдребезги.
Кучер и кондуктор нашего мальпоста провели день накануне и прошедшую ночь на своей доске, уцепившись руками, чтобы не упасть, за железные прутья, служившие подпорками для короба Буланже; должен сказать, что я никогда не видел, чтобы гаргульи на кафедральных соборах так же хорошо справлялись бы с потоками воды, как эти двое несчастных: вода втекала у них в рукава и воротники и вытекала через низ брюк. За одним из поворотов дороги мы с Путрелем одновременно издали возглас вос4-торга: перед нами предстала Хиральда.
Хиральда, сударыня, это первое и последнее, что видят в Севилье; и, конечно же, в основном благодаря ей появилась поговорка: «Quien no ha visto a Sevilla, по ha visto maravilla», что означает: «Кто не видел Севилью, не видел чуда». И в самом деле, в каждый город путешественник приезжает, привлеченный той или иной главной достопримечательностью: во Флоренции это Палаццо Веккьо, в Пизе – Кампо Санто, в Неаполе – Геркуланум и Помпеи, в Гранаде – Альгамбра, в Кордове – мечеть. В Севилье это Хиральда. И, разумеется, ни фавориткам королей, ни своим собственным возлюбленным поэты не посвящали столько стихов, сколько этой гранитной султанше, этой сестре алгебры, этой дочери Джабира, именуемой Хиральдой.
Да еще это дивное имя – Хиральда! А как называлась она маврами, когда они воздвигли ее в 1000 году? В том самом году, когда коленопреклоненные христиане ожидали конца света. Никто этого не знает; это была просто башня, из числа тех, что обычно строились теми чудесными зодчими, какие словно получили в дар от Неба, как Коран, все свое искусство и все свои познания; однако эта башня была шире и выше обыкновенных: ширина каждой из ее сторон достигала пятидесяти футов, а в высоту она поднималась на двести пятьдесят футов. Некогда башня заканчивалась плоской крышей; крыша эта имела кровлю из блестящих плиток различных цветов, увенчанную железным стержнем, который поддерживал четыре шара из позолоченной бронзы. Хиральда сохраняла свою византийскую корону до 1500 года, то есть на протяжении пяти веков. Не такое уж короткое царствование для завоевательницы и узурпаторши; однако в 1500 году архитектор Франческо Руис задумал и осуществил ее переделку в христианском духе.
Франческо Руис снес кровлю мавританской башни и надстроил ее на сто футов, то есть на три этажа; на первом этаже заключены или, вернее, удерживаются колокола, которые при каждом взмахе раскрывают свои пасти и вытягивают металлические языки на четыре страны света, в соответствии со своим расположением. Второй этаж – это окруженная ажурной балюстрадой терраса с четырежды повторенной надписью на всех четырех сторонах ее карниза: «Turris fortissimo nomen Domini»[58]. Третий этаж – это купол, на котором вращается гигантская фигура, символизирующая Веру; сделать из Веры флюгер (слово «хиральда» и значит «флюгер») – идея довольно странная; впрочем, жители Севильи так восхищаются своей Хираль-дой, так любуются ею, видя, как она смотрит поверх гор и беседует с ангелами, что никогда не упрекают того, кто дал ей такое имя, за двусмысленную аналогию. И они правы; это просто чудо – видеть, как вращается в лучах солнца золотая фигура с расправленными крыльями, напоминая небесную птицу, которая, устав от долгого перелета, избрала для минутного отдыха самую близкую к небу точку. Добавьте к этому, сударыня, что Хиральда отличается розовым тоном, какого я не видел ни у одного другого здания, как если бы она хотела, будучи всегда плохой христианкой, вызвать зависть у своей сестры – Алой башни Гранады.
По мере того как мы приближались к Севилье, вновь стали появляться забытые на время кактусы и алоэ; эти огромные растения, укрывшиеся то там, то здесь под сенью пальм, придавали равнине вид неслыханного великолепия; и наконец, словно для того, чтобы придать пейзажу особое величие, слева от дороги высится один из тех акведуков, какие тянутся отдельными фрагментами в поразительной пустыне, именуемой Римской равниной. Кроме того, за целое льё до городских ворот Севилья уже становится Севильей, то есть шумным, оживленным и ярким городом; в отличие от предместий Кордовы, где улицы, кажется, ведут в какой-нибудь современный некрополь, дороги Севильи пестрят крестьянами, крестьянками, мулами, погонщиками, цыганами, контрабандистами; все вокруг смеются и поют, бренчат на гитарах и мандолинах, прерываясь лишь для того, чтобы заговорить с незнакомыми людьми и сказать им: «День добрый, счастливого пути!» Казалось, будто все эти люди так веселы, так счастливы, так радуются жизни, что им свойственно постоянно испытывать потребность удостовериться, просто слыша собственный голос, что они в самом деле живут на свете!
Мы двигались за кучками этих людей, а вернее среди них, так как наш мальпост не замедлял своего хода, подскакивая, словно шар, брошенный на мостовую; и – непостижимо! – те, кого мы чуть не раздавили и кто шарахался в сторону, волоча своих детей, оттаскивая своих ослов и роняя поклажу, – все эти люди смеялись, бросали цветы кучеру, в то время как во Франции его забросали бы за такое камнями; а затем, так долго, как мы могли их слышать, до нас доносились их характерные остроты, смех и шутки.