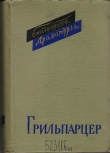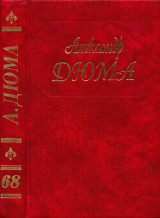
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 42 страниц)
Разрешите мне, сударыня, в двадцати пяти строчках рассказать Вам всю историю Севильи. Севилья – по-испански Sevilla, как Вам известно, а на латыни Hispalis, как Вам вряд ли известно, – была уже почти восемнадцать или двадцать веков тому назад описана четырьмя путешественниками, которых звали в ту эпоху и зовут доныне Страбон, Помпоний Мела, Плиний и Птолемей.
Те из этих четырех путешественников, кто не побывал там и писал о Севилье не видя ее, как я писал о Египте, вероятно, не были теми – ничего не хочу сказать плохого о людях, которые пишут лишь об увиденном, и критикую исключительно их манеру видеть, – кто наговорил о ней больше всего глупостей. Как бы то ни было, сударыня, во времена Страбона, Помпония Мелы и Птолимея Севилья была уже древним городом, о происхождении которого спорили, не зная в точности, кем он был основан: Гераклом, Вакхом, халдеями, иудеями или финикийцами.
До 711 года Севилья находилась в зависимости от готских королей. Вам ведь известна, сударыня, страшная история Ла Кавы и дона Родриго, на основе которой можно было бы сочинить одну из самых прекрасных трагедий, какие только есть на свете, если бы сейчас еще сочинялись трагедии, и которая повлекла за собой приход мавров в Испанию. Мавры захватили Севилью в 711 году, и кордовский султан поставил там правителя. В 1144 году Севилья, пожелавшая, как лягушка в басне, иметь собственного короля, объявила своего правителя королем. Со своей стороны кордовский султан пожелал вернуть себе Севилью и снова захватил ее, после чего Севилья опять взбунтовалась и, не желая, чтобы Кордова впредь захватывала ее, сама захватила Кордову.
Так продолжалось до тех пор, пока Фердинанд III, король Кастилии и Леона, не захватил в 1236 году Кордову и Хаэн; воспользовавшись этим обстоятельством, Севилья объявила себя республикой. Как видите, сударыня, Севилья понемногу перепробовала все: она была колонией при римлянах, побывала в составе королевства при готах, халифата при кордовских султанах, стала самостоятельной державой при собственных султанах; теперь она решила узнать, что такое республика, и управляться по своим собственным законам. Не знаю, хорошо или плохо Севилья управлялась самостоятельно, но мне известно, что через двенадцать лет после того, как она сделалась республикой, Фердинанд III, проходя через город, мимоходом захватил его. Это событие произошло 28 ноября 1248 года. Начиная с этого времени Севилья ни на минуту не переставала быть частью владений кастильских королей.
По правде говоря, Севилья не очень-то процветала под их господством; когда в 1248 году Фердинанд III, как уже было сказано, захватил ее, он изгнал оттуда триста тысяч мавров и евреев, переселившихся в Гранаду и Африку. В 1526 году в Севилье еще насчитывалось сто двадцать восемь тысяч жителей. В семнадцатом веке на одних только шелковых мануфактурах города было занято сто тридцать тысяч людей обоего пола. Исход мавров положил начало сокращению населения города, крах мануфактур довершил беду: сегодня в Севилье не более девяноста шести тысяч жителей и одиннадцать тысяч восемьсот домов. Но, как Вы видели, город не становится от этого грустнее; если Севилья пустеет, то делает она это, распевая песни, и если она идет к могиле, которая рано или поздно разверзается, чтобы поглотить народы, как и города, а города, как и отдельных людей, то она весело шествует во главе своего собственного погребального кортежа.
Из всего своего былого великолепия Севилья, как мы уже говорили, сохранила лишь три памятника – Алькасар, построенный мавританскими султанами, собор, построенный католическими королями, и, наконец, дом Пилата, построенный частным лицом, возможно одним из предков герцога де Медина-Сели. Начнем с Алькасара: по месту и почет. Алькасар мавританских владык не сохранил никакой памяти о маврах; дело в том, что некий человек переступил его порог и прошел под его резными сводами, заслонив собой все прошлое и я бы даже сказал – почти все будущее. Человек этот – Педро Жестокий, или, скорее, Педро Справедливый. Севилья доныне хранит память о нем, как Рим – о Нероне; лишь одна личность может сравниться с ним по известности: дон Хуан де Маранья. В городе вам покажут место, где по приказу алькальда была обезглавлена статуя дона Педро. В Алькасаре вам покажут комнату, где дон Педро отрубил голову дону Фадрике… Ту самую голову, которую, как поется в романсе, собака убитого потащила в зубах за его длинные волосы, заставляя расступиться перед ней всех придворных и самого короля. Среди прекрасно сохранившихся арабских бань – легко можно себе представить, как в них купались султанши, – есть и бани Марии Падильи. Сады подстрижены в старинном французском вкусе, а кроме того, Карл III навязал им подражание стилю Людовика XV, никоим образом не вяжущемуся с обликом всего этого сооружения. Это фонтаны с затейливой декоративной отделкой, раковины с амурами, струи вод, взметающиеся вверх в виде цветов, снопов и гирлянд; все это я видел в Палермо, уже не помню в каком саду восемнадцатого века, владелец которого, как зять Августа, благодаря своим гидравлическим пристрастиям остался в памяти поколений. Самое лучшее в этих садах – чудесные цветы, которые цветут, не заботясь о том, в каком стиле и согласно каким правилам их срезают, и нежные лимоны, которые срывают с гигантских лимонных деревьев и уписывают за обе щеки, словно апельсины. Мы ушли оттуда, нагруженные лимонами и охапками цветов и, проходя мимо гостиницы «Европа», занесли их к себе.
Церковь, как уже говорилось, была построена в пятнадцатом веке. Местоположение ее, вне всякого сомнения, определила Хиральда, сделавшаяся колокольней. Великолепие церкви описывается в сжатом виде словами ее создателя: «Возведем здание, при виде которого потомки сочтут нас безумцами». Увы! У нас нет больше муниципальных советов достаточно мудрых, чтобы строить такие замыслы. Поэтому мы и не возводим больше таких соборов, как севильский.
Вообразите все самое богатое, самое отточенное, самое совершенное, самое дерзновенное, что могли свести воедино в своем воображении индусы, персы, арабы и византийцы, – но и тогда Вы не получите никакого понятия
0 заалтарной картине, которая одна являет собой целый мир персонажей. Посреди клироса возвышается нечто вроде корабельной мачты, о предназначении которой вы раздумываете целый час, прежде чем догадаться, что это пасхальная восковая свеча. Она весит две тысячи пятьдесят фунтов. Поддерживающий ее подсвечник похож на основание обелиска. Он сделан из бронзы и имеет форму подсвечника из Иерусалимского храма. В соборе за год расходуется двадцать тысяч фунтов воска и двадцать тысяч фунтов масла. Только на мессы идет восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят литров вина. Правда, надо сказать, что в севильском соборе восемьдесят алтарей: у каждого алтаря проходит по шесть служб в день, то есть в течение дня там служат около пятисот месс. Разумеется, в подобном месте нет нужды становиться на колени, чтобы ощутить свое ничтожество перед лицом Господа. Одного человеческого творения достаточно, чтобы сокрушить человека. И когда думаешь о том, что в каждом из этих алтарей есть, по меньшей мере, одна картина Мурильо, Веласкеса, Сурбарана или Алонсо Кано, то просто отказываешься признавать реальность того, что видишь. Ах, да, сударыня, я еще забыл сказать Вам о восьмидесяти трех окнах с цветными витражами, расписанными Микеланджело, Рафаэлем, Альбрехтом Дюрером и не знаю еще кем! Чтобы изучить севильский собор так, как он того заслуживает, нужно не меньше года.
Дом Пилата, как я Вам уже говорил, это частное владение. Народное предание, в котором нет и не может быть ничего достоверного, утверждает, что он был построен в соответствии с планом того здания, куда привели арестованного Христа. План этот привезли участники крестовых походов. Так что Вам покажут окно Ессе Homo[60] и небольшую клетушку, в которой пел знаменитый петух, оказавший столь страшное влияние на нетвердую веру святого Петра. Я никогда еще не видел таких красивых изразцов, покрывающих стены, как в этом доме Пилата. Ах, извините, сударыня, перечисляя достопримечательности Севильи, я забыл упомянуть табачную мануфактуру. Это огромное строение, где выпускаются три четверти всех сигар, выкуриваемых в Испании. Там насчитывается пятьдесят три управляющих, называемых также директорами, пятьдесят один надзиратель и тысяча триста поденщиков, а вернее, поденщиц. Помнится, я рассказывал Вам о прелестных обитательницах Мансанареса, обрывающих рыльца шафрана, веселых насмешницах с черными глазами, белоснежными зубами и желтыми пальчиками. Так вот, шум, производимый ими, – ничто по сравнению с тем, что мы услышали на табачной мануфактуре.
Представьте себе, сударыня, тринадцать сотен красоток в возрасте от шестнадцати до двадцати пяти лет, хохочущих, щебечущих и, честное слово! – прошу прощения у Вас в частности и у всего женского пола, к которому Вы имеете честь принадлежать, в целом – курящих, как старые гренадеры, и жующих табак, как бывалые матросы. Дело в том, что администрация, выплачивая работницам в качестве жалованья пять-шесть реалов в день, позволяет им также брать столько табака, сколько они могут потребить на месте. Как Вам должно быть понятно, сударыня, это занятие, практикуемое тринадцатью сотнями девушек, порождает особую прослойку населения. Принято говорить: севильские las cigareras, так же как говорят: мадридские манолы и парижские гризетки. Однако, благодаря тому, что севильские сигареры имеют возможность запихнуть в свои карманы определенное количество товара, с которым им приходится иметь дело, они пользуются большим успехом у унтер-офицеров и морских старшин, и почти всегда на корридах (а сигарера, как Вы понимаете, сударыня, не пропускает ни одной коририды) можно увидеть такую девицу с сигарой в углу рта, под руку с военным или моряком, по-молодецки курящим большую сигару, которую она, поспешу сказать, передала своему любовнику, успев выкурить ее наполовину.
Возвращаясь в гостиницу, мы прошли мимо приюта Милосердия; в церкви этого странноприимного дома находятся два шедевра Мурильо: «Моисей, иссекающий воду из скалы» и «Умножение хлебов». Вам они известны по гравюрам; кроме того, в нашем музее есть произведения Мурильо, способные дать Вам представление о колорите его картин. А вот что Вам незнакомо, так это творения Вальдеса, тоже находящиеся в этой церкви. Юнг, создавший свои печальные «Ночи», которые Вам известны, и Орканья, этот великий поэт-художник, изобразивший на стенах Кампо Санто свой «Триумф смерти», по сравнению с Хуаном Вальдесом просто два весельчака. Я не буду пытаться описывать Вам картины этого художника. Мне не очень по душе все эти тайны загробного мира, которые он нам раскрывает, и я полагаю, что всему этому скоплению червей, гусениц, улиток и слизней, которые таят свои начатки в нашем бедном человеческом прахе и развиваются в нас, когда мы умираем, очень хорошо там, где они пребывают всегда, то есть в шести футах под землей, и потому не стоит впускать к нему даже малейший лучик солнца.
Кем же были основаны эта церковь и этот монастырь? Ставлю сто против одного, ставлю тысячу, ставлю десять тысяч, как говорила знаменитая маркиза, кузина Бюсси-Рабютена, что Вы не отгадаете! Доном Хуаном де Маранья! Да, сударыня, известным Вам доном Хуаном, тем самым, кого я вывел на сцену театра Порт-Сен-Мартен и кто так прекрасно выглядит там в исполнении Бокажа. Вот по какому случаю произошло основание церкви и монастыря.
Однажды ночью, когда дон Хуан вышел – мне было бы крайне затруднительно объяснить Вам, откуда именно он вышел, если бы, рассказывая о Кордове, я не упоминал о доме Сенеки, в частности, и о караван-сараях вообще, – так вот, повторяю, когда дон Хуан вышел из одного очень скверного места, ему встретилась похоронная процессия, направлявшаяся в церковь Сан-Исидоро. Дон Хуан был весьма любопытен, особенно находясь в подпитии, а в тот вечер он занимался сравнением итальянских и испанских вин и после долгого взвешивания за и против, выпив в один присест целую бутылку кипрского, заявил, что греческие вина остаются непревзойденными. Итак, поскольку в тот вечер любопытство его было разогрето, он поинтересовался у тех, кто нес гроб, как звали грешника, которого собираются предать земле. «Его звали сеньор дон Хуан де Маранья», – ответили ему. Вы понимаете, сударыня, как был потрясен этим ответом наш идальго, считавший себя вполне живым и имевший к этому все основания. И поскольку ответ этот никак его не убедил, он остановил процессию и потребовал, чтобы ему показали лицо умершего. Это было легко сделать, так как в Испании в ту пору, подобно тому как это принято в Италии еще и сегодня, хоронили с открытым лицом. Те, что несли гроб, подчинились, остановились и опустили свою ношу; дон Хуан склонился над трупом и тотчас же узнал в нем себя. Это его отрезвило. В этом событии он увидел предостережение Неба, причем более серьезное, чем все те, какие ему доводилось получать прежде. Дон Хуан пошел за гробом в церковь; она была ярко освещена и заполнена толпой монахов с необычайно бледными лицами, двигавшихся совершенно бесшумно и распевавших «Dies irae, dies ilia»[61] голосами, в которых не было ничего человеческого. Дон Хуан стал петь вместе с ними, но вскоре голос его замер. Он опустился сначала на одно колено, потом на оба, а затем рухнул ниц на землю; на следующий день его нашли лежащим без сознания на плитах пола.
Две недели спустя дон Хуан принял монашеский обет и основал приют Милосердия, завещав ему все свое состояние. Дело в том, что рассудок дона Хуана уже был взволнован другим, не менее удивительным происшествием. Однажды, когда дон Хуан шел по набережной, где высится Золотая башня, у него погасла сигара – обладая всеми возможными пороками, сударыня, он был, следственно, и заядлым курильщиком, – итак, у него погасла сигара, и он заметил на другом берегу реки, широкой в этом месте, как Сена близ Руана, человека, горящая сигара которого вспыхивала, точно звездочка, при каждом вздохе. Дон Хуан, не ведавший ни в чем сомнений и, благодаря страху, внушаемому им, привыкший видеть, что все подчиняются его прихотям, окликнул курильщика и приказал переправиться через Гвадалквивир и поднести ему огня. Однако тот, протянув руку в сторону дона Хуана, без малейшего труда перекинул ее через Гвадалквивир как мост и поднес дону Хуану, чтобы он мог прикурить, сигару, пахнувшую серой настолько, что это могло бы вызвать дрожь. Но дон Хуан совсем не испугался или, по крайней мере, сделал вид, что не испугался: он зажег свою сигару от сигары курильщика и продолжил путь, напевая: «Los Toros de la puerta». Курильщик же был самим дьяволом, который поспорил с Плутоном, что он сумеет напугать дона Хуана, и, проиграв пари, вернулся в ад разгневанным.
XXXVIII
Севилья, 13 ноября.
Следует сказать, сударыня, что в нас пробудилась пылкая любовь к Андалусии; мы, мои друзья и я, не вылезаем от шорников, портных и изготовителей гетр. Нам кажется, что нет ничего прекраснее здешних гетр, сюртуков и конской сбруи. И действительно, именно в Севилье делают самые красивые гетры, какие только бывают на свете; поэтому лично для себя я заказал шесть пар; еще я заказал полное снаряжение мула, включая помпоны и колокольчики. Снаряжение это наверняка будет иметь громадный успех в Лоншане, если только его доставят вовремя, в чем я сомневаюсь, и если оно появится там еще в этом году.
Что касается сюртуков, то тут я решил воздержаться. Еще в Кордове я встретил портного-изгнанника, рассказавшего мне чрезвычайно трогательную историю своего отступничества. Выслушав эту историю и проникшись интересом к рассказчику, я заказал ему полный костюм кордовского охотника. Кстати, у меня появилось еще нечто вроде одного замысла. Если Вы читали «Тристрама Шенди», то Вам известно, что у каждого человека есть свой конек; мой конек – это обстановка квартиры, так, по крайней мере, утверждает Александр. И вот, как только что было сказано, у меня появился замысел: прикрепить к занавесям и портьерам восхитительные пестрые накидки, которые набрасывают на себя андалусцы, сами никоим образом не сознавая, насколько изящно и удачно у них это получается. Бюиссон (не удивляйтесь, встречая его имя на каждом шагу) отвел меня в лавку, и там под его наблюдением я сделал заказ.
На вечер, как Вам известно, был назначен бал. Бюиссон предупредил нас, что мы доставим большое удовольствие нашим хозяевам, если на этот вечер отдадим предпочтение испанским костюмам. Я вполне мог себе это позволить – Вы ведь помните грабительский налет, предпринятый мною в Кордове; у Жиро и Дебароля были сюртуки, сшитые Хосе де Батаро, модным севильским портным; Александр в мгновение ока раздобыл себе куртку и шляпу, в кушаках же у него недостатка не было – начиная с Мадрида он составил себе из них целую коллекцию; Сен-При выглядел настоящим андалусцем, да еще из числа самых элегантных; Буланже, Монтеро и Нюжак неведомыми мне тайными путями раздобыли себе куртки и сомбреро, в каких ходят majos.
Я говорю только о куртках и шляпах, и вот почему: раньше носить полагалось полный костюм, то есть, помимо куртки и шляпы, надевали еше кюлоты с бархатными отворотами, открытые гетры и чулки с вышитыми стрелками, видимыми сквозь прорези в гетрах; но, что поделаешь, сударыня, наши ужасные панталоны и лакированные сапоги вот-вот обойдут весь свет. Появившись в Севилье, они завоевали себе право гражданства, так что национальный костюм отмирает снизу. Сначала вышитые гетры были заменены сапогами, потом кюлоты – панталонами.
Сегодня в Севилье очень модно быть французом от подметок до пояса и андалусцем от пояса до помпона на шляпе.
В итоге это довольно уродливо. Гетры и кюлоты представляются мне необходимыми: в них таится вся живописность, то есть вся изысканность этого наряда; самый элегантный человек, надевший шляпу, куртку, кушак, андалусский жилет и французские панталоны, становится похож на отвратительного кучера фиакра.
Сбор был назначен на девять часов вечера в кафе, где в наше пользование был отдан второй этаж. Этот второй этаж представлял собой большую комнату, по потолку разделенную надвое толстой балкой; комната была вымощена красной плиткой, а единственным украшением ее стен служила известковая побелка. Помещение освещали четыре чадящих кенкета, а весь оркестр состоял из цыгана с гитарой на коленях и огрызком сигары во рту. Когда я вошел, бальный зал был уже полон; общий его вид был довольно грустный: молодые люди в коричневых или черных куртках и круглых шляпах не слишком хорошо смотрелись на фоне белых стен и при тусклом освещении.
Зато, надо сказать, среди них, словно три светящиеся точки, словно три сверкающие звезды на темном небе, выделялись три королевы вечера – Анита, Пьетра и Кармен; их баскские юбки из белого газа, их черные или синие корсажи, вышитые серебром; их головные уборы с блестками и искрящейся бахромой, отражавшие свет, выглядели изумительно красиво. С накидками на плечах девушки ожидали начала танцев, на которые они пришли в сопровождении матерей, братьев, сестер и женихов.
Когда почти все собрались, раздались первые аккорды гитары. Кармен встала, не ожидая просьб, сбросила накидку на руки матери и в маленьких атласных туфельках прошла по грубым каменным плитам в круг диаметром не больше восьми футов. Первый ряд зрителей сидел, остальные стояли, расположившись ярусами по росту; зал более всего напоминал огромную воронку, состоящую из голов, которые в последнем ряду почти касались потолка, а в первом были на уровне пояса танцовщиц.
Танец Кармен представлял собой всего лишь обязательную часть программы; бедная девушка была самой юной из трех танцовщиц и самой неопытной; ее выпустили вперед, словно пробный шар, и потому восторг, доставшийся на ее долю, был умеренный. Но вот поднялась Анита, и все закричали: «Оле! Оле!»
Оле, сударыня, это один из танцев, запрещенных испанской цензурой к показу в театре; ремесло же всякого цензора состоит в том, чтобы устранять в той области, какая находится в его ведении, все истинно прекрасное, все истинно своеобразное. По счастью, мы были у себя дома; по счастью, мы избежали ножниц господ цензоров; по счастью, Анита, Пьетра и Кармен, прелестные вечерние птички, явились к нам, сохранив все перышки на своих крыльях.
Ах, Боже мой, сударыня, было бы неверно сказать, что этому бедному танцу нельзя предъявить никаких упреков; но господ цензоров с их чрезмерной стыдливостью отпугивают вовсе не чересчур высоко поднятая ножка, не те или иные рискованные антраша и опасные батманы; нет, то, что составляет прелесть этого танца, – это вся совокупность движений, благородных и сладострастных одновременно, невыразимо вызывающих и, тем не менее, не дающих право упрекнуть в какой-либо вольности; это мелодия, под которую совершаются эти движения, пение, сопровождаемое пронзительным свистом, который им сопутствует; это аромат народного танца, о котором все грезят, пока его не начинают марать розовые персты господ балетмейстеров; это, наконец, нечто в высшей степени упоительное для испанцев, которые видят подобные танцы пять или шесть раз в году и не только не пресыщаются ими, так же как и корридами, но каждый раз воспринимают их с новым восторгом. Судите же сами, какое впечатление эти танцы производят на иностранцев!
Я вновь стал свидетелем неистовой восторженности, поразившей меня еще прежде в цирке; это были овации, крики, каких Вы никогда не слышали в дни самых грандиозных наших успехов – против них всегда найдется кому выступать, хотя бы нашим ближайшим друзьям; пятьдесят шляп покатились к ногам танцовщицы в это тесное пространство, а она с очаровательной ловкостью, словно гётевская Миньона среди яиц, продолжала танцевать среди этого развала шляп, не задевая их. Признаюсь, мне вполне был понятен восторг присутствующих, но никоим образом – способ его выражения. Зачем нужны были все эти шляпы, которые подбирали, когда Анита удалялась, и снова бросали ей под ноги при ее приближении и среди которых эта надменная волшебница так легко проносилась?
Этот танец изумителен, сударыня, при том что это не танец в привычном нашем понимании, а целая поэма! Я не знаю зрелища более печального, чем наши танцовщицы, с явной усталостью совершающие свои прыжки и ставящие перед собой лишь одну цель – превзойти хоть на линию, хоть на пол-линии памятное всем мастерство Та-льони и Эльслер; несмотря на вечные улыбки, словно булавками пришпиленные к их губам, вы ощущаете их усталость, вы догадываетесь о ней, ведь наши балерины танцуют только ногами, лишь иногда, случайно, сопровождая свой танец движением рук. В Испании все иначе; танец – это удовольствие для самой танцовщицы, и потому она танцует всем телом: и грудь, и руки, и глаза, и рот, и поясница – все участвует в танце, дополняя движения ног. Танцовщица приплясывает, бьет ножкой, ржет, как кобылица в любовном возбуждении; она приближается к каждому зрителю, удаляется, вновь приближается, заряжая его магнетическими флюидами, волнами, хлещущими из ее разгоряченного страстью тела. Теперь Вы понимаете, сударыня, что чувствуют мужчины, когда живой вихрь наслаждения приближается к ним; они заражаются лихорадочным возбуждением танцовщицы, разделяют его и извергают пламя, сжигающее их, восторженными криками и рукоплесканиями. Говорят, что опиум уводит в мир грез, а гашиш лишает рассудка; я испытывал одно и наблюдал другое, сударыня, но ничто из этого не напоминает исступленного восторга пятидесяти или шестидесяти испанцев, аплодирующих танцовщице в чердачном помещении севильского кафе. Вот одна из самых изящных фигур танца оле, а вернее, эта фигура и есть сам танец.
Анита держала в руках мужскую шляпу, которая принадлежала первому попавшемуся зрителю; поскольку не имело значения, у кого взять головной убор, танцовщица позаимствовала его, как я сказал, у того, кто оказался ближе всего к ней перед началом танца. Эту шляпу – не надо только путать кокетливое андалусское сомбреро с нашими шляпами от Депре или Бандони – танцовщица начала надевать себе на голову всеми возможными способами: сдвигая ее набок, как щёголь времен Директории, назад, как англичанин, и вперед, как академик.
Итак, Анита тем или другим способом надевала себе на голову шляпу, а затем время от времени снимала ее и приближалась к одному из зрителей, словно собираясь надеть ее на него. Однако при первом движении того, кто уже мнил себя счастливым избранником, к этому знаку благосклонности танцовщица поворачивалась на месте и одним прыжком оказывалась в другой стороне круга, заигрывая точно так же с кем-нибудь другим, кому предстояло быть обманутым, подобно своему предшественнику;
и каждый раз, когда случался такого рода обман, сударыня, раздавался смех, слышались овации и оглушительные «браво», способные обрушить зал, и это было справедливо, ибо, надо сказать, никогда мотылек, пчелка или сумеречная бабочка, слегка касающиеся своим хоботком цветов на клумбе, не перелетали от одного к другому с большим проворством, изяществом и большей непредсказуемостью, чем Анита. Поскольку я был королем празднества, сударыня, то в конце концов шляпа была возложена на мою голову, надо сказать к моему величайшему смущению, ибо было непонятно, как отблагодарить танцовщицу, которой нельзя даже поцеловать ручку.
Наступил короткий перерыв, в течение которого Анита среди восторженных рукоплесканий присутствующих принимала похвалы. По-видимому, самое большое удовольствие от похвал она получала, когда ее называли очень пикантной, s а 1 a d а. Я повторил ей тот же комплимент, не найдя другого способа отблагодарить ее. Тем временем к выступлению готовилась Пьетра, и чем больше она привлекала к себе общее внимание, тем короче становилось царствование ее соперницы. Послышались два-три выкрика: «Вито! Вито!» Все голоса повторяли: «Вито!» Я присоединился к ним, даже не понимая, что означает моя просьба. Пьетра вошла в середину круга.
Хотя я и не знал, что такое «вито«, сударыня, но при первых же звуках гитары, по первым сыгранным нотам немедленно это понял. «Вито» – это чечетка, которую с небрежностью начинает скучающая женщина, затем с нетерпением ускоряет возбужденная женщина и в конце концов с исступлением завершает неистовствующая женщина. В этой чечетке есть нечто судорожное; осознаешь, что танцовщица может упасть замертво после такого танца.
Танец этот неописуем; ничто не может дать о нем представления, ни перо, ни кисть: перу не хватает красок, кисти – движений. Ни рассказать об этих изгибах спины, поворотах головы, пылающих взглядах, которые могут принадлежать только дочерям солнца, именуемым анда-лусками, ни изобразить их нельзя. Но примечательно – и в наших северных и западных краях в такое трудно поверить, – что все эти странные, незнакомые, небывалые для нас движения сладострастны, но в них не чувствуется ни малейшей разнузданности, подобно тому как в греческих обнаженных статуях нет никакой непристойности.
Пьетра должна была быть довольной: ее успех сравнялся с успехом Аниты, ее соперницы. Все шляпы были брошены к ее ногам, но, проявляя всю ту преданность законам гостеприимства, она пренебрегла всеми в пользу моей. Пьетра пыгнула на нее и топтала ее двумя своими маленькими ножками до тех пор, пока та не приобрела форму сплющенного жибюса. Такой жест со стороны испанской танцовщицы – это высшее проявление учтивости, это самое большое кокетство, какое ей позволено выказать по отношению к иностранцу. Я поблагодарил ее от всего сердца, сказав, что в жизни не видел ничего более пикантного, и она, видимо, была столь же довольна этим комплиментом, как я – ее учтивостью.
Снова наступил перерыв; казалось, что после вито и оле все лишились сил. Принесли прохладительные напитки. Эти балы, высшая почесть, какой может быть удостоен иностранец, эти балы, которые повторяются не чаще четырех раз в год и ради которых отпрыски наших знатных семейств готовы на любые безумства, проходят в обстановке чрезвычайной простоты. Я уже говорил о месте, где они устраиваются, и пытался описать его. Что же касается прохладительных напитков, то они состояли всего-навсего из двух-трех дюжин бутылок превосходного вина из Монтильи, которое все пили втроем или вчетвером из одного бокала.
На самом деле в этой простоте, вызывающей у Вас улыбку, сударыня, есть некое очарование братства. Возможно, среди присутствующих были очень богатые идальго, готовые потратить сто луидоров за вечер, но, возможно, был и какой-нибудь бедный дворянин, живущий на один дуро два или три дня. Так вот, на этом местном празднике каждый мог присутствовать, не испытывая на следующий день сожалений. И богатый идальго, и бедный дворянин – каждый мог рассчитывать на нежные улыбки наших очаровательных волшебниц, каждый мог вдыхать этот жгучий воздух, напоенный любовью и сладострастием.
Я выпил, как и другие, свой бокал монтильи, наблюдая, как Анита прикасается губами к своему бокалу, и увидел, что Анита передала его в руки своему соседу, а тот подал его мне со словами: «Это от Аниты». – «Пейте! Пейте! – подсказал мне Бюиссон. – Это любезность, оказываемая вам Анитой».
Я поклонился и выпил, не заставляя себя упрашивать: по-видимому, Анита прощала мою вчерашнюю оплошность. Через несколько минут мне принесли еще один бокал, на этот раз от Пьетры, которая глазами показала, что именно мне она адресует свой дар.
Глаза Пьетры – самые красивые из всех когда-либо мною виденных, сударыня; я поторопился исполнить то, о чем просили меня эти красивые глаза, а затем повернулся к Кармен. Бедная девушка покраснела, как вишня, увидев что я ищу ее взглядом; она поднялась, тоже коснулась губами своего бокала и сама поднесла его мне. «Окажите мне ту же честь, – промолвила она, – какую вы оказали Аните и Пьетре!» Я взял бокал, чуть придержав ее ручку, выпил и возвратил ей бокал. «Теперь, – сказала она, – я буду хранить его всю мою жизнь!» И с этими словами она вернулась на свое место. Я рассказываю это Вам, сударыня, с той же простотой, с какой она все это проделала и произнесла.
Наступил час ужина; были накрыты три стола; каждый из них предстояло возглавить одной из танцовщиц. Анита встала, подошла и взяла меня под руку. Я проводил ее к столу, а точнее, позволил ей подвести меня к столу. Мы расселись по местам; нас было человек двадцать. Стол был длинный и очень просто сервированный. Как я уже говорил Вам, сударыня, в Испании трапеза – это своего рода обязанность, которую исполняют во имя самосохранения, а вовсе не ради удовольствия. Поэтому на столе стояло ровно столько блюд и вин, сколько было достаточно для утоления голода и жажды.