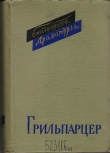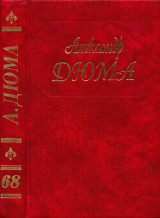
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц)
Я направился к входной двери, где меня с беспокойством ожидали все остальные. «Заходите, господа! – объявил я. – Мы нашли дворец!» Они пошли за мной, дружно крича «Ура». – «Прошу вас, тише, господа, тише; это почтенный дом: ни к чему, чтобы нас выставили за дверь еще до того, как мы в нее войдем!»
Александр вошел, кланяясь, как кавалер Калло; за ним следовал Буланже, потом Маке. Поль замыкал шествие, вытянув ладони по швам, а это всегда означало, что его на минуту выпустили из поля зрения и он воспользовался этой минутой, чтобы нарушить закон своей древней религии. Я искоса посмотрел на него; он улыбался как можно любезнее. Вино Поль покупал великолепное, а ром просто восхитительный.
Господин Монье поднялся в дом первым; Бланшара и Жирарде мы застали в мастерской, где они уже принялись за работу. Они оба, вместе со своим третьим товарищем, г-ном Жисненом, были официальным образом посланы в Мадрид, и им было поручено зарисовать главные сцены предстоящего великого события. Увидев меня входящим в комнату, они восторженно закричали. Их радость удвоилась, когда позади меня появились Буланже, мой сын и Маке. «Ну, видите, как нас встречают?» – повернулся я к г-ну Монье.
Мое предложение о размещении на первом этаже рассмотрели сразу и приняли с воодушевлением. Бланшар и Жирарде схватили кусочек мела и провели линию, отделившую примерно треть мастерской. Эта треть мастерской становилась их отсеком; сюда же выходила дверь их спальни, что было, понятно, очень удобно. Оставшиеся две трети мы присвоили себе. В ту же минуту состоялось переселение. Большой сосновый стол и два стула были передвинуты через белую черту и тотчас же стали собственностью прежних жильцов. Господин Монье пообещал предоставить в наше пользование два стола и четыре стула, подобные тем, что были передвинуты из нашего отсека. Большой соломенный диван с приподнятым изголовьем и ореховый комод становились общим достоянием. Было условлено, что пользоваться ими мы будем как сообща, так и по отдельности, но всегда в добром согласии.
Когда первая часть переселения была закончена, перешли от общей комнаты к личным, поручив Росному Ладану идти за сундуками и ящиками и велев ему перенести в мастерскую предметы, предназначенные для того, чтобы вместе с двумя обещанными сосновыми столами и двумя соломенными стульями стать ее украшением. Через четверть часа осмотр был завершен и мы вселились. Маке и я обнаружили комнату, поблизости от общей, и обосновались в ней. Буланже и мой сын нашли себе приют чуть подальше. В этих двух комнатах были только побеленные известью голые стены, но заботами г-на Монье обе они менее чем за два часа должны были быть обставлены кроватями, столами и четырьмя стульями. Во время этого заселения лицо нашего замечательного хозяина светилось от радости: будучи французом, он был счастлив принять у себя французскую колонию, и какую колонию! Официальные художники и лицо, приглашенное на королевскую свадьбу!
После того как все эти вопросы были решены и из всех коридоров и всех дверей, которые вели к общему центру, послышались слова благодарности, мы вспомнили о надписи «Casa de Banos», помещенной над входной дверью, и поспешили к маленькому атриуму, где разыгралась первая часть только что описанной мною сцены. Что может быть лучше бани, когда проделаешь шестьдесят льё по железной дороге, сто сорок в дилижансе и двести в мальпосте и когда можешь из четырех дверей и четырех комнат хором благодарить Господа за ниспосланный нам уют и покой!
Нам хотелось удержать г-на Монье, чтобы получить ответы на тысячи вопросов, вертевшиеся у нас на языке. Но г-н Монье исчез: он носился по мебельным лавкам Мадрида. И потому мы вынуждены были довольствоваться беседой между собой, но, должен сказать, сударыня, она не стала от этого менее оживленной. В самом деле, все было для нас внове: люди, молчаливые и строгие, смотревшие на нас с застывшими лицами, напоминая в своей неподвижности вереницу теней; женщины, чью красоту не могли скрыть лохмотья; мужчины, гордые, несмотря на свои рубища; дети, рядящиеся в лохмотья отцовских одежд, – все это было для нас не просто другим народом, но еще и другим веком. Буланже пребывал в восторге. Начиная с Байонны, он на каждом шагу встречал модели, позировавшие бесплатно, что позволяло сэкономить как время, поскольку не нужно было тратить его на их поиски, так и деньги, поскольку платить им не требовалось.
Когда мы выходили из бани, появился г-н Монье. «Все готово», – объявил он, потирая руки. «Как, все готово?» – «Да, можете подниматься! Столы прочно стоят по крайней мере на трех ножках, постели так или иначе постелены, стулья способны вас выдержать, если у вас достанет осторожности садиться по одному на каждый!» – «Господин Монье, вы великий человек!» (Наш хозяин скромно поклонился.)
Мы вошли в дом и прежде всего заглянули в мастерскую. Там происходило нечто невиданное! Росный Ладан сам по себе включился в работу. Он открывал ящики и распаковывал ружья; в удивлении я опустил руки. «Оставьте это, займитесь сундуками», – сказал я ему. «Сундуки уже в комнатах господ». – «Прекрасно, дайте мне ключи!» – «Сундуки все раскрыты». Я не мог прийти в себя от такой расторопности. Надо сказать, что в Поле она меня всегда беспокоила: когда он становился таким чрезмерно услужливым, это означало, что он совершил какой-то промах и пытается заслужить прощение.
Я не сомневался, что в багаже не окажется каких-нибудь очень нужных вещей и, наверно, их исчезновение и пытается скрыть Поль, расставляя сундуки, мешки со спальными принадлежностями, складные дорожные сумки и ящики. У меня был их список. Поль заметил, как я рылся в кармане, вытаскивая этот список; он удвоил свое усердие и, убираясь в комнате, стал приближаться к двери, ведущей в коридор. «Поль! – позвал я (мы ведь договорились, сударыня, что я зову его то Поль, то Пьер, то Росный Ладан, так ведь?). – Поль! Давайте проверим багаж по списку!»
Если прибегать к терминам живописи, то можно сказать, что лицо Поля бывало трех совершенно различных тонов: обычно цветом оно напоминало черную тушь, но, в зависимости от обстоятельств, то бледнело, то краснело; краснея, оно становилось похоже на флорентийскую бронзу, бледнея – приобретало мышино-серый оттенок. Поскольку сейчас лицо Росного Ладана стало мышиносерым, я понял, что потеря была существенной. Тем более следовало проверить перечень багажа. Я проявил упорство, хотя Поль делал все от него зависящее, чтобы отвлечь меня от этого замысла.
Не хватало коробки с патронами. Это была серьезная утрата. В общей сложности мы имели семь ружей, в том числе один двуствольный карабин; только два из них были обычной системы, остальные четыре были ружьями Лефошё, то есть они заряжались патронами и со стороны затвора. За вычетом шестидесяти патронов, по случайности оказавшихся в углублениях ящика для ружей, наш пороховой склад был полностью опустошен. Правда, нам говорили, что в Испании осталось очень мало разбойников, всего пятьдесят – шестьдесят, не больше. Блаженна страна, если она может пересчитать своих разбойников! Однако в Африке осталось еще много куропаток, шакалов, гиен и даже пантер, и мы рассчитывали на них всех поохотиться. Что касается львов, то их во всем Алжире осталось не больше, чем разбойников в Испании, – их всех истребил Жерар.
Росный Ладан получил приказ предпринять самые энергичные поиски пропажи и сделал вид, что он ищет. Через два-три дня, когда он увидел, что барометр нашего настроения вместо бури показывает хорошую погоду, он признался с улыбкой, обнажившей все его тридцать два зуба, что коробка с патронами осталась на таможне то ли Ируна, то ли Байонны и он точно это помнит.
Пока Поль занимался поисками патронов, мы упрочивали свое положение в завоеванных владениях и создавали там дивный беспорядок, самое полное представление о котором дает кабинет пищущего человека или мастерская художника. Решив первоочередную проблему размещения, мы занялись вопросами питания. Прошу Вас, сударыня, не удивляйтесь, что время от времени я возвращаюсь к этой теме, ведь к ней приходится возвращаться по крайней мере раз в день не только самым грубым, чувственным натурам, но и самым духовным.
Вы, сударыня, живете в Париже и, перед тем как выйти из кареты, сквозь ее стекла видите по обе стороны улицы кафе с богатыми вывесками, рестораны с заполненными витринами, возбуждающими Ваш аппетит, а потому Вас удивляет, не правда ли, что есть страны, где надо заботиться о том, каким образом пообедать, и Вы хотите сказать: «Ну, пойдите в ресторан или пошлите в продуктовую лавку за начиненной трюфелями пуляркой, гусиным паштетом и лангустами – ведь в крайнем случае и так можно пообедать!» О Господи! Да, сударыня, так можно пообедать, и даже очень хорошо пообедать, но, к сожалению, гусиный паштет поставляют из Страсбурга, лангусты – из Бреста, а начиненные трюфелями пулярки – из Периго-ра. Из-за значительности расстояний, на которые я имел честь обратить Ваше внимание, все эти чисто французские продукты, прибывая в Мадрид, оказываются подпорченными, и потому приходится прибегать к иному способу питания.
На поиски такого способа питания нам и нужно было безотлагательно отправиться. После двух или трех часов разысканий мы уладили проблему наших трапез, и вот каким образом. В Мадриде, за исключением богатых домов, повара и кухарки – фигуры почти мифические. Так что нельзя мечтать о том, чтобы нанять повара или кухарку. Здесь те, кто голоден, и иностранцы, разумеется, в том числе, идут на рынок или посылают туда своих слуг, а затем сами готовят фрикасе или жаркое из купленных продуктов.
К счастью, я, как Вам известно, сударыня, охотник с детских лет и, можно было бы даже добавить, охотник достаточно умелый. В возрасте десяти – двенадцати лет я нередко убегал из дома – хотел сказать отцовского, но увы, у меня никогда не было отцовского дома, поскольку мой отец умер три года спустя после моего рождения, – итак, я убегал из материнского дома, чтобы браконьерствовать в густых лесах, под сенью которых мне довелось родиться. В течение дня, а иногда двух дней или целой недели я блуждал из деревни в деревню, не имея иных средств к существованию, кроме своего ружья, и меняя часть своей добычи – зайцев, кроликов, куропаток – на хлеб и вино; вторую часть я съедал вместе с этим хлебом и вином, а третья часть неизменно предназначалась моей матери: я приносил ей свой трофей подобно Ипполиту, складывающему свою добычу к ногам Тесея, чтобы утишить его гнев. Такой образ жизни, сходный с тем, какой вел сын Антиопы, вероятно, наносил вред моему умственному воспитанию, но в высшей степени способствовал моему кулинарному образованию. А потому, сударыня, есть немало читателей, оспаривающих достоинства моих книг, но нет ни одного гурмана, который, попробовав мои соусы, усомнился бы в их отменном качестве.
Итак, я был единодушно избран метрдотелем французского посольства в Мадриде, а Поль получил звание поставщика. Сообществу пришлось поиздержаться на приобретение большой корзины, чтобы потери Поля при покупке яиц, моркови, отбивных котлет и окорока были как можно меньше. Эти меры предосторожности были необходимы для приготовления завтраков, которым предстояло были всегда состоять из двух или трех горячих или холодных блюд и четырех чашек шоколада на каждого (нужно сказать Вам, сударыня, что испанцы пьют шоколад из маленьких чашечек-наперстков). Что касается обедов, то г-н Монье рекомендовал нам итальянский ресторан Лар-ди, где мы могли рассчитывать на вполне приличный стол. В Италии, где едят плохо, лучшие рестораторы – французы; в Испании, где вообще не едят, лучшие рестораторы – итальянцы.
Прощайте, сударыня, я должен Вас покинуть и отправиться во французское посольство.
V
Мадрид, 10 октября 1846 года.
Догадайтесь, сударыня, кого я привез с собой, возвращаясь из поездки на рынок и в посольство? Жиро и Дебароля!
Посреди улицы Майор, в ту минуту когда я предавался мечтам, не буду говорить Вам о ком, – словом, в ту минуту, когда дивные грезы овладели мной, я вдруг почувствовал толчок и моя карета остановилась. В тот же миг рядом с каждой из двух дверец кареты появилось по одному смуглому бородатому лицу. Когда я грежу, то грежу по-настоящему, другими словами – полностью забываю о действительности и погружаюсь в сновидения. И потому, внезапно пробудившись и увидев две чудовищные головы, сочлененные с телами в испанских нарядах, я вообразил, что посреди глухого леса или в глубоком ущелье меня остановили разбойники. Я машинально стал шарить в поисках пистолетов. У меня, сударыня, великолепные шестизарядные пистолеты, но мне в голову не пришло, что, направляясь на рынок и в посольство, нужно брать их с собой. Поэтому никаких пистолетов при себе я не обнаружил.
Так что я приготовился отразить нападение, используя лишь силу рук, которой наградил меня Господь, как вдруг заметил, что нападавшие смеются, обнажая при этом: один – тридцать два белых, а другой – два желтых зуба. Я вгляделся повнимательнее и воскликнул: «Жиро! Деба-роль!» Прошу прощения у моего друга Жиро, но узнать его мне удалось главным образом по отсутствию у него тридцати зубов и наличию лишь двух.
И в самом деле, помимо того, что солнце Каталонии и Андалусии покрыло лица друзей плотным темно-коричневым загаром, поразительные изменения произошли во всем их облике. Жиро, уехавший без всяких волос на голове, отрастил львиную гриву, а Дебароль, обладавший роскошной шевелюрой, стал почти лысым! Странствия подействовали на волосяные покровы голов двух путешественников противоположным образом. Изучать этот случай я предоставляю врачам и продавцам мазей.
С радостным возгласом я распахнул дверцы, и две секунды спустя Жиро и Дебароль устроились в моей карете. Они проделали изумительное путешествие, перемещаясь все время пешком, – путешествие художников в полном смысле этого слова: с папкой для эскизов на ремне за спиной, с карандашом в руках, с эскопетой на плече; они ночевали где придется, ели что попало, но всю дорогу смеялись, пели и делали зарисовки. В Севилье, двенадцать дней тому назад, они узнали о предстоящих свадьбах и празднествах и тотчас же отправились в Мадрид. За двенадцать дней они прошли сто сорок французских льё и только что прибыли в испанскую столицу.
Перед выходом из Севильи друзья купили какую-то несчастную борзую. Первые три дня она бежала перед ними, четвертый и пятый день шла рядом; наконец, на шестой день она стала отставать: силы ее истощились. На следующий день, когда надо было трогаться в путь, бедное животное попыталось встать на свои одеревенелые лапы, но это превышало ее возможности. Тогда Жиро взял борзую на руки и нес ее шесть часов подряд; спустя шесть часов и три минуты борзая издохла у него на груди. Ей вырыли могиду у придорожной канавы. В этот день Жиро и Дебароль прошли лишь двенадцать льё, но зато на следующий день они наверстали упущенное, пройдя восемнадцать.
Короче, друзья явились в Мадрид и узнали, что я тоже приехал сюда. Они тотчас же принялись меня разыскивать и по счастливой случайности наткнулись прямо на мою карету. Первое, что я сказал, едва успев расцеловаться с ними, было: «Вы ведь поедете со мной в Алжир, правда?» Они переглянулись. Прошел уже месяц с того дня, когда они должны были вернуться во Францию. Дебароль вздохнул. Жиро поднял глаза к небу и прошептал: «О, моя бедная семья!»
Надо Вам сказать, что у Жиро совершенно очаровательная, милая, замечательная жена, которая подарила ему восемь лет назад прелестного белокурого ребенка (помнится, на выставке Вас восхитил этот ребенок, играющий с борзой, не с этой, разумеется, а с другой борзой, тоже уже умершей, но не от усталости, а от несварения желудка). Жена с ребенком, двадцатичетырехлетний младший брат, исследующий Маркизские острова, и семидесятилетняя мать – вот три самые дорогие сердечные привязанности Жиро, составляющие его семью. Естественно, что время от времени он вспоминает о ней. Однако эмоции, пробуждаемые в нем этими мыслями, проявляются по-разному в соответствии с тем, в какое время дня и при каких обстоятельствах эти мысли к нему приходят. То есть по утрам он думает о своей семье иначе, чем вечерами: дело в том, что утром он голоден, а вечером сыт. Всем известно, как меняется взгляд на вещи в зависимости от того, на какой желудок их воспринимать: сытый или голодный. По утрам, когда Жиро думает о своей семье, он невыносим; вечерами эти же мысли делают его очаровательным.
Что касается Дебароля, то я не знаю, есть ли у него семья, думает ли он о своей семье и отвлекают ли его внимание эти мысли, но в чем я уверен, так это в том, что рассеянность Дамиса, кусающего себе палец вместо ломтика хлеба, ничто по сравнению с рассеянностью Дебароля.
Это отступление по поводу Жиро и Дебароля помешало мне сообщить Вам, сударыня, что, как только один закончил свой вздох, а другой – свою фразу, оба они согласились принять мое предложение. Итак, наша группа была в полном составе, таком же, как в день знаменитой клятвы Горациев, уже упомянутой мной, причем мы оказались в Испании в достаточной степени вовремя, чтобы еще успеть объехать вместе пол страны. Теперь я считаю себя обязанным нарисовать Вам портреты Жиро и Дебароля, подобно тому, как я уже описал Вам Буланже, Маке и моего сына.
Жиро – автор «Увольнения до десяти часов», подобно тому как Делакруа – автор «Гяура», а Шеффер – автор «Франчески да Римини». Это значит, что, кроме «Увольнения до десяти часов», которое Вы видели в гравюрах, в литографиях, на табакерках и даже в театре, Жиро написал еще тысячу чудесных вещей – исторических полотен, жанровых картин, портретов, пастелей и т. д и т. п. Жиро не живописец, а сама живопись. Чтобы рисовать, он не нуждается в тех или иных обычных принадлежностях: когда отсутствует карандаш, теряется рашкуль, исчезает кисть, не находится перо, Жиро рисует углем, спичкой, палкой, зубочисткой; более всего на его проницательный и язвительный ум воздействуют смешные стороны того, что он изображает: его глаз подобен одному из тех лишающих всяких иллюзий зеркал, какие утрируют и искажают все лица. Жиро создавал шаржи на Аполлона Бельведерского и Венеру Милосскую. Если бы Нарцисс жил во времена Жиро или Жиро жил во времена Нарцисса, то, возможно, несчастный сын не помню кого, сударыня, вместо того чтобы умереть от истомы, любуясь собой, умер бы от хохота, созерцая шарж на себя. Не стоит и говорить о том, что Жиро – один из самых остроумных моих знакомых и что мне редко приходилось видеть художника – в мастерской ли, в салоне ли и даже во дворце, – так тонко чувствующего, где он находится, и умеющего соблюдать условности, которые там приняты. Достаточно сказать, что, находясь на балу в Опере, Жиро исполняет музыку Мюзара так, что заставляет млеть от удовольствия этого Наполеона канкана.
Что касается Дебароля, то нарисовать его портрет труднее, хотя ему присуще еще больше своеобразия, чем портрету Жиро. Дебароль – смесь художника и странника, но художника и странника парижского. Он владеет шпагой, как Гризье, палкой, как Фанфан, французским боксом, как Лекур. Это множество физических упражнений, не считая того, что на досуге ему свойственно орудовать карандашом и пером, развило в нем привычку к усиленной жестикуляции, почти всегда наносящей ущерб тому, что его окружает. И кроме того, Дебароль рассеян.
Я уже говорил Вам об этом, сударыня. Когда Дебароль стоит, то его рассеянность приводит всего лишь к тому, что он либо не слышит, либо тотчас же забывает услышанное – вот и все. Но когда он сидит, дело становится гораздо серьезнее – где бы ему ни довелось в это время находиться, он очень тихо и самым естественным образом переходит от рассеянности ко сну. И потому Дебароль научился придавать своему сну, всегда, впрочем, бесшумному, надо отдать ему должное, такой достойный вид, что, за исключением Жиро, все бодрствующие относятся к этому его состоянию с должным уважением. А вот Жиро, сударыня, не проявляет к Дебаролю никакого почтения. Стоит Дебаролю заснуть, как в Жиро словно что-то пробуждается. В ту же минуту он подходит к другу и, приложив большой палец к его носу, начинает давить на него до тех пор, пока нос, полностью сплющенный, не исчезает в усах. В ту минуту, когда его нос достигает такой степени сплюснутости, Дебароль просыпается, готовый проучить нахала, проявившего вольность в обращении с органом, который он постоянно лишает табака, чтобы сохранить его врожденное изящество. Однако, поняв, что это сделал Жиро, он улыбается той милой дружеской улыбкой, какую мне доводилось видеть только на его губах. За те двадцать лет, что Жиро и Дебароль знакомы, Жиро миллион раз расплющивал нос Дебаролю. Если согласиться с этим подсчетом, то это означает, сударыня, что ровно миллион раз Дебароль улыбался Жиро лишь по одному этому поводу.
Когда я встретился с Жиро и Дебаролем, они уже носили испанские наряды, то есть шляпы с загнутыми полями, в форме круглого пирога и с двумя шелковыми помпонами, один на другом, короткие расшитые куртки, кричащие жилеты, красные кушаки, короткие штаны, вышитые гетры и андалусские накидки. Впрочем, эта манера одеваться объяснялась не столько восторгом, который вызывал в них этот национальный костюм, сколько определенными обстоятельствами, о которых следует здесь упомянуть.
Уезжая из Франции, Жиро и Дебароль захватили с собой, помимо бывшей на них дорожной одежды, чемодан с двумя сюртуками, двумя рединготами, двумя парами брюк и двумя шляпами Жибюса. Сюртуки, рединготы и брюки, хотя и крайне изношенные, сохранили, тем не менее, свою форму, и в них по-прежнему чувствовался их парижский покрой. Однако шляпы Жибюса, эти еще не очень жизнестойкие изделия нашей современной цивилизации, не смогли перенести жаркого солнца Барселоны и Мурсии и полностью отошли от вертикали, приобретя наклон вперед. Этот выгиб, легко исправляемый во Франции за несколько секунд, упорно не поддавался усилиям испанских шляпников, знакомых по-прежнему лишь с фетровыми шляпами времен Людовика XIII и андалусскими сомбреро. В итоге Жиро и Дебароль имели такой вид, будто каждый из них надел на голову каминную трубу, согнутую ветром; когда они шли рядом и не забывали надеть шляпы одинаковым образом – наклоном вперед или назад, это еще не очень бросалось в глаза: если наклон был обращен вперед, у них был вид двух русских гренадеров, кидающихся в атаку; если шляпы были повернуты изгибом назад, то друзья выглядели как Бертран и его убегающая тень. Но, когда по забывчивости, вполне простительной для путешественников, занятых созерцанием пейзажа, света, воздуха, мужчин, женщин и всего прочего, они надевали свои шляпы противоположным образом, то сразу становились похожими на фантастические ножницы на четырех ногах, шагающие в раскрытом состоянии. Однажды Дебаролю пришла в голову мысль отнести свою шляпу в починку к часовщику, поскольку шляпники оказались бессильными. Часовщик выпрямил шляпу с помощью часовой пружины, и Дебароль, к великому изумлению Жиро, явился в гостиницу в совершенно прямом головном уборе. В этом вполне приемлемом состоянии шляпа продержалась три дня, но в конце третьего дня, когда Дебароль спал, пружина распрямилась со звуком ходиков, собирающихся отбивать время. Шляпа Дебароля оказалась с часовым механизмом. Все эти злоключения с одеждой и головными уборами в конце концов склонили Жиро и Дебароля к решению перейти на андалусские костюмы; именно в этом одеянии они предстали сначала передо мной, а потом и перед всей французской колонией.
Высказав вновь прибывшим свою радость по поводу воссоединения с ними, обитатели нашей колонии поинтересовались результатами посещения рынка и посольства. По поводу рынка ответ держал Поль: открыв корзину, он показал переложенные капустными листьями двенадцать яиц, шесть куропаток, двух зайцев и гранадский окорок. Надо сказать, сударыня, что если в Испании люди не едят или питаются плохо, то лишь потому, что им не хочется есть. Мать-земля, почти повсюду плодородная, щедро одаряет Испанию: самые лучшие овощи произрастают здесь, не требуя никаких трудов, а вкуснейшие плоды созревают в диком виде. Нагнувшись, в любое время года здесь можно отыскать клубнику, затерянную среди цветущих фиалок, а в течение шести месяцев в году, поднявшись всего лишь на цыпочки, можно сорвать либо золотистые апельсины, которые, словно благоухающие шары, раскачиваются над головами прохожих, либо гранаты, которые, разрываясь, как переполненное сердце, обрушивают на лоб путника град рубинов.
Ну а для охотников Испания – земля обетованная. Ее просторные равнины с сухими зарослями вереска дают неприкосновенное убежище куропаткам – косари не истребляют их яиц, равно как и зайцам – пахари не трогают их детенышей. Что касается крупной дичи, такой, как олени, лани, кабаны, день ото дня все реже встречающейся в наших лесах, то она находит надежное укрытие в сьеррах, перерезающих по всем направлениям Испанию, и живет там под покровительством разбойников – истинных хозяев гор.
К тому же я еще не упоминал о некоторых свято хранимых традициях, неизвестно откуда ведущих происхождение. Например, зайцы в жареном и тушеном виде, украшение наших обедов, почти во всей Испании – запрещенное блюдо, так как считается, что они разрывают могилы и пожирают трупы. Иногда и клевета бывает полезна. В Испании зайцы умирают от старости, наблюдая, как испанцы поедают кроликов. Более того, уж не знаю, какой оброк платят куропатки поварам, но им удалось добиться, что, вместо того, чтобы подавать их жареными, под горчичным соусом или в виде сальми, их кладут в мерзкий уксусный соус – с единственной целью доказать всем не сведущим в кулинарии, что куропатки, эти вицекоролевы трапез, оспаривающие пальму первенства у фазанов, еще менее съедобны, чем совы или вороны. Видя эти роковые заблуждения, я вообразил, что мне уготована великая задача: восстановить репутацию куропаток и зайцев.
Французская колония явно была расположена оказать мне помощь в этом справедливом и человеколюбивом деле, ибо ее обитатели казались вполне довольными рыночными покупками. Единственное, что их еще тревожило, – это мой визит во французское посольство. Я поспешил их успокоить. Предупрежденный о моем приезде графом де Сальванди, г-н Брессон, хотя и разрывался между обязанностями посла, озабоченного политическими интересами, и хозяина, соблюдающего правила этикета, приказал, чтобы меня пригласили к нему безотлагательно, как только я явлюсь в особняк посольства. Приказ был выполнен.
Я не был знаком с г-ном Брессоном. Он оказался человеком большого роста, со строгим и холодным лицом, высоко поднятой головой, что всегда приятно видеть у тех, кто, добившись своего видного положения, имеет право так ее носить. Твердость, проявленная Брессоном во всем этом грандиозном свадебном деле, достойна восхищения: он не позволил смутить себя ни угрозами со стороны лорда Пальмерстона, ни пророчествами газет, ни даже продажей мебели г-ном Бульвером. Надо Вам сказать, сударыня, что г-н Бульвер, задумав сменить квартиру и обзавестись новой обстановкой, продал свою старую мебель, создавая при этом видимость переезда не с одной улицы на другую, а из одного королевства в другое.
Господин Брессон принял меня превосходно; он имел любезность, повторив слова принца, заранее выразить уверенность, что тот будет очень рад меня увидеть, и, для того чтобы эта встреча произошла как можно быстрее, пригласил меня на назначенный в тот же день обед с его высочеством. Все мои друзья были приглашены на вечерний прием, который должен был за этим последовать. Я подчеркиваю слово «все», обращая внимание на то, что круг приглашенных был составлен по моему усмотрению.
Прощаясь с г-ном Брессоном – а прощался я с ним, признаюсь, очарованный оказанным мне приемом, ведь мне известно, что он не склонен расточать подобное внимание, – я осведомился об адресах Глюксберга, Талейрана и Гито.
Я так быстро покинул Париж, что не успел узнать у господина герцога Деказе, одного из первых моих литературных покровителей, которого я никогда не забуду, – не успел, повторяю, узнать у господина герцога Деказе, есть ли у него поручения к сыну. Я помнил Глюксберга еще ребенком, как раз в ту пору, когда Буланже писал его портрет, и теперь я поспешил повидаться с ним и побеседовать о его отце, с которым я сам уже очень давно не встречался. Вы знаете лучше, чем кто-либо, сударыня, что у меня редко бывает возможность навещать приятных мне людей, но, когда я попадаю к ним в дом, меня уже невозможно оттуда выгнать. Так что у Глюксберга я провел целый час.
Что касается Талейрана, то его мне тоже хотелось посетить поскорее, хотя с ним мы виделись не так давно, как с Глюксбергом. Я познакомился с Талейраном в Италии, где он находился в качестве атташе посольства во Флоренции. Во время одного из его приездов в Париж я Вам представлял его, и Вы могли убедиться, что никогда более утонченный ум не оживлял более одухотворенное лицо. Талейран – настоящий атташе посольства, особенно в Испании. И скажу Вам по секрету, что в Мадриде он достиг всяческих успехов благодаря своему особому способу представлять Францию. Следствием этого присущего только ему великого умения стала бледность, великолепно гармонирующая с синими глазами и белокурыми волосами молодого дипломата. Глюксберг воплощает серьезную сторону представительства, а Талейран – привлекательную.
Гито – родственник г-жи Брессон и потомок храбреца Гито, известного своей преданностью королеве Анне Австрийской. Этот Гито (разумеется, я говорю о старом Гито) послужил той железной рукой, какая была выбрана, чтобы арестовать принца Конде, державшего в страхе малый двор Пале-Рояля. Кроме того, однажды Гито, действуя от имени королевы, отправился за Людовиком XIII к мадемуазель де Лафайет в женский монастырь Визитации и привел короля ночевать в Лувр; это произошло ровно за девять месяцев до рождения Людовика XIV. Как уверяла меня одна августейшая особа, хорошо осведомленная по части занимательных историй, которые касаются монархии, Гито оставил записки, но его семья сожгла их по настоянию Людовика XVIII. Если бы потомки Гито не принесли его мемуары в жертву, то, вероятно, мы имели бы возможность проникнуть в секрет куда более важный, чем тайна Железной Маски. Молодой Тито, добрый и достойный юноша двадцати двух лет, сознавая, какое громкое имя он носит, тоже, я в этом уверен, готов посвятить себя служению какой-нибудь королеве, если бы только нашлась королева, нуждающаяся в его преданности. Намек всем молодым европейским королевам!