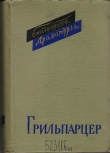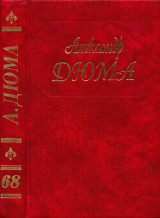
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 42 страниц)
Итак, как я сказал, наши взгляды обратились к городу По мере того как мы удалялись, он становился все меньше, в то время как кафедральный собор, напротив, от самого этого удаления словно увеличивался в размерах. Колокольни, дома, деревья – все стало вровень с землей, словно подвижная часть сцены опустилась и поглотила их. Оставалась видна только Хиральда с ее розовыми тонами и со статуей Веры, сверкающей, как золотистая пчела. Не знаю, ни сколько времени наши глаза еще охватывали ее очертания, ни на каком расстоянии мавританская башня полностью скрылась: внезапно излучина реки простерла перед ней свой зеленый занавес, и последнее видение, еще связывавшее нас с Севильей, исчезло.
XLI
Я весьма досадую и на красочное имя реки, и на то, какое представление о ней у Вас должно было сложиться: Гвадалквивир далек от того, чтобы явить на своих берегах те чарующие картины, какие приписывали ему арабские поэты, которые его видели, и французские поэты, которые его не видели. Арабские поэты были поражены видом реки. В самом деле, для тех, кто привык к зрелищу африканских рек, этих бурных потоков зимой и обыкновенных ручейков летом, течение этой огромной массы воды, несущейся к океану и становящейся все шире по мере приближения к нему, должно было казаться чудом. Поэтому, как уже было сказано, они и назвали его Вади-аль-Кабир, что значит «Многоводная река». С другой стороны, французские поэты, не видевшие его берегов, поверили арабским собратьям на слово и превзошли их в похвалах, как они поступают всегда. Оставались еще испанские поэты, которые вполне способны были восстановить истину. Но испанские поэты могли судить об этой реке только в сопоставлении и, сравнив Гвадалквивир с Мансанаресом, увидели в нем важного вельможу. К тому же здесь это единственная судоходная река, а если у тебя только одна судоходная река, станешь ли ты говорить о ней что-либо плохое?
Зато, хотя берега Гвадалквивира плоские и почти не имеют возвышенностей, они полны дичи; это не может служить утешением туристов, но является огромным достоинством в глазах охотников. Каждую минуту поднимается стая уток, сначала тяжело шлепая по воде крыльями, а затем взмывая в воздух и кружась над нашими головами; потом, когда место, где прежде сидели утки, оставалось у нас за кормой, они вновь опускались туда.
Время от времени ширококрылые дрофы взлетали над берегом и скрывались от пуль, которые мы посылали им вдогонку. Огромная чайка оказалась в пределах досягаемости моего карабина: я прострелил ей крыло, и она упала. Это стало целым событием – судно остановили, на воду спустили шлюпку и отправились на поиски птицы. У матроса, вернувшегося с ней, все руки были в крови: раненая птица отважно сопротивлялась ему. Рана оказалась серьезной: решение об ампутации крыла было принято и исполнено юным студентом-хирургом, оказавшимся на борту. Потом птицу отпустили, она тотчас же начала подскакивать, глядя на тех, кто ее окружал, скорее удивленно, чем испуганно. В чайке есть что-то от орла: это фрегат в уменьшенном виде. Мой удачный выстрел собрал вокруг меня большое количество зрителей, и вдруг мне почудилось, что среди этих людей, явно неизвестных мне, я вижу знакомое лицо.
Я не ошибся. На нашем судне, одетая в баскское платье и покрытая длинной кружевной вуалью, которая была приподнята гребнем и спускалась ей до пояса, ехала девушка, откликавшаяся на имя Хулия и встречавшаяся нам в одном из тех домов, какие определенно не пользовались самой доброй славой в городе. Не знаю уж почему, но эта девушка прониклась великой любовью к Буланже. Мы без конца подшучивали над нашим другом по поводу этой страсти, а он защищался от наших насмешек как мог, и вот теперь ее появление отдавало Буланже в полную нашу власть.
Восхититесь, сударыня, наивностью этой девушки: хотя ее знает вся Севилья, она, со свойственной ей милой улыбкой, без малейших колебаний подошла к нам поздороваться. Не признавать знакомства с ней было невозможно – это некоторым образом походило бы на трусость. Нам ничего не оставалось, как смириться с положением, в котором мы оказались. Мы стали расспрашивать девушку, как она оказалась на пароходе; она простодушно поведала нам, что ей уже давно хотелось навестить свою мать, которая живет в Кадисе, и вот теперь, узнав, что французы уезжают в Кадис сегодня, 19 ноября, решила поплыть на том же корабле, что и они, чтобы как можно дольше наслаждаться общением с ними, ибо для нее предпочтительнее компания французов, а не ее соотечественников.
Ответить на это, как Вы понимаете, сударыня, было нечего; мы ничего и не ответили, а лишь поблагодарили ее за необычайную любезность.
Наступило время завтрака. Мы спустились на нижнюю палубу. Забота о меню лежала на мне; стол был уже накрыт; все расселись по местам. Не успел никто из нас проткнуть вилкой первую отбивную, как мы увидели, что на лестнице появились сначала две маленькие ножки, прикрытые черным платьем, потом показалась ручка с веером, затем вуаль и, наконец, вся андалуска целиком. Еще не видя ее лица, мы тотчас узнали Хулию и уже начали раскаиваться в своей приветливости; но, поразмыслив, решили, что она, так же как и мы, оплатила свой проезд и, следовательно, имеет право не только прогуливаться по палубе, но и спуститься в столовую.
Хулия, несомненно, догадалась о благоприятных для нее суждениях, сложившихся у нас в голове, ибо она подошла с улыбкой и села как можно ближе к Буланже – за столом, служившим продолжением нашего. Она заказала чашку шоколада. Конечно, мы бы предпочли, чтобы она села где-нибудь подальше, но примите к сведению, сударыня, что у нас просто не было права сказать ей: «Идите-ка отсюда!» Она купила билет на пароход, как и мы, и могла здесь завтракать, обедать и делать все то, что позволено было нам. Однако, она сидела так близко от нас, что создавалось впечатление, будто мы завтракаем вместе.
И как Вы думаете, что было на завтрак у бедной девушки? Чашка шоколада, величиной с наперсток, – именно такие чашки привели в отчаяние наши желудки в первый день нашего пребывания в Испании. Это было оскорбительно для нас – она завтракала вроде бы вместе с нами, но у нее на завтрак была только чашечка шоколада, в то время как мы ели отбивные котлеты и красных куропаток из Ганбамонда и пили вино из Монтильи. И к тому же, разве она не сказала, бедняжка, что выбрала для поездки в Кадис тот самый день, когда туда отправлялись французы, ибо ей хотелось быть на том же корабле, что и они? А потому она вполне могла рассчитывать, что эти французы, столь любезные, что она предпочитала их своим соотечественникам, не дадут ей умереть с голоду в пути. Вы ведь согласитесь, сударыня: допустить, чтобы она позавтракала всего лишь чашечкой шоколада, это почти то же самое, что дать ей умереть с голоду.
Я толкнул коленом Жиро, Жиро передал блюдо с отбивными Дебаролю, Дебароль передал блюдо Буланже, а Буланже – Хулии. «Тарелку!» – воскликнула она. Как видите, сударыня, Хулия ожидала от нас подобной любезности, поскольку она приняла ее без всяких возражений. И вовсе не потому, что она чревоугодница, ничего подобного. Испанцы повинны только в шести смертных грехах; седьмой, чревоугодие, этот прелестный грех французских Жюли, совершенно не известен испанским Хулиям. Она завтракала потому, что надо было завтракать, не более того, но все же она это делала.
Так что мы решили обедать не на борту «Стремительного», пусть даже наш обед состоится несколько позднее, и, едва выпив кофе, поднялись на верхнюю палубу. Хулия, воздадим ей справедливость, проявила деликатность, хотя и, по правде сказать, несколько запоздалую, и с нами не пошла. На палубе я обнаружил Чикланеро, рассматривающего мои ружья. Он не только превосходный тореадор, но и первоклассный охотник.
Я никогда не видел его вблизи; это молодой человек лет двадцати четырех – двадцати пяти, не больше; его волосы неопределенного цвета, скорее светлые, чем темные, подстрижены почти как у всех, если не считать приподнятой косички: в дни празднеств она служит ему для того, чтобы цеплять к ней пышный бант, поверх которого он надевает шляпу.
Мы плыли довольно быстро. По мере того как река расширялась, берега ее становились все положе. Если бы какой-нибудь француз, уснув в Париже, пробудился бы в том месте, где мы находились, он готов был бы поклясться, что очутился в Голландии, и не преминул бы назвать Гвадалквивир менее поэтичным именем – Эско.
Только небо напоминало о том, под какой широтой мы находимся: синее небо, под которым вода в реке казалась желтой. По берегам реки, так много потерявшей в цвете по сравнению с небом, появлялось все больше водоплавающих птиц. Они носились стаями в тысячу, две тысячи, десять тысяч особей, наполняя воздух металлическим шумом своих крыльев и время от времени давая возможность увидеть на берегу то ли цаплю, то ли аиста, неподвижно стоящего на одной ноге, словно посаженное на кол чучело птицы, и хранящего эту неподвижность до тех пор, пока выпущенная мною пуля, взметнув в шести дюймах от него либо брызги воды, либо береговой ил, не выводила его из этого оцепенения, стряхнув которое, он медленно взмывал в небо, где еще долго выглядел белой точкой, становившейся все меньше и меньше, пока не исчезал из виду совсем. Чуть дальше Сан-Лукара мы заметили остов «Трахано». За три дня до этого здесь разыгралась драма, которую мы пытались описать. Несчастный «Трахано» был сильно поврежден; он лежал на боку, как страдающий больной. Несколько человек, издали напоминавших размером муравьев, видимо были заняты тем, как выяснилось при взгляде на них через подзорную трубу, что перетаскивали с судна груз, находившийся на его борту, на берег. Начиная с Сан-Лукара, где иногда сходят на берег, чтобы оттуда добираться до Кадиса, Гвадалквивир приобретает размеры по-настоящему полноводной реки. Уже здесь происходит его слияние с морем…
Маке и Жиро, чрезвычайно подверженные той странной болезни, от которой нельзя уберечься и от которой нет лекарств, предвидели дальнейшее. Маке сел на скамейку, как можно крепче опершись локтями о бортовую обшивку; Жиро постелил плащ за фок-мачтой и лег на него.
Оба они заранее побледнели. Дебароль, на вид совершенно нечувствительный к этому превращению реки в океан, брал у Чиютанеро уроки тавромахии. Я стал искать Буланже, но он исчез.
Волны и в самом деле усиливались; вместо того чтобы тихо плескаться, они закручивались в правильные завитки; вода поменяла свой цвет с желтого на голубовато-зеленый. Нам предстоял двухчасовой переход по морю из Сан-Лукара в Кадис. Для Жиро это было на час дольше, чем он мог вынести; для Маке – на полтора часа. Наконец появились верхушки домов белого Кадиса, словно выступавших из моря, поскольку не было еще видно земли, на которой стоит город: земля, казалось, ушла под воду. Белизна домов, выделяющаяся на фоне двойной лазури неба и моря, как говорил Байрон, ослепляла. К пяти часам, выполняя свое обещание, «Стремительный» вошел в порт; для меня это был первый случай, когда судно сдержало слово. Я был как нельзя более признателен ему за это. Порт был заполнен кораблями всех стран, всех видов и всех размеров. Прежде всего мы попытались разглядеть, нет ли среди всех этих мачт парусных судов какой-нибудь пароходной трубы. Две такие трубы мы заметили, так что вероятность удачи удваивалась. «Стремительный» бросил якорь в середине порта. Судно тотчас окружили маленькие лодки. Как это бывает во всех портах мира, нас обступила целая туча носильщиков. Мы перегрузили свои вещи, попрощались с Хулией и направились к молу. Там нас почтили своим вниманием таможенники. Если бы правительства знали, что даже самые очаровательные девушки утрачивают свое очарование, оказавшись под присмотром отвратительных зеленых мундиров, встречающихся повсюду, они бы несомненно уничтожили общее соглашение о пошлинах и налогах. Тем не менее, поскольку господа таможенники все же явились, я попытался из этого извлечь для себя выгоду и выяснить у них, что за пароходы стоят в порту и какой стране они принадлежат. Мне ответили, что это французские пароходы и называются они «Быстрый» и «Ахеронт». Оба пришли из Танжера. Это были немаловажные для нас сведения.
Мы добрались до ворот города. Именно там нас и ожидала настоящая таможенная служба: таможенники, встреченные нами на молу, были всего лишь передовым охранением. Особое подозрение у господ мытарей вызвал наш арсенал: они непременно желали знать, зачем нам нужно такое количество ружей. Подобного снаряжения в Кадисе не видели со времени взятия Трокадеро.
В Севилье нам дали адрес гостиницы «Европа», так что мы велели доставить нас туда. Нам было сказано, что это лучшая гостиница Кадиса.
Действительно, по сравнению с теми жуткими постоялыми дворами обеих Кастилий, Ла-Манчи и Андалусии, в каких нам довелось останавливаться, это заведение было настоящим дворцом. Нас поместили на втором этаже в самых лучших комнатах гостиницы. Не успели мы туда вселиться, как явился лакей и спросил, не угодно ли мне принять г-на Виаля, старшего помощника командира корвета «Быстрый». «Еще бы! – воскликнул я. – Впустите его!»
Вошел лейтенант Виаль. Это был сорокалетний мужчина с открытым и приятным лицом. Само известие о приходе офицера с «Быстрого» подсказывало нам, что должно произойти нечто важное, и мы не ошиблись. Лейтенант Виаль пришел сообщить нам от имени капитана Берара, что по приказу генерал-губернатора Алжира паровой корвет «Быстрый» и его команда отвлекаются от службы и передаются в наше распоряжение. Мы переглянулись с довольным видом, что не укрылось от глаз лейтенанта.
Он передал мне также очень любезное письмо майора Фере, шурина г-на Сальванди и зятя маршала Бюжо. Господин Фере писал мне от имени генерал-губернатора Алжира и приглашал приехать в Алжир, где, по его словам, меня с нетерпением ждут. Судно, приведенное капитаном Бераром, было совершенно определенно обещано мне г-ном Сальванди накануне моего отъезда. Я даже поставил это в качестве одного из условий моего путешествия, но, признаюсь, не ожидал, что правительство соизволит выполнить такое требование. И вот, словно Хартия, пароход стал реальностью. Оставалось лишь отыскать Александра.
Мы пригласили лейтенанта Виаля принять участие в нашем обеде. Он принял это предложение с готовностью, расположившей нас к нему; в эту минуту мы поняли, что станем наилучшими друзьями. Обед был сервирован отчасти на французский лад, что доставляло удовольствие глазу. Однако радость, которую вызывал в нас этот отблеск далекой родины, слегка омрачилась, когда в полутени дверного проема мы увидели контуры Хулии. Ясно было, что она решила компрометировать нас и на суше, и на море. Короче говоря, с очаровательной наивностью эта девушка вошла и села рядом с нами. Мы поинтересовались, обедала ли она. Она ответила: «Нет!» Спрашиваю Вас, сударыня, могли ли мы вечером поступить более сурово, чем утром? Нас могло удержать лишь одно щекотливое обстоятельство – присутствие лейтенанта Виаля. Но, по правде говоря, он не показался нам человеком, способным испугаться хорошенького личика, даже если выражение его отличалось привлекательностью несколько в большей степени, чем благонравием.
Поэтому, естественно, у всех нас одновременно вырвались слова: «Официант, тарелку!» Хулия не заставила себя упрашивать: как видно, бедная девушка совершенно не умела оказывать сопротивление. Увы, сударыня! Эта учтивость нас погубила: с этого времени Хулия возомнила себя членом нашей компании. Вечером она с великим трудом нас оставила и на следующее утро появилась снова. Вы спросите, как ее встретили мои спутники? Не знаю, ибо утром я отправился по делам: нанес визит нашему консулу, г-ну Юэ.
Сударыня! У меня остается время лишь на то, чтобы сказать Вам, какой милый человек г-н Юэ. Час отправки почты приближается, как приближается всякий роковой час, то есть галопом, а я еще должен написать в Кордову Парольдо и в Севилью Бюиссону, чтобы выяснить, нет ли новостей об Александре. Вам ведь известно, что Александр потерялся, да еще похуже, чем это случилось с Мальчиком с пальчик.
XLII
Увы, сударыня, я должен рассказать Вам нечто чрезвычайно грустное, а главное, чрезвычайно для нас оскорбительное. Нас только что выселили из гостиницы «Европа» за недостойное поведение. Само собой разумеется, что мы подверглись этому унижению из-за несчастной Хулии. Не буду Вам объяснять, кто оказался новоявленным Одиссеем, преследуемым современной сиреной, но факт заключается в том, что матушка в Кадисе была лишь предлогом. Я не собираюсь утверждать, что у Хулии вообще нет матери или что Хулия не питает к ней никакой нежной привязанности, но, кроме дочерней любви, у бедняжки была и иная. Я уже рассказывал Вам, сударыня, как, покоряясь этой любви, а возможно, чуточку еще и своему аппетиту, Хулия явилась к нам вчера в обеденное время и сегодня утром к завтраку.
Она пришла сегодня и к обеду. Но Вам следует знать, сударыня, что Испания – это страна строгих нравов, а владельцы гостиниц здесь просто пуритане. Наш хозяин был возмущен этими тремя визитами и на третий раз объявил Хулии, что он больше ее не впустит. Бедняжка решила, что это сделано по нашему распоряжению, и ушла в слезах. Однако, поскольку она считала нас добрыми малыми, у нее появились сомнения в отношении владельца гостиницы. Ей пришло в голову написать нам письмо, и она в самом деле его написала. Письмо раскрыло нам глаза на неучтивое поведение нашего хозяина. Конечно, на самом деле он оказывал нам большую услугу, но, как Вы знаете, сударыня, есть услуги, которые йредпочтительнее не оказывать. Эта была из числа тех, о каких просят и какие принимают исключительно в подобных случаях. Мы вызвали хозяина к себе и прочли ему длинное нравоучение по поводу почтительного отношения к дамам. Нам казалось, что негодяй будет оправдываться. Ничего подобного, сударыня: он взял на себя всю ответственность за случившееся и заявил нам, что ему пришлось поступить так во имя сохранения чести своего заведения. Я надменно потребовал счет. Хозяин принес его с надменностью, нисколько не уступавшей нашей. Но какое счастье, сударыня, что достойный владелец оказался так щепетилен касательно чести своей гостиницы! Выяснилось, что счет за пребывание там в течение суток уже достиг двухсот пятидесяти франков! Мы завопили от возмущения.
Надо Вам сказать, сударыня, что наши финансовые ресурсы почти исчерпаны. Я не устаю повторять, поскольку непременно будут повторять обратное, что мы путешествуем по Испании за свой счет, а деньги при такой беспокойной жизни, какую мы ведем, уходят быстро. Итак, увидев в счете сумму в двести пятьдесят франков за один день, мы возмутились. Замечу, что испанские владельцы гостиниц не знакомы с тем, что мы так разумно называем подробным счетом. Они предъявляют общий итог – и все. Им надо верить на слово, как Сиду. К сожалению, мы не такие богатые, как те евреи Бургоса, что дали взаймы золото дону Родриго, и потому нам пришлось натравить на хозяина «Европы» нашего финансиста Маке, урезавшего счет на пятьдесят франков. После этого, поскольку было уже слишком поздно, чтобы отыскивать носильщиков, мы стали перебираться на другое место сами. Вы представляете, сударыня, как мы брели по улицам Кадиса, держа свою поклажу в руках, ни дать ни взять как бродячие акробаты г-на Бильбоке, только без оркестра?
По дороге мы встретили Хулию; она попыталась присоединиться к нашему шествию и даже готова была что-нибудь понести. Однако мы поручили ее Одиссею объяснить ей, что нами и так было сделано предостаточно для поддержания за границей репутации французской галантности. Бедная Хулия со вздохом удалилась, оставив нам свой адрес. После долгих блужданий взад и вперед, вполне естественных для людей, не знающих города, мы добрались до гостиницы «Четыре Нации», где были встречены хозяином, лакеями, поварятами и кухонными служанками.
Наше приключение наделало много шуму; о происшествии стало известно. Естественно, хозяин гостиницы «Четыре Нации» был соперником хозяина гостиницы «Европа», и потому ему следовало быть с нами настолько же обходительным, насколько тот был груб. Стоило нам появиться в конце улицы, как хозяин, лакеи, поварята и кухонные служанки накинулись на нас, словно стая чаек на косяк сардин. Каждый настиг свою жертву и унес в руках какие-то вещи. Мы уже стали опасаться, как бы подобное чрезмерное рвение не обошлось нам дороже, чем крайнее нерадение, но, проверив весь свой багаж, к чести сотрудников гостиницы «Четыре Нации» никаких пропаж не обнаружили.
В итоге, почти нисколько не прогадав в удобствах, мы многое приобрели с точки зрения учтивого к себе отношения. В первую же минуту хозяин объявил нам, что в его доме постояльцы вольны принимать кого им угодно, и это явно доказывало, что причина нашего переселения не осталась ему неведомой. Но Вы подумайте, сударыня, сколь странен человеческий ум – никто из нас не обнаружил желание воспользоваться полученным разрешением.
Теперь, когда мы покончили с нашими злоключениями, разрешите мне рассказать Вам немного о городе; пока я не видел в нем почти ничего, кроме того, что можно увидеть по дороге из гостиницы «Европа», оставившей по себе память стыдливостью ее хозяина, до почты; но и этого достаточно для общего впечатления. Прежде всего, Кадис – любимое дитя солнца, пламенное око которого посылает ему самые жаркие свои лучи, так что кажется, будто весь город залит светом.
Только три тона улавливаются глазом: синий цвет неба, белый – домов и зеленый – жалюзи. Но какой синий, какой белый и какой зеленый! Ни кобальту, ни ультрамарину, ни сапфиру не сравниться с этой синевой; ни снег, ни молоко, ни сахар не превзойдут этой белизны; ни изумруд, ни зеленые краски Веронезе, ни патина не идут в сравнение с этой зеленью! Местами сквозь балконную решетку свисают ветви незнакомых мне растений, цветы которых горят на стене, как пурпурные звезды. Нигде в Испании я не видел таких высоких домов, как в Кадисе; дело в том, что город не может расти ни вправо, ни влево; узкий полуостров не позволяет ему расширяться, и он вынужден подниматься вверх; поэтому каждый дом Кадиса, приподнявшись на цыпочки, глядит либо в сторону гавани, либо в открытое море, устремляя свой взор к Севилье или к Танжеру. Из-за тесноты территории улицы Кадиса такие же узкие, как и в других городах Испании. Поспешим заметить, что и замощены они ничуть не лучше. Но вот что отличает Кадис от прочих городов Испании, хотя неясно, чему такое можно приписать: это единственный город, где я видел улицы, казалось, уходящие в небо. Вы понимаете, сударыня, что я хочу сказать? Такие улицы обрываются у пустоты и ограничиваются бесконечностью, и лазурь неба, открывающаяся у края двух белых линий домов, кажется невероятно, немыслимо яркой синью. Все здесь веселое, оживленное, и понятно, почему бессонные ночи любви и серенад даже в Испании называют ночами Кадиса.
Больше в Кадисе смотреть не на что – здесь нет ни памятников, ни дворцов, ни музеев, только кафедральный собор, довольно безвкусный, вот и все. В Кадис, как и в Неаполь, приезжают из-за синего неба, синего моря, прозрачного воздуха и дыхания любви, которое носится в этом воздухе. Вот почему Кадис так нравится путешественникам, хотя они и не понимают, что же им здесь нравится. Мы бродили по городу весь день вместе с нашим любезным консулом г-ном Юэ, но мне было бы крайне затруднительно рассказать Вам об увиденном, если не считать одной очень милой дамы, принявшей нас с чисто французской доброжелательностью и назначившей на завтра бал в мою честь.
Проходя через площадь, вероятно площадь Конституции, я зашел на почту. Никаких новостей об Александре не поступало, словно его не было в природе. К счастью, в полночь прибывает мальпост из Кордовы, и я надеюсь все новости о сыне узнать от него самого. Все это роковое приключение с Хулией выбило у меня из головы куда более важные заботы.
В ту минуту, когда мы собирались с визитом к командиру «Быстрого», доложили, что капитан Берар сам пришел к нам. Мы переглянулись пристыженные: нас опередили. Капитан Берар оказался человеком сдержанным, но исключительно вежливым. Он повторил все, о чем было сказано в письме, полученном мною накануне, а именно, что он сам и его судно находятся в полном моем распоряжении. В подтверждение своих слов он спросил, какие будут указания по поводу отплытия. Как Вы можете догадаться, сударыня, при обсуждении этого вопроса мы с капитаном состязались в предупредительности. Наконец было решено, что мы отправляемся 23-го утром.
Таким образом, нам предстояло провести в Кадисе еще два с половиной дня. Я был рад этому из-за того, что подобная отсрочка давала Александру время присоединиться к нам. Что же касается экипажа «Быстрого», то он должен был прийти в восторг и благословлять нас от всего сердца. Вы представляете, сударыня, что означает для несчастных офицеров, несущих службу между Ораном и Танжером, остановка на четыре дня в Кадисе.
Я думаю, по правде говоря, что визит вежливости капитана обернулся приятным времяпрепровождением. Он собирался пробыть десять минут, а провел у нас три часа. Это человек строгого нрава, но снисходительный к людям, с веселым складом ума. Думаю, мы с ним прекрасно поладим. После капитана нас навестили другие офицеры. Это очаровательные молодые люди, с которыми мы совершим поистине царское путешествие; они прекрасно знают Кадис и вызвались нас сопровождать.
Впрочем, было бы несправедливо по отношению к Жиро и Дебаролю утверждать, что для этого нам нужен кто-нибудь, кроме них; оба они уже побывали в Кадисе, правда в довольно плачевном состоянии: их чемоданы отправились неизвестно какой дорогой, но только не к своим владельцам. В итоге, когда нашим друзьям потребовались чистые рубашки, им пришлось отдать в стирку те, что были на них, и это заняло целый день. Но при фантазии Жиро и Дебароля это не так уж важно: больше у тебя на одну рубашку или меньше. Они сняли с кровати простыни, превратив их в тоги, и задрапировались в них на манер древних римлян. Искусство от этого только выиграло – Жиро целый день разбирал свои наброски, а Дебароль приводил в порядок свои записи. Именно в таких живописных нарядах их и застал г-н Юэ, пришедший познакомиться с ними; Жиро и Дебароль произвели на него сильное впечатление, которое, возможно, повредит его представлению о нас.
Прощайте, сударыня! Я очень боюсь, что, предаваясь удовольствию беседовать с Вами, могу пропустить час отправки почты.
P.S. Есть новости, неприятные и приятные; как я и предполагал, письмо мое не ушло, и я снова его открываю. Александр подал признаки жизни. Я получил от него письмо, точнее рисунок, датированный 18 ноября. На рисунке изображена маленькая ручка, открывающая дверь. На пороге стоят Александр и Парольдо, готовые войти в эту дверь; за ними следит испанец грозного вида, закутанный в плащ. Все это должно означать, что Александр затеял комедию плаща и шпаги и, как Шекспир и Мольер, играет в ней главную роль. Не знаю, сколько актов будет в этой комедии, но убежден, что на полученном мною рисунке изображен только первый. Возможна, опасаясь нескромности почты, он предпочел карандаш перу. Что касается его возвращения, то об этом нет ни слова, и это заставляет меня думать, что начатая комедия чрезвычайно занимательная.
XLIII
Поскольку с утра нам предстоит совершить прогулку вдоль бухты, накануне вечером мы посетили лавки, торгующие циновками. На этом товаре Кадис специализируется. Нет ничего более опрятного, прелестного и изящного, чем эти большие белые циновки, гибкие, как полотно, с рисунком и красно-черной каймой. Я закупил невесть сколько метров этих циновок, которые «Быстрый» потрудится перевезти в Алжир, и будет очень обидно, если в Алжире мне не удастся найти возможность переправить их во Францию.
В девять часов утра г-н Юэ заехал за нами в карете. Я отправился на почту – она находится на площади Мина, а вовсе не Конституции, как я думал. Но было слишком рано, и письма еще не разбирали. Мне нет нужды объяснять Вам, сударыня, что иллюстрированное послание Александра, полученное мною вчера, меня не слишком успокоило. Меня тревожил испанец в сомбреро, закутанный в плащ до самых глаз; к счастью, за четыре франка Провидение снабдило Александра ножом из Шательро – это немного успокаивало.
Но что почти окончательно освобождало меня от тревоги – так это открытая дверь и протянутая ручка. Очевидно, в стане противников у Александра были союзники; раз так, то союзники, союзник или союзница Александра были врагами, врагом или врагиней испанца.
Я забыл Вам сказать, что на рисунке был еще пес – пудель, сопровождавший ревнивца (то, что это ревнивец, не вызывает сомнений). У этих чертовых пуделей (порода, исчезнувшая во Франции, так же как карлины) хорошее чутье; однако Александр видел этого пуделя, раз он его нарисовал, а раз он его видел, то будет его остерегаться.
Итак, я вышел из почты, не продвинувшись в своих рассуждениях ни на шаг по сравнению с вчерашним днем. Полагая, что г-н Юэ лучше меня осведомлен по части испанских нравов, я показал ему рисунок; но г-н Юэ ничего нового в нем не увидел. Нас ждали две кареты; пять человек поместились в одной и четыре в другой. Господин Юэ привез с собой двух своих друзей. Я робко заговорил о том, что надо захватить с собой провизию. Господин Юэ приподнял крышку багажного сундука, и я увидел, что в этом отношении большего желать не приходится.
Полчаса, а может быть и три четверти часа, мы ехали по узкому, как лента, молу; по правую руку от нас было море, по левую – солончаки. На конце этой ленты, изгибом связанной с Европой, Кадис словно плывет в море, напоминая те маленькие кораблики с белыми парусами, какие в бассейне Тюильри дети пускают на веревочках. Примерно в получетверти льё от города мол преграждается редутом. Вскоре мы поехали уже не вдоль берега, а повернувшись к морю спиной, и направились в глубь острова Леон. Слева от нас был Трокадеро, а справа – широкая равнина, орошаемая водами Гвадалеты.
Именно на этой равнине, у берегов реки со столь нежным названием, король Родриго дал сражение, длившееся восемь дней. Вам ведь известно это поэтическое предание, сударыня, не так ли? Подобно Трое и Италии, Испания погибла из-за любви к женщине. Однако все знают Гомера, творца «Илиады», и Тита Ливия, рассказчика, а возможно, и сочинителя римских преданий, но никто не знает авторов изумительных романсеро, которые делают известными даже во Франции имена Родриго, дона Хулиана и Ла Кавы. Между тем все обрушившиеся на несчастного короля беды были предсказаны ему в тот день, когда он проник в Геркулесову башню. Да, сударыня, ту самую Геркулесову башню, руины которой мы видели в Толедо; король Родриго открыл вход в нее тысячу сто тридцать семь лет назад; он рассчитывал обнаружить там клады, оставленные Геркулесом, а нашел только грозную надпись на стене: