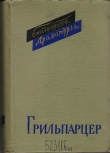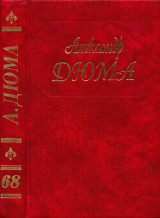
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 42 страниц)
Annotation
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
КОММЕНТАРИИ
I
VII
VIII
XII
XIII
XVI
XVII
XVIII
XIX
XXI
XXII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXIII
XXXV
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
СОДЕРЖАНИЕ
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
I
Байонна, 5 октября, вечер.
Сударыня!
Перед моим отъездом Вы взяли с меня слово написать Вам, причем не одно письмо, а три или четыре тома писем. Вы правы, ибо Вам известно, что я пылок, когда речь идет о чем-то значительном, и забывчив, когда дело касается мелочей, что я люблю давать и давать щедро. Я дал слово и, как видите, прибыв в Байонну, приступил к выполнению своего обещания.
Я не отличаюсь скромностью, сударыня, и, не буду скрывать от Вас, рассчитываю, что эти письма будут опубликованы. Признаюсь даже, с тем дерзким прямодушием, какое, в зависимости от характера тех, кто со мной соприкасается, делает одних моими добрыми друзьями, а других – ярыми недругами, – признаюсь даже, повторяю, что я начинаю писать их, пребывая в этом убеждении; но не беспокойтесь: эта моя убежденность никак не повлияет на форму моих посланий. Читатели вот уже пятнадцать лет, с тех пор как произошла моя первая встреча с ними, охотно следуют за мной по различным дорогам, по каким я хожу и какие иногда прокладываю сам посреди обширного лабиринта литературы, который одним представляется вечно безводной пустыней, а другим – вечно девственным лесом. И я надеюсь, что и на этот раз они с обычной своей доброжелательностью откликнутся на поданный им знак и последуют за мной по хоженой и прихотливой тропе, по которой я собираюсь впервые прогуляться. Кроме того, читатели ничего не потеряют, ибо путешествие, подобное тому, какое я собираюсь предпринять – без намеченного маршрута, без точного плана, в Испании подчиненное лишь извивам дорог, а в Алжире – воле ветров, – такое путешествие открывает широкий, почти неограниченный простор для эпистолярного творчества, позволяет опускаться до самых заурядных подробностей и касаться самых возвышенных предметов.
И, наконец, для меня есть особая прелесть в том, чтобы отлить мою мысль в новую форму, переплавить мой стиль в новом горниле, заставить сверкать какой-нибудь новой гранью камень, который я извлекаю из рудников моего мозга, будь то алмаз или страз, и которому время, этот неподкупный гранильщик, рано или поздно установит истинную цену; в этом, повторяю, есть особая прелесть, и я уступаю ей; как Вы знаете, сударыня, творчество для меня – дитя фантазии, если только это и не есть сама фантазия. Итак, отдаюсь ветру, который подгоняет меня в этот час, и пишу Вам…
Я пишу именно Вам, сударыня, потому что Вы обладаете умом одновременно строгим и игривым, серьезным и детским, прямым и своенравным, сильным и очаровательным; потому что Ваше положение в свете позволяет Вам если и не все говорить, то все слушать; потому что Вы знакомы с обычаями, литературой, политикой, искусством и, я бы даже сказал, науками; потому, наконец (позвольте Вам это сказать, а вернее, повторить, ибо, мне думается, Вам это уже не раз говорили), что стихия, где только и может проявиться то остроумие, какое людям порой угодно за мной признавать, – это беседа, одухотворенная гостья наших салонов, такая редкая за пределами Франции, и для меня писать Вам означает просто-напросто снова беседовать с Вами. Правда, читатель будет третьим нашим собеседником, но от этого наш разговор нисколько не пострадает. Я всегда замечал, что становлюсь остроумнее, чем обычно, когда догадываюсь, что кто-то бесцеремонно подслушивает меня, стоя за дверью и припав ухом к замочной скважине.
И последнее, что я хотел бы Вам сказать, сударыня: Вы избегаете всякой гласности и совершенно правы в этом, поскольку в наши дни она часто влечет за собой оскорбление. Оскорбление, нанесенное мужчине, всего лишь неприятность – его отвергают и за него мстят. Но для женщины оскорбление больше, чем неприятность: это несчастье, ибо, бесчестя того, кто его нанес, оно одновременно пятнает ту, которой адресовано. Чем белее одежда, тем виднее малейшие брызги падающей на нее грязи.
И потому вот что я хочу предложить Вам, сударыня. В прекрасной Италии, столь любимой Вами, были три благословенные женщины, прославленные тремя божественными поэтами. Этих женщин звали Беатриче, Лаура и Фьяметта. Выберите одно из этих трех имен, но не думайте, что из-за этого я способен вообразить себя Данте, Петраркой или Боккаччо. Как Беатриче, Вы способны иметь звезду во лбу, как Лаура – ореол вокруг головы, как Фьяметта – пламя в груди: но будьте спокойны, оно не распалит мою гордость. Так каким именем я должен называть Вас? Дайте мне это знать в ближайшем Вашем письме. Есть ли еще что-нибудь такого же рода, о чем я хотел бы Вам сказать? Пожалуй, нет.
Ну а теперь, когда мое короткое предисловие закончено, разрешите мне объяснить, на каких условиях я уехал, с какой целью покинул Вас и с какими, возможно, намерениями возвращусь. Есть на свете один высочайшего ума человек, сохранивший после десятилетнего пребывания в Академии остроумие, после пятнадцатилетних парламентских дискуссий – учтивость и после пяти или шести министерских портфелей – доброжелательность. Этот политик начинал с литературной деятельности и сейчас, перестав писать что-либо, кроме законов, очень ревниво (для политиков случай редкий) относится к тем, кто еще продолжает писать книги. Всякий раз, когда перед ним на бессмертном древе искусства распускается цветок или созревает плод, он, уступая первому порыву, поспешно хватает их – в отличие от другого политика, никогда не уступавшего своему первому порыву, и знаете, почему? Потому, что такой порыв всегда бывал добрый.
И вот у этого человека однажды возникла мысль своими глазами увидеть знойную землю Африки, которую сделало тучной столько пролитой на ней крови, которую обессмертило столько совершенных на ней подвигов и на которой столкнулось столько противоположных интересов тех, кто на нее покушается, и тех, кто ее обороняет. Между двумя сессиями парламента он съездил туда и по возвращении, будучи поражен величием представшего его глазам зрелища и испытывая ко мне определенное уважение, захотел, чтобы я в свою очередь увидел то, что открылось его взору. «Почему он этого захотел?» – задаст Вам вопрос Ваш банкир.
Потому что некоторым людям – тем, чьи чувства сильны, искренни и глубоки, – свойственна непреодолимая потребность разделить с другими полученные впечатления; им кажется недалеким и пошлым эгоизмом сохранять только для себя то необычайное потрясение мысли, то трепетное биение сердца, какие испытывают все возвышенные натуры, глядя на творения Бога или на шедевры, созданные руками человека. Бекингем бросил великолепный алмаз на то место, где Анна Австрийская призналась ему в любви: ему хотелось, чтобы там, где он ощутил счастье, кто-нибудь еще почувствовал себя счастливым.
Так что однажды утром я получил от министра-путеше-ственника, министра-академика и министра-литератора приглашение позавтракать вместе с ним. Я не видел его почти два года, и причина этого в том, что у меня тоже было очень много дел; если бы не это, то, рискуя подвергнуться порицанию со стороны моих друзей – республиканцев, либералов, прогрессистов, фурьеристов и человеколюбцев, – заявляю, что виделся бы с ним чаще. Как я и догадывался, приглашение к завтраку оказалось всего лишь предлогом, чтобы встретиться лицом к лицу за столом, который не был бы канцелярским. Цель же состояла в том, чтобы сделать мне два предложения: во-первых – присутствовать на свадьбе герцога де Монпансье в Испании и во-вторых – посетить Алжир.
Любое из этих двух предложений я принял бы с благодарностью, а тем более оба вместе. Так что я согласился. Хотя, как опять-таки Вам скажет Ваш банкир, это было крайне нерасчетливо, поскольку я оставлял «Бальзамо» на треть опубликованным, а мой театр почти построенным. Что поделать, сударыня, такой уж я есть, и Вашему банкиру будет очень трудно меня переделать. Конечно, именно я произвожу на свет мысль, зарождающуюся в моем мозгу, но, едва зародившись, эта честолюбивая дочь моего разума, вместо того чтобы, как Минерва, выйти из моей головы, водворяется, поселяется, укореняется в ней, овладевает моим рассудком, моим сердцем, моей душой, а в конечном счете и всем моим существом, и из покорной рабыни, которой ей полагалось бы быть, становится полновластной хозяйкой и заставляет меня проделывать какие-нибудь из тех поразительных глупостей, за которые люди мудрые попрекают, глупцы рукоплещут, а женщины порой вознаграждают.
В итоге я принял решение приостановить «Бальзамо» и, пусть и на короткое время, покинуть мой театр. Вы понимаете, сударыня, что притяжательное местоимение «мой» перед словом «театр» я ставлю намеренно. По логике вещей мне следовало бы сказать «наш театр», я отлично это знаю, но что поделать: я похож на тех придурковатых отцов, что никак не могут отвыкнуть от привычки говорить «мой сын», хотя ребенка выкормила няня, а воспитал учитель.
В связи с этим позвольте мне сделать небольшое отступление по поводу бедного театра, о котором уже сказано столько глупостей, хотя, надеюсь, это не помешает и впредь распространять о нем нелепости. Я собираюсь рассказать Вам то, о чем никто не знает, – другими словами, о секрете его рождения, о тайне его воплощения. Любопытно ведь всякое появление на свет. Так что послушайте меня несколько минут, а затем мы вернемся в Байонну, и обещаю Вам, что, если только не сломается почтовая карета, мы сегодня же вечером непременно отправимся в Мадрид.
Вы помните, сударыня, первое представление «Мушкетеров», но не «Мушкетеров королевы» (у королевы никогда не было мушкетеров), а мушкетеров короля? Спектакль шел в Амбигю, и на нем присутствовал его высочество герцог де Монпансье. В противоположность моим собратьям-драматургам, которые позволяют судить их в такой решительный час заочно и прячутся за стойками кулис или за задником сцены, отваживаясь приблизиться к какой-нибудь декорации, лишь когда их побуждают к этому аплодисменты или тревожит свист в зале, я безбоязненно встречаю и рукоплескания, и шиканье зрителей, причем если и не с безразличием, то с полнейшим спокойствием: мне случалось, оказав в своей ложе гостеприимство незнакомому путешественнику, заблудившемуся в коридорах театра, расстаться к концу спектакля с этим незнакомцем, не дав ему повода догадаться, что он провел вечер с автором пьесы, вызвавшей его аплодисменты или, напротив, освистанной им.
В тот вечер я находился в ложе напротив его высочества, с которым до этого не имел чести говорить, и развлекался (что, согласитесь, вполне позволительно для автора пьесы), наблюдая за молодым принцем: его лицо то озарялось улыбкой, то омрачалось тенью недовольства, с юношеской непосредственностью подчиняясь различным приятным и неприятным эмоциям.
Случалось ли Вам, сударыня, сосредоточив свое внимание лишь на каком-то одном человеке, настолько погрузиться в размышления, что Вы переставали видеть, слышать и замечать кого бы то ни было еще вокруг и все остальное для Вас просто исчезало? Ведь случалось, верно? В такие минуты вы как бы выключаетесь из жизни, хотя живете при этом ничуть не меньше. Действительно, вид юного принца пробудил во мне целый мир воспоминаний.
Когда-то – увы, уже много лет прошло с тех пор! – жил на свете человек, которого я любил так, как любят одновременно и отца, и сына, то есть самой почтительной и глубокой из всех Любовей. Как смог он почти с первых минут знакомства взять такую исключительную власть надо мною? Не знаю. Чтобы воскресить его, я отдал бы свою жизнь – вот все, что я могу сказать. И он тоже чуточку любил меня, я уверен в этом, иначе он не одаривал бы меня всем, о чем я его просил. Хотя, по правде говоря, я всегда просил у него лишь то, что делает дарителя едва ли не должником просителя. Один Бог знает, сколько благих тайных милостей расточал я от его имени. Если бы наши дороги не пересеклись и я один не взывал бы к милосердию в то время, когда другие взывали к правосудию, то сердце, что сейчас бьется, уже давно охладело бы, а уста, что сейчас шепчут молитвы, были бы уже немы.
Есть несчастные люди, ни во что не верящие, слабые, вечно сомневающиеся в существовании силы, безвольные, ищущие обоснование мужских поступков и стремящиеся опорочить всякий мужской поступок, который им непонятен. Кто-то из них сделал открытие, что этот человек назначил мне пенсион в тысячу двести франков, другие утверждают, что он подарил мне единовременно пятьдесят тысяч экю. Прости меня Господи, об этом даже написали где-то, не помню где! Сказать Вам, сударыня, что я лично получил от него за всю его – увы! – такую короткую жизнь? В тот вечер, когда шло представление «Калигулы», он подарил мне бронзовую статуэтку, а на следующий день после его свадьбы я получил пакетик с перьями. Надо сказать, правда, что эта статуэтка была подлинным произведением Бари, а этими перьями я написал «Мадемуазель де Бель-Иль». Гамлет был прав, говоря: «Man delights not me!»[1] – «Человек меня не восхищает!», если только те, кто пишет подобные гнусности, заслуживают имени «человек».
Вот какие воспоминания всколыхнулись во мне, когда я не сводил глаз с принца. Тот, другой принц, был его брат. Вдруг я увидел, как герцог де Монпансье подался назад и побледнел. Пытаясь выяснить причину испытанного им тягостного впечатления, я перевел глаза с ложи на сцену, и мне хватило одного взгляда, чтобы все понять. Вместо капли крови, которая в тот миг, когда падает голова Карла I, должна была просочиться сквозь доски эшафота, оставив отметину на лбу актера, игравшего роль Атоса, половину его лица покрывало кровавое пятно. При виде этого зрелища принц и содрогнулся от отвращения.
Не могу передать Вам, сударыня, какое тягостное ощущение я испытал, заметив это движение принца, которое он не смог сдержать. Даже если бы весь зал разразился свистом, это произвело бы на меня меньшее впечатление. Я вскочил со своего места, кинулся к ложе принца и вызвал доктора Паскье, находившегося рядом с его королевским высочеством. Когда доктор вышел, я сказал ему: «Паскье, передайте от моего имени принцу, что с завтрашнего дня сцена с эшафотом будет выброшена».
Что следует мне пояснить Вам, сударыня, вернее, не Вам, а только что упомянутым мной людям? Между избранными натурами существует особое взаимопонимание, позволяющее им восходить по всей цепи мысли, коль скоро они вошли в соприкосновение хотя бы с краешком последнего ее звена. Принц, никогда не встречавший меня в Тюильри, где я был всего один раз, 29 июля 1830 года, помнил о моей бескорыстной любви к его брату; он понимал, какие чувства заставили меня после роковой и преждевременной гибели герцога Орлеанского прервать отношения, которые я, возможно, мог бы укрепить с кем-нибудь из тех, кто его пережил; он слышал прощальный крик отчаяния, который я издал вместе со всей Францией; затем он видел, как я удалился, отказавшись употребить чье-либо влияние, готовый к новым битвам в царстве искусства, где я стремлюсь тоже быть принцем. Герцог де Монпансье пожелал познакомиться со мной. Нашим посредником был доктор Паскье. Неделю спустя после спектакля я оказался в Венсене и, беседуя с герцогом де Монпансье, впервые забыл на несколько минут, что герцог Орлеанский, этот принц с душою артиста, мертв. Итогом этой беседы стало обещание господина графа Дюша-теля выдать разрешение на создание театра тому человеку, которого я подберу.
Во время репетиций «Мушкетеров» я познакомился с г-ном Остеном. Я смог оценить его административные способности, его литературные познания, а главное, его стремление доносить до различных слоев общества литературу, способную просвещать и воспитывать. Я предложил г-ну Остену стать директором театра, который предстояло построить. Он согласился. Остальное Вы знаете, сударыня; Вы видели, как рухнул особняк Фулон, и вскоре увидите, как из-под искусного резца Клагмана из этих руин поднимется изящный фасад, воплощающий в камне мой непреложный замысел. Сооружение опирается на античное искусство, на трагедию и комедию, то есть на Эсхила и Аристофана. Эти два гения, заложившие основы театра, поддерживают Шекспира, Корнеля, Мольера, Расина, Кальдерона, Гёте и Шиллера, Офелию и Гамлета, Фауста и Маргариту, изображенных посредине фасада и символизирующих христианское искусство, подобно тому, как две кариатиды, стоящие внизу, символизируют искусство античное. А гений человеческого ума пальцем указывает на небо человеку, высокое лицо которого, по выражению Овидия, создано для того, чтобы глядеть в небо.
Этот фасад, сударыня, поясняет все наши литературные планы: наш театр, названный в силу определенных причин Историческим театром, следовало бы назвать с бблыиимоснованием Европейским театром, ведь царить на его сцене станет не только Франция, и вся Европа будет вынуждена явиться туда как данник, подобно тому, как в давние времена феодальные сеньоры приходили воздать почести Луврской башне. За неимением тех великих мастеров, какие носят имена Корнель, Расин и Мольер и погребены в их королевской усыпальнице на улице Ришелье, мы представим тех мощных гениев, кого зовут Шекспир, Кальдерон, Гёте, Шиллер! «Гамлет», «Отелло», «Ричард III», «Врач своей чести», «Фауст», «Гец фон Бер-лихинген», «Дон Карлос» и «Пикколомини», сопровождаемые произведениями наших современников, помогут облегчить нашу грусть из-за вынужденного отсутствия «Сида», «Андромахи» и «Мизантропа». Таково наше рекламное оповещение, высеченное в граните, сударыня, и если кто-то лжет в нем, то только не я.
Теперь, коснувшись мимоходом этой темы, сударыня, я возвращаюсь, но не в Байонну, а в Сен-Жермен. Направляясь из старого гостеприимного города к министру, я еще накануне и не предполагал, что мне придется куда-либо уезжать, но, вернувшись туда, назначил отъезд на следующий день. Нельзя было терять время. В любых обстоятельствах, а тем более в сложившихся для меня в этот момент, двадцать четыре часа – весьма короткая прелюдия к трех– или четырехмесячному путешествию. К тому же я рассчитывал отправиться в него в хорошей компании. Путешествовать одному, пешком и с посохом в руках подобает беззаботному студенту или поэту-меч-тателю. К несчастью, я уже вышел из того возраста, когда обитатель университетов примешивает на больших дорогах свою веселую песню к грязной брани ломовиков, а если я и поэт, то поэт деятельный, борец и воин прежде всего, мечтателем же становлюсь после победы или поражения – и только.
Впрочем, идея поездки в Испанию уже забрезжила полгода назад на одном из наших вечеров как призрачная греза. Собравшись в конце моего сада, между моим летним рабочим кабинетом и зимним помещением для моих обезьянок, мы – Жиро, Буланже, Дебароль, Маке, мой сын и я – сначала устремили взгляд в даль необъятного горизонта, охватывающего от Люсьенна и до Монморанси шесть льё самого дивного края, какой только есть на свете, а так как человеческой натуре свойственно желать прямо противоположное тому, что она имеет, мы стали обсуждать не эту равнину, дарующую прохладу, не эту полноводную реку, не эти холмы, поросшие тенистыми деревьями с зеленой листвой, а Испанию, и принялись мечтать о ее каменистых сьеррах, о ее безводных реках, о ее выжженных песчаных равнинах. И вот тогда, в порыве восторга, мы, сплотившись подобно Горациям г-на Давида, дали клятву отправиться в Испанию вшестером.
Затем, естественно, жизнь потекла совсем не так, как ожидалось, и я полностью забыл и о клятве, и даже об
Испании, но в одно прекрасное утро, спустя три месяца после этого вечера, Жиро и Дебароль, облаченные в дорожную одежду, постучали в мою дверь, интересуясь, готов ли я. Они застали меня ворочающим Сизифов камень, который я каждый день толкаю в гору и который каждый день сваливается на меня. Я на минуту оторвал глаза от бумаги, на минуту отложил в сторону перо, дал моим гостям несколько адресов, снабдил их несколькими рекомендательными письмами и обнял их, тяжело вздыхая и с завистью вспоминая свободу моих юных дней – ту, что сохранили мои друзья, а я потерял. Наконец, я проводил их до двери, проследил за ними до поворота дороги и вернулся назад – задумчивый, безучастный к ласкам моей собаки, не слыша криков моего попугая; потом я пододвинул кресло к моему столу, к которому я навечно прикован, снова взял перо, снова устремил взгляд на бумагу, и вновь мои мысли заработали, рука привычно начала трудиться, и работа над «Джузеппе Бальзамо», начатым за неделю до этого, неумолимо возобновилась. Не говорю уж о театре: поднявшись из земли к великому изумлению парижан, получивших неизвестно откуда оповещение о его смерти почти в то самое время, когда я оповестил о его рождении, он начинает расти как огромный гриб посреди развалин особняка Фулон, уже приподнимая их своей шляпкой.
И вот, благодаря одному из тех капризов судьбы, которые посредством прямо противоположных начал превращают случай в божество почти столь же могущественное, как рок, неожиданное событие отрывает меня от моего романа и моего театра, чтобы направить в Испанию, желанную, но уже поставленную мною в ряд тех фантастических стран, куда попадают только те, кого зовут Жиро или Гулливер, Дебароль или Гарун аль-Рашид. Вы хорошо знаете меня, сударыня; Вам известно, что я человек быстрых решений. Самые главные решения в моей жизни я принимал, не колеблясь и десяти минут. Поднимаясь по откосу в Сен-Жермене, я встретил своего сына и пригласил его поехать со мной; он согласился. Вернувшись к себе, я написал Маке и Буланже, сделав им то же предложение.
Я отправил оба письма со своим слугой – одно в Шату, второе на Западную улицу. Должен признаться, что эти письма больше напоминали циркуляры. У меня не было времени видоизменять фразы. К тому же они были посланы двум людям, занимавшим равное место в моем уме и сердце. Послания были написаны нижеследующим образом и не несли в себе иных отличий, кроме тех, какие читатель легко заметит и без моих указаний:
Я уезжаю завтра в Испанию и Алжир;
xomVmeЛи отпРавиться со мной?
Если да, то остается позаботиться лишь о дорожном сундуке,
однако ^выберите его как можно меньшего размера.
Все остальное я беру на себя.
Твой
Ваш
Ал. Дюма.
Мой слуга нашел Маке на острове Шату; он расположился на траве во владениях г-на Алигра и удил казенную рыбу. Однако, занимаясь ужением, он одновременно и писал, а так как именно в это время он, вероятно, строчил одну из известных Вам прекрасных страниц, то совершенно забыл о трех-четырех орудиях истребления, окружавших его, и, вместо того чтобы удочками вытягивать карпов на берег, позволил карпам утащить удочки в воду.
Поль (позднее я расскажу Вам его биографию, сударыня) прибыл вовремя, чтобы ухватить великолепное камышовое удилище (arundo donax[2]), которое с быстротой молнии тащил вниз по течению карп, торопившийся в Гавр по каким-то неотложным делам.
Маке поправил свою наполовину развалившуюся камышовую удочку, захлопнул небольшую папку, которую он брал с собой на рыбалку, распечатал мое письмо, раскрыл глаза от удивления, во второй раз прочитал шесть написанных мною строк, собрал свои четыре рыболовных орудия и направился в Шату, чтобы заняться поисками дорожного сундука требуемых размеров. Он принял предложение.
Само собой разумеется, что Маке еще не успел дойти до края острова, а карп уже добрался до Мёлана: двигался он весьма быстро еще и потому, что ему ничего не приходилось тащить; кроме того, он мимоходом позавтракал зерном, которым его угостил Маке, и закусил крючком, присвоенным им, по-видимому, в качестве средства, способствующего пищеварению.
Дальше Поль поехал по железной дороге, на некоторое время отказавшись от загородных пешеходных прогулок, и прибыл на Западную улицу, в дом № 16. Там он обнаружил Буланже, погруженного в размышления перед большим белым холстом: это была его картина для выставки 1847 года от Рождества Христова. Она должна была изображать поклонение волхвов. Вдруг Буланже увидел, как на его белом холсте вырисовывается черное пятно, и решил, что это эфиопскому царю Мельхиору достало любезности лично явиться к нему позировать. Но это был всего лишь Поль. Однако Поль принес мое письмо, и потому был принят столь же благосклонно, как если бы его черная голова была увенчана короной Сабейского царства.
Буланже отложил палитру, на которой он смешивал краски, зажал зубами поперек рта девственно чистую кисть, предназначенную для будущего шедевра, взял из рук Поля мое письмо, вскрыл его, ущипнул себя, чтобы увериться, что он не спит, расспросил Мельхиора, убедился в серьезности предложения и, откинувшись в кресле, куда положил до этого свою палитру, стал размышлять. Через несколько минут, закончив размышления, он принялся обследовать свою мастерскую, пытаясь отыскать за каким-нибудь холстом дорожный сундук, подходящий к данному случаю.
На следующий день, ровно в шесть часов, все были в дилижансном дворе Лаффита и Кайяра. Вы ведь знаете, какую картину обычно являет собой дилижансный двор в шесть часов вечера, не так ли? Дезожье написал по этому поводу очаровательный куплет, который Вам неизвестен, поскольку бедняга Дезожье умер как раз в то время, когда Вы родились.
Каждый из отъезжающих должен был с кем-нибудь попрощаться; крутом слышались, словно в первом круге Ада, о котором говорит Данте, бессвязные слова, гремевшие в воздухе; видны были руки, высовывавшиеся из окон карет; каждый раз, когда в ответ на зов нетерпеливого кондуктора кто-нибудь уже направлялся к дилижансу, слышались призывные крики. Все давали какие-нибудь наставления, ответом на которые были возражения или обещания. В разгар этой суеты пробило шесть часов; руки самых упрямых вынуждены были разжаться, слезы полились обильнее, рыдания усилились, вздохи стали слышнее. Я подал пример и устремился внутрь дилижанса; за мной последовал Буланже, затем Александр; Маке поднялся последним, давая наставления, чтобы ему писали в Бургос, Мадрид, Гранаду, Кордову, Севилью и Кадис; по поводу второй половины путешествия ему пришлось давать указания позднее. Что касается Поля, то ему ни с кем не надо было прощаться, и потому он уже давно устроился рядом с кондуктором.
Четверть часа спустя весьма хитроумное механическое устройство подняло наш кузов и мягко опустило его на железнодорожную платформу Тотчас же до нас донеслось едкое дыхание паровоза; послышалось скрежетание железа; огромная машина сотряслась; мимо нас слева и справа стремительно понеслись фонари, напоминавшие факелы в руках домовых на ночном шабаше, и, оставляя за собой длинный хвост искр, мы покатили к Орлеану
II
Байонна, 5 октября 1846 года.
В своем предыдущем письме я так много рассказывал Вам о себе, что едва нашел там местечко для своих спутников. Позвольте мне сказать Вам о них пару слов. Жиро познакомит Вас с их внешним обликом, а я – с их характерами.
Луи Буланже – знакомый Вам художник-мечтатель, всегда чувствительный к красоте, в каком бы виде она ни представала, почти в равной степени восторгающийся формой вместе с Рафаэлем, цветом вместе с Рубенсом и фантазией вместе с Гойей. Для него всякое великое произведение велико, и, в отличие от тех ничтожных умишек, чей бесполезный труд состоит в том, чтобы все принижать, он сдается без борьбы, преклоняется перед человеческими творениями и падает ниц перед творениями Бога, восторгаясь или молясь. Человек образованный, получивший воспитание в своей мастерской, проведший всю жизнь в поклонении искусству, он не обладает никакими навыками насилия, необходимыми путешественнику. Он никогда не садился на лошадь, никогда не прикасался к огнестрельному оружию; и тем не менее, сударыня, я уверен, что, если в ходе нашего путешествия представится случай, он вскочит в седло, как пикадор, и выстрелит из ружья, как эскопетеро.
Что касается Маке, моего друга и сотрудника, которого Вы знаете меньше, сударыня, то Маке, будучи, вероятно, человеком, работающим больше всех на свете, если не считать меня, мало бывает на людях, мало себя показывает, мало говорит; это строгий и в то же время яркий ум, которому знание древних языков добавило учености, не наносящей ущерба его самобытности. У него невероятно сильная воля, и если, поддаваясь первому порыву, он инстинктивно проявляет какие-то чувства, то сразу же, будто стыдясь того, что ему кажется слабостью, недостойной мужчины, он загоняет их в темницу своего сердца, словно учитель, поймавший бедных маленьких прогульщиков и с плеткой в руках безжалостно водворяющий их в класс.
Этот стоицизм придает ему нечто вроде нравственной и физической несгибаемости, которая наряду с преувеличенными представлениями о верности входит в число двух его единственных недостатков – никаких других я у него не знаю. К тому же он привычен ко всем физическим упражнениям и незаменим в любых обстоятельствах, где надо обладать упорством, хладнокровием и мужеством.
Что мне сказать Вам о моем сыне, которого Вы так настойчиво балуете, что если бы он не называл Вас своей сестрой, ему бы следовало называть Вас своей матерью? Александр появился на свет в тот сумеречный час, когда день уже кончился, а ночь еще не наступила; отсюда это соединение противоположностей, образующее его странную личность, – он соткан из света и тени: ленив и деятелен, ненасытен и умерен в еде, расточителен и бережлив, подозрителен и легковерен. Он пресыщен и чистосердечен, беспечен и предан, сдержан на язык и может дать волю рукам; он изо всех сил издевается надо мной и любит меня всем сердцем и, наконец, в любую минуту готов украсть у меня шкатулку с деньгами, как Валер, и биться за меня, как Сид.
При этом он обладает блистательным остроумием, таким безудержным, увлекательным и беспрестанным, какого мне никогда не приходилось слышать из уст юноши двадцати одного года; оно подобно плохо скрытому пламени и проявляется ежеминутно: когда он погружен в мечтательность и когда возбужден, когда все вокруг спокойно и когда наступает опасность, когда он улыбается и когда плачет. К тому же он твердо держится в седле, достаточно хорошо владеет шпагой, ружьем и пистолетом, а также превосходным образом танцует все танцы, какие вошли в моду во Франции с тех пор, как почил англез и угас гавот. Время от времени мы ссоримся, и тогда, как блудный сын, он забирает свою часть имения и покидает отчий дом; в тот же день я покупаю тельца и начинаю его откармливать, пребывая в уверенности, что не пройдет и месяца, как сын мой вернется съесть свою долю. Правда, злые языки утверждают, что именно из-за тельца он и возвращается, а вовсе не ради меня, но я-то знаю, как к этому надо относиться.