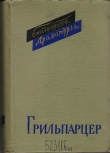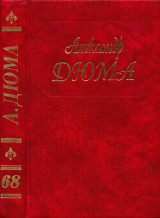
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц)
Самые сострадательные души попытались разнять собак, но безуспешно, и это привело маркизу в отчаяние. Я решил сыграть роль античного бога, используя кабриолет вместо театральной машины. Я оперся на откинутый кожаный фартук кабриолета и взял ситуацию в свои руки. «Принесите мне сюда обоих животных!» – заявил я. «О сударь! Спасите мою собаку!» – воскликнула маркиза, умоляюще складывая руки. «Сделаю что смогу, сударыня!» – скромно ответил я.
Ко мне подтащили сцепившуюся парочку. Поскольку я никоим образом не был знаком с этим бульдогом и, следовательно, не состоял с ним в дружеских отношениях, я обернул ему хвост своим платком и через платок резко укусил его.
Львиная собачка отпала, как спелый фрукт, свалилась на землю и помчалась к своей хозяйке, в то время как бульдог, извиваясь от боли, с налитыми кровью глазами и широко раскрытой пастью, попытался вцепиться в какую-нибудь часть моей персоны.
Однако я прекрасно знаю, как отделываться от бульдогов: этому ремеслу меня обучил Милорд. Я кинул пса на десять шагов от себя и громко скомандовал кучеру: «В Институт!» – «Ах, вот оно что! – воскликнула старая дама. – Нет никакого чуда в том, что этот господин так учен: он академик!»
Три дня спустя старая маркиза, узнав мою настоящую профессию и мой адрес, предложила мне свою руку и свое сердце. Женившись на ней, я был бы сегодня вдовцом и обладателем ренты в пятьсот пятьдесят тысяч франков. Так что женитесь, молодые люди!
Разрешите мне после того, как я высказал это нравоучение, попрощаться с Вами, сударыня! Корриды – это зрелище, смотреть которое никогда не может наскучить, так что целую неделю я бывал на всех корридах, проходивших в Мадриде. Но видеть и слышать – это не одно и то же, и я боюсь, что мой рассказ и так уже слишком затянулся. Тем более что я вынужден буду вернуться к этой теме, поскольку предстоят королевские корриды, а они, как я Вам уже имел честь объяснять, проходят совсем иначе, нежели обычные.
IX
Мадрид, 14 октября, вечер.
Поистине, сударыня, Мадрид – город чудес! Не знаю, всегда ли в Мадриде такая иллюминация, такие танцы и такие женщины, но в чем я уверен, так это в том, что мной овладело чудовищное стремление именно сейчас, когда благодаря принятым мерам предосторожности мое материальное состояние упрочилось, получить испанское подданство и избрать Мадрид местом жительства.
Кто не видел Прадо утопающим в блеске огней вчера вечером, тот не знает, что такое иллюминация; кто не видел, как в этом ослепительном свете шествует двадцать очаровательных женщин, чьи имена я мог бы Вам назвать, у того не хватит воображения представить, как выглядит собрание фей; кто не посетил Театра дель Сирко и не видел, как Ги Стефан танцует халео-де-херес, тот даже не догадывается, что такое танец. Могу добавить: кто не видел, как сражается Ромеро, тот не понимает, что значит отвага, но к этой последней теме я вернусь позднее, тогда как о первых трех, напротив, дам исчерпывающий отчет сейчас.
Вчера, сударыня, покинув дворец, я велел отвезти себя на Прадо. Этот огромный проспект, похожий на Елисейские поля, весь был в огнях; однако эти огни, вместо того чтобы изображать привычные волнистые узоры и официальные декоративные арки, какие мы видим 1 мая и 29 июля, сверкали всеми красками и образовывали всевозможные контуры: соборных церквей, цветов, готических замков, мавританских дворцов, гирлянд, звезд, солнца; словно вся наша планетарная система целиком собралась, чтобы устроить праздник нашему бедному земному шару. Ничего подобного я никогда не видел, за исключением праздника Луминара в Пизе. Я слышал от кого-то, что такая иллюминация обходится в сто тысяч франков в день, но меня это ничуть не удивляет.
А помимо того, сударыня, на этом же самом вытянутом прямоугольном пространстве, заключавшем в себе праздничную иллюминацию, прогуливалось пешком в боковых аллеях столько изумительных созданий и разъезжало в экипажах столько красавиц, что это лучшим образом передает мою мысль, будто в Мадриде замечаешь лишь уродливых женщин и лишь на них смотришь. Что же касается остальных, то, по правде сказать, разглядывать их всех – занятие чересчур трудное, и приходится от него отказаться. Погуляв часа два посреди перекрестия огней иллюминации и взглядов, мы пошли в Театр дель Сирко. Как раз в эту минуту там исполняли baile nacional, и на сцене была главная танцовщица. Танцовщица эта француженка, и зовут ее, как, помнится, я Вам уже говорил, – Ги Стефан.
Надо Вам сказать, сударыня, что мы, люди искусства, входим в своего рода европейское тайное сообщество, благодаря которому мы поддерживаем друг друга, даже если никогда не виделись. Так, к примеру, если я в Париже прихожу в театр, где в это время на сцене играют Фредерик Леметр, Дежазе или Буффе, мне достаточно либо передать им, что я нахожусь в зале, либо самому жестом показать это, и в ту же самую минуту Дежазе, Буффе или Фредерик Леметр, даже если в этот день они пребывают в дурном расположении духа, тотчас же забывают о своем плохом настроении и играют для меня, играют так хорошо, как, возможно, никогда не играли прежде. Из-за этого публика порой ничего не понимает в роли, начавшейся с определенной вялостью, а затем внезапно оправившейся от этой слабости и ставшей значительной благодаря энергии и таланту актера, хотя первые сцены заставляли было думать, что эти способности в нем уже угасли. Это то, что я попытался описать в одной из сцен четвертого акта «Кина», когда актер объясняет или, вернее, пытается объяснить принцу Уэльскому характер своих отношений с графиней Кефельд. Короче, сударыня, между нами, людьми искусства, существует такое единение. И вот, отыскав одну из моих соотечественниц за границей, я подумал, что оно может существовать и здесь.
И я передал г-же Гй Стефан, что явился засвидетельствовать ей свое почтение и прошу ее танцевать для меня. Госпожа Ги Стефан, заметив, что я пришел к концу спектакля и сажусь посреди партера, догадалась, что я ее брат по искусству и явился предъявить свои права. Легким кивком я дал ей знать, что она не ошиблась. Она ответила мне знаком, невидимым для всех и понятным лишь мне. Мы устроились в креслах. Танец халео-де-херес начался.
Вам кажется, сударыня, что Вы разбираетесь в испанских танцах; зрители Театра дель Сирко думают то же самое о себе, причем, возможно, с бблыиим основанием. Так вот, Вы ошибаетесь, сударыня, и они ошибаются тоже! При первых тактах, с первых шагов, сделанных любимой актрисой, в зале установилась мертвая тишина. Это молчание явно свидетельствовало об изумлении. Никогда еще г-жа Стефан не приступала с такой смелостью к исполнению этого восхитительного танца, в котором объединилось все – надменность и томление, презрение и любовь, желание и сладострастие; трепет, пробежавший по залу, нарушил тишину, и зрители разразились рукоплесканиями. Впервые, уступив порыву вдохновения, г-жа Ги Стефан отбивала шаг так, что придала танцу все величие поэмы любви, которую он изображал.
Трижды ее заставили повторять это знаменитое халео, трижды успех превращался в фурор, крики «браво» переходили во всеобщий восторг, а рукоплескания – в исступление. Я полагаю, что мне удалось разом отплатить Мадриду за его щедрое гостеприимство. После спектакля я поднялся в уборную г-жи Ги Стефан. Мы никогда до этого не встречались, не разговаривали. «Ну как? – протянула она мне руку. – Вы довольны?» Как видите, сударыня, мы отлично поняли друг друга. Ведь, правда же, это братство людей искусства что-то собой представляет, если оно способно просто и естественно приводить к цели, которой не могут добиться ни короли с их могуществом, ни банкиры с их богатством, ни газеты с их влиянием.
Вернувшись в дом Монье, я обнаружил письмо от герцога де Осуна; он приглашал меня на следующий день позавтракать с ним и с его рыцарем арены. Пришло время, сударыня, объяснить Вам значение термина «рыцарь арены», или кабальеро рехонеадор. Я уже рассказывал Вам, что королевские корриды обладают особенностями, присущими только им и имеющими корни только в них. Вот что это за особенности.
В королевских корридах, по крайней мере в тех, что проводятся по поводу рождений королевских детей и свадеб королей и королев, обязанности матодора исполняют не профессиональные тореадоры, а обедневшие дворяне из благороднейших семейств; для тех, кто выживает в этих сражениях (а вероятность погибнуть в них тем более велика, что эти люди привносят в свой бой с быком все худшие качества, присущие невежеству), при дворце создаются должности конюших, обеспечивающие тем, кто их занимает, достойное существование. Такая должность конюшего приносит в виде жалованья полторы тысячи франков в год, а для Мадрида жалованье в полторы тысячи франков – это почти что богатство.
Теперь скажем о том, какие изменения вносятся в само сражение. Когда между рехонеадором и быком идет бой, никакие пикадоры в нем не участвуют. Вместо того чтобы ожидать быка, стоя со шпагой в руке, рехонеадор должен атаковать его, сидя на коне и держа в руках копье. Вместо того чтобы сидеть верхом на жалкой кляче, которой суждено отправиться к живодеру и которую все равно забьют завтра, если бык не убил ее накануне, он восседает на великолепной андалусской лошади из конюшни королевы, но это, вместо того чтобы быть преимуществом, как можно подумать вначале, становится неблагоприятным обстоятельством, поскольку рехонеадору приходится противостоять одновременно и ярости быка, и страху лошади, и чем сильнее лошадь, тем большая опасность грозит всаднику с ее стороны. Для обычного пикадора лошадь, напротив, всего-навсего щит, нечто вроде живого матраса, ослабляющего удары рогов, и всадник подставляет ее разъяренному быку когда угодно и как угодно. Вот почему несчастные случаи с рехонеадорами происходят чаще всего не из-за быка, а из-за лошади.
Рехонеадор выбирает себе поручителя среди глав самых знатных семей города. В благодарность за этот почетный выбор поручители обеспечивают своих подопечных экипировкой и берут на себя все прочие издержки, в какие те могут быть вовлечены.
Рехонеадорам полагается одеваться в костюмы дворян времен Филиппа IV. Каждый из них носит цвета избранного им покровителя. Поскольку поручитель не может появиться на арене вместе со своим подопечным, он присылает туда вместо себя какого-нибудь известного тореадора, и задача этого человека, хорошо знающего все повадки быка, – подводить его под удар копья рехонеадора или, наоборот, отвлекать животное от всадника, если оно кинется на него.
На завтрашней корриде должны выступать четыре рехонеадора. Первый из них выбрал покровителем герцога де Осуна, второй – герцога де Альба, третий – герцога де Медина-Сели, четвертый – герцога де Абрантеса. В качестве их представителей на арене будут присутствовать тореадоры: Франсиско Монтес, Хосе Редондо (Чикланеро), Франсиско Архона Гильен (Кучарес) и Хуан Лукас Бланко. Осуна пригласил меня позавтракать вместе со своим рехо-неадором и его ангелом-хранителем Монтесом.
Мне нет надобности рассказывать Вам, сударыня, кто такой Монтес; Монтес – это король тореадоров; он утруждает себя исключительно по приглашению короля, принца или города; за каждый проведенный им бой Монтес получает тысячу франков; короче, Монтес – миллионер. Вы понимаете, конечно, что такое высокое положение можно занять только обладая признанными заслугами; если и есть репутация, которую бессильны поддержать или поколебать какие-бы то ни было интриги, то это, разумеется, репутация тореадора; славу, которой обладает тореадор, он добывает острием своей шпаги, в присутствии публики и на глазах у Господа. Это генерал, оцениваемый по числу выигранных им битв; так вот, Монтес выиграл пять тысяч сражений, поскольку он убил пять тысяч быков.
Не могло быть и речи о том, чтобы упустить возможность, столь любезно предоставленную мне герцогом де Осуна, позавтракать с несчастным рехонеадором и познакомиться с отважным Монтесом. Помимо прочего, один из друзей герцога, большой любитель боя быков, поручил ему преподнести Монтесу подарок – замечательную боевую шпагу, выкованную в Толедо.
Королевская коррида должна была начаться в полдень. Господин Брессон, как я Вам уже рассказывал, проявил любезность и прислал билеты всей французской колонии (билеты пользуются большим спросом и стоят до ста франков). Однако свой билет я подарил нашему милому хозяину г-ну Монье, поскольку Осуна предложил мне место на своем балконе, одном из лучших на площади Майор. Этот балкон, насколько я понял, был пожалован королем Филиппом IV в награду одному из предков герцога за личную услугу, и до тех пор, пока на свете есть хоть один Осуна, этот Осуна будет иметь право, кто бы ни владел домом, использовать упомянутый балкон для себя, своей семьи и своих друзей во время всех королевских празднеств, устраиваемых на площади Майор. Со своей стороны, владелец дома имеет право возводить скамьи напротив своих окон, если только они не загораживают прохода на балкон, а также смотреть из глубины своих комнат поверх голов герцога де Осуна, членов его семьи и его друзей.
В десять часов утра я был у Осуны и обнаружил там только рехонеадора. Монтес, еще плохо оправившийся от раны в бедре, полученной им за три месяца до этого от удара рогом, не смог прийти: он берег все силы для охраны своего подопечного. Этот подопечный был бедный малый лет двадцати двух-двадцати трех; устав видеть, как его мать и сестра прозябают в нищете, из которой ему не удалось вытащить их, несмотря на все свои усилия, он решил рискнуть своей жизнью, чтобы обеспечить их существование.
Завтрак был накрыт; за столом нас было всего шесть или восемь человек; по левую руку от Осуны находился его подопечный. Облаченный в наряд времен Филиппа ГУ, сидевший на нем довольно нелепо, он был очень бледен, очень озабочен и почти ничего не ел; для бедняги этот завтрак был подобен свободной трапезе – последней трапезе первохристиан перед тем как их выводили на арену цирка. Дело выглядело особенно серьезным еще и потому, что молодой человек не был привычен ни к одному из упражнений, знакомство с которыми могло бы уменьшить грозящую ему опасность. Он первый раз в жизни садился на лошадь и никогда не держал оружия в руках.
В жизни я не видел ничего более грустного, чем этот завтрак. Сидя напротив человека, казалось видевшего, что смерть села за один стол с нами, никто не осмеливался ни шутить, ни смеяться. Время от времени нервная дрожь пробегала по его губам: он не мог с этим совладать, несмотря на все наши старания подбодрить его. Если когда-либо боец и заслуживал пальму мученичества, то это был именно он.
В половине двенадцатого мы встали из-за стола; рехо-неадор покинул его на четверть часа раньше, но его уход не сделал нас веселее. Мы отчетливо понимали, что невозможна никакая борьба между этим растерянным несчастным мальчиком и быком, на бой с которым он шел, и потому видели в бедняге лишь жертву. Осуна вышел вслед за ним в соседнюю комнату; я узнал позднее, что герцог предложил ему, если он откажется от боя и, следовательно, от пенсиона, почти ту же самую сумму, какая была бы им потеряна при этом; но молодой человек не согласился, ограничившись тем, что поручил заботам Осуны свою мать и сестру на случай, если с ним случится какое-нибудь смертельное происшествие.
Мы направились на площадь Майор, и десять минут спустя расположились на самом лучшем балконе из тех, что выходят на площадь – определенно, его величество король Филипп IV проявил большую щедрость. Как видно из ее названия, сударыня, площадь Майор самая большая в Мадриде, а так как во времена Филиппа II, когда строился Мадрид, недостатка в земле не было, то площадь Майор просто огромная. В течение месяца шли приготовления: они состояли в том, что площадь размостили, вместо камней все усеяли песком, кругом поставили барьеры, приготовили входы для живых лошадей и быков и выходы для вывоза тел мертвых быков и лошадей, а также возвели скамьи.
Эти скамьи доходили только до второго этажа домов. Начиная со второго этажа окна служили ложами. Мы находились посреди одной из четырех сторон площади, и слева от нас была королевская ложа. Под королевской ложей, примыкающей к залу Сан-Херонимо, располагалась рота алебардщиков, перекрывая вход на арену, имевший ширину не менее тридцати футов. При любых обстоятельствах алебардщики должны были стоять неподвижно, как стена, а в случае если бык кинется на них, преградить ему путь алебардами; если в борьбе с ним они убьют его, он становится их добычей.
Напротив них, сидя верхом на черных лошадях и одетые во все черное, держались шесть альгвасилов в своих старинных костюмах; эти шесть альгвасилов, имевшие оружием лишь шпагу на боку и хлыст в руках, казалось, находились здесь для того, чтобы рядом с трагедией разыгрывать перед народом комедию. В самом деле, бык, ничего не понимая в предназначении этих шести одетых в черное людей с хлыстами и к тому же, возможно, затаив что-нибудь против альгвасилов, мог найти злое удовольствие в том, чтобы кинуться именно на них; в этих случаях славные мадридцы млели от восторга, наблюдая, как те спасаются бегством и увертываются от быка.
Площадь со своими скамьями, балконами, окнами и крышами, заполненными зрителями, представляла собой единственное в своем роде зрелище; господствуя над площадью, рядом с ней высились две колокольни, и за каждую неровность на этих колокольнях цеплялся мужчина или ребенок. В пределах видимости было не менее ста тысяч человек, и все они могли следить за происходящим. Вообразите три ряда балконов, затянутых красными или желтыми полотнищами: красными, обшитыми широкой золотой лентой, и желтыми, обшитыми серебряной лентой. Вообразите разнообразие красок, составляющее очарование испанских нарядов. Вообразите беспрерывное движение ста тысяч людей, пытающихся посягнуть на места своих соседей; вообразите гул, который производят сто тысяч голосов, – и при этом Ваше воображение, каким бы богатым оно ни было, сударыня, все равно не сумеет восстановить подлинную картину. Половина из этих ста тысяч человек говорят лишь об одном предмете, а точнее – лишь об одном человеке. И этот человек – Ромеро.
В число рехонеадоров, сударыня, входил некий молодой человек, лишившийся, по слухам, из-за своих политических взглядов чина офицера королевской гвардии. Этот юноша, известный своей отвагой, утверждал, что он стал жертвой клеветы, и, решив сразиться с быком, заявил, что либо он даст себя убить, либо завоюет нечто получше, чем утраченное им место. Его знали как человека, умеющего держать слово, и потому все разговоры вертелись вокруг Ромеро; остальные три рехонеадора были отодвинуты в тень. Их звали: дон Федериго Валера-и-Ульоа, дон Романо Фернандес, дон Хосе Кабаньос. Кроме того, был еще один запасной боец по имени дон Бернардо Осорио де ла Торре. Дону Федериго покровительствовал герцог де Осуна, дону Романо – граф де Альтамира, дону Хосе – герцог де Медина-Сели и Ромеро – герцог де Альба.
Тем временем в сопровождении короля, герцога и герцогини де Монпансье прибыла королева. Она первый раз появлялась на публике. Весь цирк встал и разразился рукоплесканиями.
За ними шли герцог Омальский и королева-мать. Как только августейшие зрители заняли места, послышались фанфары, одна из дверей отворилась и показались рехо-неадоры, сопровождаемые своими наставниками.
Каждый из рехонеадоров ехал вместе со своим наставником в роскошной золоченой коляске, предназначенной для празднеств. Четверки лошадей, которые везли каждую из этих карет, были украшены султанами, и эти султаны имели цвета того или другого покровителя. Кареты объехали арену, проследовали одна за другой перед ложей королевы и выехали через дверь, противоположную той, в которую они въезжали. Почти тотчас же появилась вся квадрилья – чуло, бандерильеро и тореадоры; как и накануне, они преклонили колена перед балконом королевы. Как только они поднялись, дверь открылась и на арену ввели двух лошадей, покрытых попонами. За лошадьми пешими шли два рехонеадора. Один из них был тот самый дон Федериго, с которым я завтракал утром, а второй – дон Романо, подопечный графа де Альтамира.
Затрубили фанфары, и всадники вскочили в седла. Почувствовав на себе наездника, лошадь дона Федериго встала на дыбы. Вместо того чтобы опустить поводья, он натянул узду; лошадь опрокинулась назад, и оба они покатились по песку. Это было неудачное начало. Когда Байи вывели из Консьержери, чтобы вести на эшафот, он споткнулся о камень. «Плохое предзнаменование! – усмехнулся он. – Римлянин вернулся бы домой!» Мне кажется, что дону Федериго очень хотелось в эту минуту поступить так, как поступил бы римлянин. Тем не менее его снова посадили в седло (упал он если и не слишком ловко, то, по крайней мере, удачно).
Второй всадник держался в седле более или менее уверенно; мне показалось, что ему было лет сорок – сорок пять, и в нем чувствовалась ббльшая сноровка в верховой езде, чем у его напарника. Бедняга дон Федериго позволял себя вести куда угодно; второй наездник легкой рысцой направился к своему месту. Каждому дали в руку копье. Оно было шести футов длиной и имело очень острый железный наконечник; древко копья изготавливали из весьма хрупкой хвойной древесины, поэтому при каждом ударе, нанесенном наездником, оно ломалось, и железный наконечник вместе с обломком древка застревал в туловище быка. Мне показалось, что это копье стало еще одной крупной помехой для несчастного дона Федериго. Прозвучал сигнал начала боя. Должен сказать, что на этот раз я волновался еще больше, чем на первом представлении. Мне предстояло быть свидетелем не битвы, а казни. Дверь отворилась, и появился бык. Это был коричневый бык с острыми загнутыми рогами; он пробежал треть ристалища, а затем остановился, опустившись на колени.
Ему хватило одного мгновения, чтобы налитыми кровью глазами осмотреть всю арену. Он поднял голову, словно разглядывая всю эту массу зрителей, ярусами теснившихся перед ним, – от последних ступеней цирка и вплоть до самых острых шпицев колоколен. После секундного колебания он, по-видимому, принял решение, взгляд его остановился на несчастных альгвасилах, побледневших так, что это можно было увидеть под их широкополыми шляпами, и с грозным ревом кинулся вперед. Пуля, выпущенная в стаю ворон, не произвела бы большего действия. Шесть человек в черном, пустив лошадей галопом, рассыпались по ристалищу. Один из них, падая с лошади, ухватился обеими руками за седло; ветром у него снесло шляпу, и бык принялся ее топтать под хохот, свист и шиканье толпы.
В это время Монтес, взяв под уздцы лошадь несчастного дона Федериго, подвел ее к быку; в четырех шагах от быка он отпустил лошадь. Мгновение это было весьма благоприятное – беснующийся бык не обращал внимания на то, что происходило вокруг него. Федериго на самом деле был храбр, ему лишь не хватало уверенности в себе; он пустил лошадь на быка, поднял руку и вонзил копье в бок животного. Копье сломалось.
Если есть что-нибудь прекраснее, чем бессознательная храбрость, то это сила воли. Какая-то наиболее чуткая часть зрителей, понявших, какую волю понадобилось проявить несчастному Федериго, чтобы сделать то, что он сейчас сделал, начала аплодировать и вовлекла в рукоплескания других. Бык, секунду простоявший в растерянности от этой атаки, кинулся на своего противника прежде, чем тот успел отступить.
Все решили, что бедный Федериго погиб. Так бы и произошло, если бы не Монтес; с удивительной ловкостью и отвагой он проскользнул под шеей лошади и с розовым плащом в руках встал между быком и своим подопечным. Бык отвлекся на розовый плащ, слепивший ему глаза, и кинулся на Монтеса.
Перед нами разыгрался чудесный спектакль – Монтес с помощью плаща водил быка. Мне бы очень хотелось объяснить Вам, сударыня, что значит «водить быка», но растолковать такое человеку, который этого не видел, очень трудно.
Представьте себе, сударыня, как человек, в руках которого лишь шелковый плащ и нет никакого оружия, играет с разъяренным быком, заставляя его проноситься то справа, то слева от себя, а сам при этом не двигается с места и видит каждый раз, что бык, пробегая, задевает рогом серебряное шитье на его жилете. Понять, как это происходит, совершенно невозможно: поневоле начинаешь думать о чарах, амулете, талисмане.
Пока Монтес водил быка, дона Федериго вооружили новым копьем, а второй наездник, также находившийся под присмотром своего наставника, сломал свое копье о шею быка. Повторилась та же сцена, что и с Федериго. Бык кинулся на всадника, однако его наставник, менее ловкий или менее храбрый, чем Монтес, не смог отвлечь животного. Голова быка ушла под грудь лошади, и мы увидели, как он вонзил туда по самый лоб один из своих рогов.
Раненая лошадь встала на дыбы, железным копытом ударила по спине быка и опрокинулась назад, подмяв под себя всадника и вдавив ему в грудь седельную шишку. Тотчас же из груди несчастного, придушенного непомерной тяжестью, вырвался крик. Лошадь поднялась, одна нога ее была парализована, и из нее била ключом кровь. Но наездник остался на земле: он был без сознания.
Бык приготовился снова его атаковать, но тут дон Фе-дериго вонзил ему второе копье в край плеча. Животное развернулось, но и на этот раз Монтес отвлек его на себя. За это время четверо служителей цирка подняли рехоне-адора и унесли.
Монтес стал во второй раз водить быка. Внезапно по площади прокатился сильный гул. Вместо унесенного наездника на ристалище выступил другой всадник. Это был Ромеро.
Все взгляды обратились на него; зрители забыли и о доне Федериго, и о лежащем в обмороке наезднике, и даже о Монтесе. Перед нами был красивый молодой человек лет двадцати пяти – двадцати шести, одетый в зеленый бархат и превосходно выглядевший в этом красивом наряде времен Филиппа II, хотя на любом другом он казался бы маскарадным. Лицо его было бледным, но бледность его имела тот изумительный матовый оттенок, который придает мужчине красоту; его черные волосы были очень коротко острижены, а небольшие черные усы очерчивали тонкие сжатые губы.
Он легко вскочил на подведенную ему лошадь, направил ее прямо к балкону, чтобы приветствовать королеву и принцев, а затем стремительно выехал на арену, заставив лошадь сделать два-три поворота и два-три раза перейти с одного бега на другой; при этом он не обращал на быка никакого внимания, словно того и не было. Наклонившись к Чикланеро, он перебросился с ним парой слов, взял из рук служителя цирка оружие и помчался к быку.
Но, будучи превосходным наездником, он приблизился к быку еще не для того, чтобы атаковать его, а чтобы приучить лошадь к его виду и запаху. Сдерживая скачки коня, он два-три раза объехал вокруг быка, напоминая кречета, готового броситься на добычу. Бык смотрел на него с тупым и злобным видом; он словно понял, что на этот раз ему придется иметь дело с достойным противником.
Наконец, Ромеро остановился точно напротив животного, как это сделал бы профессиональный тореадор. Бык бросился на него. Ромеро подпустил его поближе и со всего маху вонзил ему копье между лопаток, а затем, легко повернув коня, сделал полукруг по арене, чтобы взять новое копье.
Бык попытался его преследовать, но после десяти шагов опустился на одно колено, с трудом поднялся, затем снова рухнул на колени и упал, растянувшись на арене: только голова его еще была поднята. Ромеро уже держал в руке другое копье и готовился к новой схватке.
Но животное признало себя побежденным. Его взгляд не выражал уже ничего, кроме смертельной угрюмой тоски. Дважды голова его касалась песка, дважды поднималась и на третий раз упала, чтобы уже не подняться. Сто тысяч зрителей были ошеломлены увиденным: даже тореадор не взялся бы за дело с большим изяществом и не закончил бы его с большей ловкостью. Толпе потребовалась целая минута, чтобы оправиться от изумления. Но придя в себя, публика разразилась неистовыми рукоплесканиями.
Ромеро поклонился с высокомерной усмешкой, как бы говоря: «О, вы очень любезны, господа, но подождите, подождите!» После этого со спокойствием изощренного дуэлянта он на наших глазах занялся приготовлениями к сражению с новым противником. Он осторожно взял в правую руку шпагу, уперев головку эфеса в ладонь, а левой рукой подставил мулету следующему врагу.
Второй бык, простояв какое-то время в нерешительности, в конце концов кинулся на Ромеро. Молния промелькнула и исчезла – шпага до самого эфеса вошла точно между лопаток. Бык повалился на колени, словно воздавая должное своему победителю. Через несколько минут арена, сотрясавшаяся от рукоплесканий, снова была пуста.
Появился третий бык. Ромеро остался на ристалище один. Из трех рехонеадоров одного унесли в бесчувственном состоянии, второй, согнувшись пополам и опираясь на руки служителей цирка, сам покинул арену, у третьего было вывихнуто колено. Как последний из Горациев, Ромеро один оставался невредимым. Третий бык был совершенно черным, без единого белого пятнышка. Словно получив приказ, он ринулся на альгвасилов.
Альгвасилы мгновенно рассыпались в стороны и через минуту снова собрались напротив балкона королевы. Бык остался стоять посреди арены, увидев перед собой этот заслон, казавшийся ему прочным.
Но позади заслона стоял тот, кто в двух последних сражениях выказал свою силу и сноровку, тот, кого, как всякую сильную личность, манила опасность и пьянили рукоплескания, – там стоял Ромеро.
Он понесся на быка во весь опор и на полном скаку вонзил ему копье в левый бок, а потом, схватив из рук служителя цирка второе копье и подъехав к быку с противоположной стороны, нанес ему удар в правый бок. Это было проделано с такой быстротой, что животное, едва ощутив боль от первого удара, почувствовало, как она стала еще сильнее от второго.
Лишь видя, как рукоплескал огромный цирк, как приветственно махали платками зрители, выкрикивая в едином приветственном возгласе имя Ромеро, можно составить себе представление о том, что должен был испытывать человек, вызвавший такую бурю восторга. Герой казался непобедимым, и даже не просто непобедимым, а неуязвимым.
Бык, из обеих ран которого потоком струилась кровь, с мычанием скреб копытом песок. Ромеро изящно раскланивался с публикой. Бык бросился на него. Не сдвинувшись с места, Ромеро надел на голову шляпу и стал ждать. Атака была яростной. Подцепив снизу лощадь, бык поднял ее на рогах вместе с всадником.
А теперь, сударыня, слушайте внимательно и, находясь на расстоянии четырехсот льё отсюда, рукоплещите – то, что я Вам расскажу, происходило на глазах ста тысяч человек. Будучи оторваным от земли, Ромеро со всего маху вонзил копье в левый бок быка. В ту же секунду бык, лошадь и всадник рухнули на землю общей грудой, содрогания которой не позволяли вначале ничего в ней различить.