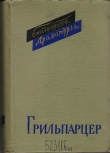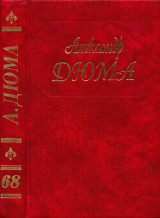
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 42 страниц)
Я знал, что в число прочих достопримечательностей Кордовы входит и дом Сенеки. Сенеку нельзя назвать великим трагиком, но все же, так как он единственный римский трагик и в своей поэме «Медея» предсказал открытие Америки, мне хотелось повидать его дом. Тем не менее всякий раз, когда я упоминал об этом, Перес, Парольдо и Эрнандес де Кордоба, наш третий друг, начинали хохотать. Однако, поскольку я продолжал настаивать с упорством туриста, Перес, в конце концов, согласился: «Хорошо! Сегодня вечером мы туда пойдем». – «А почему только вечером?» – «Ну, черт побери!» – «Днем дом Сенеки закрыт?» – «Нет, напротив, он доступен в любое время». – «Там принимают негостеприимно?» – «Там принимают, как в античные времена, но…» – «Что "но"?» – «… но нам бы очень хотелось, чтобы никто не видел, как мы пользуемся там гостеприимством». – «Ах, вот как!» – «Да, именно так!» – «Прелестно!» – «Вы все еще настаиваете на посещении дома Сенеки?» – «А почему бы нет? Мы для того и путешествуем, чтобы узнать нравы чужих стран; нравы же, которые мы можем изучать вечерами, не относятся к числу наименее любопытных, хотя путешественники никогда о них не говорят».
Впрочем, сударыня, я должен сказать Вам – и у меня нет особых опасений сказать это Вам, так как из всех приключений, и испанских, и африканских, мы выходили чистыми, как Иосиф или Сезар де Базан, – что эти нравы не были нам уж совсем незнакомы. В Гранаде однажды вечером, прогуливаясь при свете луны по городу и заблудившись в его извилистых улочках, мы заметили дом, где горел свет, и направились туда, чтобы спросить дорогу. Дебароль остался сзади, чтобы поправить свой жи-бюс, поэтому особа, открывшая нам дверь и не понявшая наш не слишком вразумительный испанский, пригласила нас войти в какую-то комнату, которую она назвала гостиной – во Франции, сударыня, в стране высшей аристократии и безрассудной роскоши, ее назвали бы лачугой.
В этой гостиной с побеленными известкой стенами и обстановкой в виде всего-навсего соломенного канапе, покрытого бумазеей, и четырех под стать ему соломенных стульев, но ничем не покрытых, мы провели в одиночестве минут пятнадцать, переговариваясь, как три кривых календера из «Тысячи и одной ночи»; по истечении четверти часа дверь отворилась и появилось столько принцесс, сколько нас, принцев, было в комнате. Вот тут, сударыня, для всех тех, кто не давал обета целомудрия в дилижансном дворе Кайяра и Лаффита, рассказ был бы затруднителен, но для нас, простых наблюдателей, привыкших к сценам в ателье художников, все очень просто.
Я опишу Вам, насколько могу, испанских принцесс. Среди добродетелей, отпущенных им Небом, надо при1 знать за ними полнейшую безыскусность. Некоторые, наиболее элегантные, носят пышную баскскую юбку и в руках держат национальный веер; под мантильей виднеется приподнимающий ее черепаховый гребень, а рядом с гребнем – живая или искусственная роза, пурпур которой пылает, словно пламя, сквозь мелкие колечки черного кружева. Другие одеты на французский манер, то есть на них простые платья из муслина или жаконета, короткие шали, наброшенные на плечи, а на голове чепчики или шляпки. Возможно, я ошибаюсь, сударыня, но в Испании именно их называют щеголихами.
А теперь, сударыня, следует рассказать Вам то, что Вы совершенно не знаете. Когда во Франции календеры или такие путешественники, как мы, посещают караван-сараи или дома Сенеки, они встречают там, как в «Тысяче и одной ночи», самых шаловливых, самых болтливых, а главное, самых предупредительных принцесс из всех, какие только бывают. В самом ли деле эта шаловливость, болтливость и предупредительность естественны? Или же это всего лишь особый язык, способ обольщения или потребность самообмана? Этот вопрос я предоставляю решать приверженцам фурьеризма и устроителям фаланстеров.
Возьмите на заметку еще одно забавное наблюдение! Во Франции, вернее в Париже, принцессы живут в караван-сараях или в домах Сенеки – словом, там, куда календеры или путешественники обычно приходят в поисках гостеприимства; поэтому посетителям никогда не приходится ждать. В Испании все обстоит иначе: принцессы имеют свои дома, живут в лоне семьи и, как дочери античных царей, ходившие за водой к источнику и сами себя обшивавшие, занимаются каким-нибудь ремеслом: одни состязаются с природой, изготавливая искусственные цветы, соперничающие с настоящими; другие простирают свою любовь к ближним настолько, что обеспечивают их тем, чем царские дочери одаривали только самих себя, то есть вышивают и шьют; третьи плетут из золотистых и серебряных нитей те тысячи галунов, нашивок и помпончиков, что сверкают, переливаются и звенят на парадных платьях андалусских танцоров и танцовщиц.
Однако, поскольку все эти занятия несомненно утомляют глаза, а трудиться вечерами вообще вредно для зрения, прекрасные принцессы предаются по вечерам занятию, идущему во вред душе, которая им куда менее необходима, чем глаза. Но следует сказать, сударыня, что в Испании подобное занятие никоим образом не влечет за собой такое же предвзятое отношение к ним общества, как во Франции. Упомянутые нами принцессы посещают караван-сараи и дома Сенеки, но это совершенно не наносит ущерба тому уважению, каким они пользовались до того, как им пришло в голову расширить область своих ночных прогулок до этих общественных или приватных учреждений; при этом они не перестают встречаться со своими знакомыми и сохраняют свои дружеские связи; никто не спрашивает у них отчета в их ежедневных отлучках, никто не интересуется, где они проводят время с шести вечера до полуночи. Да и кто имеет на это право? Ведь эти барышни никогда не выходят из дома одни – их всегда сопровождают отец, мать или брат. Правда, отец, мать или брат остаются за дверьми караван-сарая, не переступают порога дома Сенеки, не имеют никаких дел с календерами и путешественниками; но они находятся рядом, и кто посмеет сказать, что девица делает что-то дурное… в десяти шагах от отца, матери или брата? Да они ничего дурного и не делают, сударыня: задумчивые и серьезные, они входят не говоря ни слова, садятся и ждут, чтобы календеры или путешественники начали за ними ухаживать. Да, сударыня, «начали за ними ухаживать» – вполне уместное выражение. В Испании буквально этим и занимаются в караван-сараях и в домах Сенеки. Сказать, что это ухаживание длится так же долго и что оно столь же целомудренно, как происходящее вне балкона и по другую сторону жалюзи, было бы преувеличением, но видимость благопристойности все же соблюдается; принцессы, способные проявить слабость, делают вид, что они уступают капризу, увлечению; они поднимаются и, опираясь на руку кавалера, совершают короткую прогулку по покоям или по саду, а потом исчезают бесшумно, скромно, достойно и через более или менее длительное время вновь появляются рука об руку со своим кавалером. И вы вольны думать – настолько лица их безмятежны, а одежда сохраняет целомудренную безупречность – и вы вольны думать, что они всего-навсего провели урок астрономии или прочитали главу из «Дон Кихота Ламанчского».
При этом они гораздо более сдержанны, чем принцессы из «Тысячи и одной ночи», поскольку те, как это видно из перевода г-на Галлана, едят и пьют вместе с путешественниками, которым они оказывают гостеприимство, а вот испанские принцессы не пьют и не едят; должен сказать, что если мы во время своего пребывания в таких заведениях и заказываем иногда порто, херес или малагу, то высокомерные губки наших мимолетных хозяек к ним еле-еле прикасаются.
К тому же всегда недостает времени, чтобы вечера превращались в пиршества: в десять часов барышни уже начинают говорить об уходе, а в одиннадцать бесповоротно удаляются, роняя в качестве оправдания слова, на которые нечего возразить, если, конечно, вы не порвали со всеми святыми человеческими чувствами: «Мой отец или моя мать ожидают меня уже три часа, и вы понимаете, что я не могу заставлять их ждать дольше». Затем принцесса встает, с чувством достоинства подставляя вам лоб для поцелуя, делает реверанс и удаляется. Если на следующий день вы хотите возобновить эти отношения, они возобновляются, но всегда таким же образом и с теми же осторожностями. Не стоит и говорить, что, если вы явитесь в дом принцессы, оказывавшей вам накануне радушный прием в караван-сарае, вас никоим образом не узнают и посмотрят как на пьяного, который ошибся дверью.
По поврду же пьяных отметим мимоходом тот факт, что за все время нашего путешествия по Испании мы видели лишь одного пьяного, и за ним, как за диковинкой, шла толпа любопытных. После всего того, о чем я имел честь сообщить Вам, сударыня, ничего нового дом Сенеки, который мы вчера посетили, не сможет Вам предложить, если речь не идет об археологии. Затрудняюсь сказать Вам, в каком квартале находится этот дом: мы были там ночью, под проливным дождем. В него входят через большую дверь, попадая сначала во двор, а вернее, в сад, окруженный стенами, которые показались мне римской постройкой: эти стены, а также хозяйка дома – единственные следы античности, какие я в нем заметил.
Еще одно обстоятельство, весьма характерное, усугубило унылость этого времяпровождения. По дороге туда нам пришла в голову счастливая мысль зайти в кафе и заказать пунш (во Франции я сказал бы «пунш по-итальянски», но в Кордове я назову его пуншем по-французски), чтобы увидеть, не возьмет ли новизна этого напитка верх над безразличием наших будущих Амин. К несчастью, слуга из кафе, принесший нам напиток и, несомненно, являвшийся переодетым сыном короля, оказался любовником самой прекрасной из наших принцесс, и она, поддерживаемая присутствием своего инфанта, которого ничто на свете не могло заставить покинуть прихожую, не пожелала вступать в разговоры ни со своими соотечественниками, ни с иностранцами. Так что мы ушли, не дожидаясь, когда эти дамы скажут нам, что их ждут родители.
Кстати, сударыня, я забыл Вам сказать, что вечером Парольдо получил ответ и что завтра нас ждут в горах Сьерра-Морены. Мы хотели начать приготовления, но наши друзья заявили, что нам ни о чем не надо беспокоиться и что вьючные животные будут ждать нас во дворе гостиницы завтра в четыре часа утра.
XXXI
Кордова, 7.
Всю ночь, последовавшую за посещением дома Сенеки, мы спали великолепно: Александр кофе не пил, и, соответственно, музыкальные часы удовольствовались тем, что лишь пару раз сыграли свою мелодию, сопровождая ею наш сон. Однако ровно в четыре часа мы были разбужены хлопаньями двери, топотом и выкриками, способными обрушить гостиницу: то прибыли наши ослы, мулы и погонщики. Через мгновение мы были уже на ногах; все было готово: ружья, снаряжение, охотничьи куртки и штаны; в ту минуту, когда мы застегивали последние пряжки на гетрах, в дверях появился Парольдо. «В дорогу, господа, – промолвил он, – в дорогу!»
Он был очень хорош в своем несколько пошлом наряде андалусского majo[55]; короткую куртку, шляпу с кисточкой, широкие кюлоты и изящные гетры, самую удачную часть своего костюма, он носил с известным щегольством, придававшим всему его облику очаровательную изысканность. Жиро и Буланже несомненно предпочли бы остаться дома и писать его портрет, а не отправляться на охоту, но большинство было против этого; Жиро ограничился тем, что сделал набросок, пока Парольдо закуривал сигару, и мы спустились вниз. При свете факелов внутренний дворик гостиницы с его четырехугольными аркадами, напоминающими улицу Риволи, с его покрытием из плит и садом, почти все пространство которого было заполнено огромным апельсиновым деревом, увешанным плодами, выглядел очень живописно.
В самом деле, весь ряд этих аркад заполняли ослы, погонщики, проводники; ослы были покрыты разноцветными пестрыми лохмотьями; на головах погонщиков и проводников красовались яркие платки, а сами они были закутаны в накидки; у большинства на голых ногах были холщовые туфли с веревочными подошвами, как у их пред-ков-арабов. Два охотника верхом на лошадях, стоявшие в глубине двора, у самых ворот, довершали целостность этой живой картины, теряясь в темноте, в которой, однако, сверкали временами, выхваченные из мрака всполохом факела, стволы их ружей и рукоятки кинжалов. Это были Равес и граф Эрнандес де Кордова. Все вместе они и производили шум, от которого мы проснулись.
С нашим приходом шум усилился. Большую часть всех предназначавшихся нам животных составляли ослы; среди них выделялся великолепный белый осел, с таким величием поднимавший голову, что это заставляло тотчас же распознать в нем царя ослов. Он принадлежал Парольдо. Остальные были обыкновенными ослами. Если бы Вы, ученица Дора, без оглядки, одним прыжком вскакивающая на любую лошадь, которую Вам подводят, увидели бы этого осла, Вам не захотелось бы после этого ездить ни на чем другом, кроме ослов. При моем появлении оба охотника сразу же спешились, предлагая мне своих лошадей – двух андалусских скакунов, коренастых, с широкой грудью и мускулистыми ногами. Однако я, должен признаться, не мог отвести глаз от белого осла в желто-красной попоне, гордо поводящего ушами. В Испании для меня приберегли все возможные почести: этот осел, предмет моих чаяний, был, оказывается, приведен специально для меня. Для Буланже отыскали седло со стременами; впрочем, за время перехода из Гранады в Кордову он стал уже умелым наездником. Все остальные взобрались на своих ослов, упряжь которых состояла исключительно из старых накидок, подвернутых под брюхо животных. Парольдо, несмотря на все мои возражения, которые, признаться, могли бы звучать и убедительнее, сошел ради меня со своего образцового осла и влез на обыкновенного осла.
Мы тронулись в путь. Мне редко приходилось видеть более нелепую процессию, продвигающуюся в ночной мгле. Большая часть ослов лишь с огромным трудом могла следовать за двумя лошадьми и образцовым ослом, но поскольку почти за всеми животными шли погонщики с прутьями, имевшими полное право именоваться палками, и били их так сильно и так часто, что все это необычное стадо образовывало плотную на вид массу. Порой даже какой-нибудь осел, уносимый болью, обгонял лошадей, вынуждая своего всадника хвататься обеими руками за накидку, служившую одновременно и седлом, и стременами, и уздой, и несся вперед, своим сверхъестественным бегом напоминая коня Фауста, скачущего к Броккену.
Кстати, я забыл Вам сказать, что наши кордовские ослы, возвращенные к своей изначальной простоте, превосходили в этом отношении даже гранадских мулов, так как не имели и поводьев.
Но как, спросите Вы, прекрасная наездница, можно без седел, стремян, узды и поводьев управлять ослом?
Дело в том, сударыня, что кордовские всадники, пристрастившиеся к езде на осле, усаживаются по возможности на самом его заду, который в сравнении с другими частями его тела представляет собой достаточно безопасное место, где легче удерживать положение центра тяжести; сидя на подобной корме, он направляет свое верховое животное деревянной палкой. Нужно заставить его идти налево? Его сильно бьют по правому уху. Нужно заставить его идти направо? Его сильно бьют по левому уху. Надо заставить его идти вперед? Его хлещут палкой по заду.
Подгоняемый тремя такими способами принуждения, редко какой осел не будет проходить полагающееся ему испанское льё в час, сбрасывая при этом своего наездника на землю по меньшей мере раз на протяжении льё; но осел – чревоугодник от природы, и стоит ему освободиться от всадника, как он останавливается в десяти шагах от него, чтобы пощипать траву или полакомиться чертополохом; наездник, пользуясь тем, что его верховое животное впадает в смертный грех, занимает свое прежнее положение; он сохраняет это свое верховенство до тех пор, пока новый толчок не сбросит его на землю, но вскоре оно восстанавливается вследствие очередной ошибки невоздержанного в еде осла.
Мы выехали из ворот города и направились в горы, вырисовывавшиеся в ночи на фоне хмурого одноцветного горизонта.
От города до первых склонов гор надо было проехать около полутора льё. На каждом шагу мы встречали опоздавших всадников, спешивших присоединиться к нам; они подъезжали либо по проселочным дорогам, либо прямо через поле; некоторые из них были одеты в андалусские национальные костюмы, другие – в своеобразные наряды кордовских охотников, то есть на первых были суконные куртки и кюлоты, грубо расшитые хлопком или шелком, на других – кожаные куртки и штаны, расшитые бархатом; были и такие, что носили одежду обитателей Ла-Манчи, то есть куртку и штаны из овечьих шкур с вывернутым наружу мехом и высокую шапку из лисьего меха с опущенными на три стороны отворотами, защищавшими лоб от солнца, а уши от холода. У каждого был карабин, подвешенный не к ленчику, а сзади седла, и красный или голубой кушак, за который был засунут кинжал с рукояткой из рога, выточенной таким образом, что она могла входить в ствол ружья: кинжал при этом служил штыком. Кинжал находился за спиной, с правой стороны. Поверх курток у этих всадников были широкие дорожные плащи, какие носят исключительно кордовцы: в своей крайней простоте эта одежда восходит к самой глубокой древности. Плащ сделан из накидки тускло-ржавого цвета, вышитой красными и желтыми узорами. Такую накидку прорезают в середине, и в прорезь вставляют голову. При этом накидка спадает на плечи, облегая их; к обоим краям выемки приделан воротник, застегиваемый на пряжку спереди, под воротником же проходит с одной стороны от прорези ряд пуговиц, а с другой – ряд петлиц, хотя некоторые считают пуговицы и петли излишеством и ограничиваются лишь отверстием, в которое они просовывают голову, становясь чрезвычайно похожими на куклу, вошедшую в употребление у фокусников и именуемую Жан де ла Винь.
Нас знакомили с этими всадниками по мере их прибытия. Это были молодые люди из Кордовы и ее окрестностей (у подножия сьерры располагается много очаровательных жилищ). У первых склонов гор нас собралось примерно человек пятнадцать, не считая Росного Ладана, ухитрившегося присвоить себе самого резвого и в то же время самого миролюбивого осла; Поль распоряжался замыкающими шествие животными, нагруженными провизией. Звон стремян, топот лошадей, бряцание оружия; крики, которые на все лады испускали наши друзья, едва удерживающиеся без седел на своих ослах, – все это служило невероятно выразительной прелюдией к восходу солнца, вступившего в последнюю борьбу с ночным мраком.
Мы пересекли равнину и достигли, наконец, первых рубежей сьерры. Разумеется, никакой дороги здесь не было – только тропа. С самого начала она показалась нам труднопроходимой, узкой и каменистой; справа от нее почти все время тянулась пропасть, в некоторых местах достигавшая двух тысяч фунтов глубины. Слева время от времени попадались кресты с надписями. Первый я оставил без внимания, но, когда они стали появляться на каждом шагу, это меня встревожило, и я спросил у Парольдо, что эти кресты означают. «Подойдите к первому же, – ответил он, – и прочтите!» Я прочитал: «Еп estio sitio fue asacinado el conde Roderigo de Torrejas», что означает: «На этом месте был убит граф Родриго де Торрехас; прохожий, помолись за его душу. 1845 год».
В десяти шагах была еще одна надпись на доске, прибитой гвоздями вдоль ствола дерева и увенчанной деревянным крестом: «В этом месте в тот же день и в тот же год был убит его сын Эрнандес де Торрехас; помолись и за его ду-ту тоже». Эта надпись внушала еще больше беспокойства, чем предыдущая, потому что она была понятнее и потому что и сзади, и спереди, насколько хватало взгляда, виднелась беспрерывная вереница крестов.
Я подозвал всех и попросил Дебароля прочесть надпись вслух. «Господа, – сказал я, – это производит на меня гораздо более сильное впечатление, чем malo sitio Кастро-дель-Рио. Не привести ли нам в готовность карабины? Было бы печально оставить в Сьерра-Морене подобный след от нашего пребывания!» – «О, это ни к чему! – воскликнул Парольдо. – Сегодня в этой стороне нет грабителей; и к тому же, – добавил он, – нам точно известно, где они находятся».
Я привык слепо доверять людям, когда они говорят то, что им должно быть хорошо знакомо. «Ладно, – согласился я, снова надевая карабин на плечо, – в дорогу, господа!»
Наши спутники из числа местных жителей были уже далеко; они беззаботно проходили мимо всех крестов, как если бы они были водружены на древних курганах; чтобы их догнать, мы вынуждены были какое-то время ехать рысью. Вид этих крестов, чтение эпитафий, объяснения Парольдо посеяли если не страх, то грусть среди французской части каравана; польза от этого состояла в том, что мы стали разглядывать пейзаж, который, впрочем, и сам по себе мог привлечь наше внимание, настолько он был великолепен, настолько он был величествен.
И в самом деле, по мере того как мы поднимались по склону горы, горизонт перед нами делался бесконечным. У наших ног зияла пропасть с черными бездонными глубинами, еще не освещенными первыми лучами солнца. Дальше, за пропастью, последние склоны гор вдавались в равнину, словно гранитные ребра; на равнине, рыжеватой, как львиная грива, повсюду проступали пятна олив с серебристо-серой листвой; за равниной, окрашенная резко очерченными тенями и светом, вырисовывалась Кордова; а за ней, сверкая в лучах утреннего солнца, катил, словно огненную реку, свои воды Гвадалквивир; за ним виднелись другие безводные равнины, которые мы пересекли, страдая от жажды, будто в пустыне; наконец, на горизонте вставали другие горы, навечно вздыбившие пространство между Гранадой и Кордовой и казавшиеся отсюда всего лишь холмами. Весь этот горизонт представал в прозрачном и нежном фиолетовом цвете.
Мы все время поднимались, и удивительнее всего было то, что, пока происходило это восхождение и менялся окружающий пейзаж, солнце, становившееся все ярче и ярче, меняло его краски. Раз десять мы оборачивались в сторону Кордовы и исторгали восторженные возгласы. Но в конце концов и Кордова, и равнина, и горизонт – все осталось у нас за спиной: мы углубились в горы.
У гор вид тоже был особенный; больших деревьев растет здесь немного, то ли потому, что им не дают достичь их полного размера, то ли потому, что характер здешней земли не соответствует пышной растительности наших западных стран. Самые высокие леса в сьерре представляют собой поросль высотой в восемь – десять футов, и чаще всего встречаются сплошные заросли кустов, которые напоминают волны прижатых друг к другу кочанов зеленого салата и торчат наподобие сбившихся в клочья курчавых волос на голове негра. На этих кустах растут плоды, красивой формой и изумительным цветом напоминающие идеально ровную клубнику; они довольно приятны на вкус, хотя и несколько ватные; испанцы называют их madrono. Это не что иное, полагаю, как плоды земляничника, которые у нас не созревают из-за суровости климата.
Достигнув первых вершин, мы резко свернули налево, затем пересекли плато и, как я уже говорил, углубились в горы. Восхождение от первых склонов до этого первого плоскогорья длилось часа два. После этого мы то и дело поднимались и спускались, но каждый раз что-то выигрывая по высоте. Наконец начался долгий спуск: это была долина между гор; в этой долине, где царила прохлада, прижились крупные деревья. Если не считать пребывания в Гранаде – а ее никак нельзя упрекнуть в засушливости, – мы впервые со времени приезда в Испанию оказались под сенью листвы.
Парольдо, подгоняя своего осла, поравнялся со мной и, указывая на пространство, немного более разъезженное, чем остальная местность, сказал: «Вот смотрите, именно здесь меня захватили четыре года назад». Рядом высился крест. «В то время, когда это с вами случилось, этот крест здесь уже стоял?» – спросил я. «Да, – ответил он, – и это в немалой степени придавало торжественности происходящему». – «И чем вы отделались?» – «Тем, что было при нас. К счастью, мы были одеты очень просто, и они не потребовали выкупа». Мы поклонились кресту и продолжили путь.
Дорога спускалась к небольшой равнине, поросшей маки (да позволено мне будет употребить это наименование, принятое на Корсике); над ней возвышался холм, а на вершине холма стоял дом, весьма похожий на крепость. Посреди равнины находился водоразборный фонтан, и вода из него довольно обильным потоком стекала сначала в желоб, а потом – на землю. Около фонтана нас ожидали человек тридцать с ружьями и полсотни собак на своре. Зрелище было впечатляющее, особенно после всех полученных нами разъяснений по поводу стоявших вдоль дороги крестов. Я повернулся к Парольдо, и он, поняв мой вопрошающий взгляд, засмеялся: «Это наши загонщики, что дальше?»
Раз это были наши загонщики, никакого иного «дальше» быть не могло; мы направились к ним, подгоняя мулов. Они поднялись и, сняв шапки с головы, приветствовали нас. Равес вырвался вперед на своей лошади и подъехал к какому-то старому браконьеру, вставшему, словно часовой, между нами и этими людьми. После обмена парой фраз нам был дан знак приблизиться. Прием был дружеский, хотя и немного холодноватый. Я попытался внести немного тепла в это первое наше соприкосновение, заговорив о завтраке. Слова мои, как мне показалось, прозвучали желанными для всех, однако Парольдо, наклонившись к моему уху, прошептал: «Много пить не будем и не стоит позволять много пить нашим загонщикам». – «Почему?» – «Ну, мы же охотимся с пулями». – «Да, вы правы!»
Тем временем слово «завтрак» растопило первый лед. Каждый расстелил на земле свою накидку; подогнав ослов, нагруженных провизией, которая находилась под присмотром Поля, мы выложили ее на землю. Наши охотники не пожелали оставаться в стороне и тоже принесли как еду, так и питье. Их провизия состояла из оленьего бедра и копченого кабаньего окорока – вся эта продукция была из здешних гор. В качестве питья у них были малага и херес – результат их общения с контрабандистами. Мы в свою очередь достали индюшек, цыплят, паштеты, оливки и пузатые бурдюки, заполненные винцом из Монти-льи, о котором, помнится, я Вам уже говорил. Все это выложили на накидки.
Поль принес коробку с серебряными столовыми приборами. «О, – удивился Парольдо, – вы взяли с собой свое серебро?» – «Разумеется, разве мы не в приличном обществе?» – «Конечно, конечно, но здесь столько народу…» – «Хуан, друг мой, хотите пари, что не пропадет ни одна ложечка?» – «О нет, я не хочу никакого пари: знаете, в наше время случается столько всего необыкновенного!» Он засмеялся и оглянулся на Эрнандеса и Равеса. «Поль! – распорядился я. – Выложите столовые приборы на накидку. Те, кто слишком деликатен, чтобы есть руками, могут взять что пожелают». – «Сударь, вы по-прежнему возлагаете на меня ответственность за серебро?» – «Нет, пока мы в горах, вы ни за что не отвечаете, Поль!» – «Хорошо, сударь!» И Поль полностью опорожнил коробку с ножами, вилками и ложками. Такое доверие явно произвело превосходное впечатление на наших новых друзей.
Все принялись за трапезу с тем яростным аппетитом, какой пробуждается от утренней прогулки и от свежего горного воздуха. Собаки, привязанные к деревьям, тянулись к нам во всю длину своих свор и смотрели на нас горящими глазами, явно готовые проглотить не только наш завтрак, но и нас самих; вид у этих полудиких собак был устрашающий. Несколько караваев было распределено на всю свору – надо было поддержать силы собак, не лишая их чувства голода. Гончие собаки в основном охотятся для себя, а не для своих хозяев.
Мы в качестве разумных животных были весьма расположены не следовать этой умеренности, однако наш старый Кожаный Чулок (вполне справедливо было назвать этим именем браконьера, служившего нам посредником в общении с нашими новыми друзьями) обратил наше внимание на то, что солнце уже высоко и что до места первой облавы надо идти не менее часа. Собрав еду, закупорив бурдюки и убрав оливки, мы поднялись.
Наблюдая, как Поль спокойно привязывает коробку со столовым серебром на спину своего осла, я спросил: «Ну и как, Поль?» – «Что, сударь?» – «Серебро?» – «Все на месте». «В дорогу, в дорогу, господа!» – скомандовал я, оседлав своего великолепного осла. Мы снова углубились в горы, окруженные на этот раз тридцатью пешими охотниками, которые шли двумя рядами по обе стороны от нас, и сопровождаемые лающей сворой собак.
XXXII
Кордова.
Как и предсказывал наш проводник, за час мы добрались до места. Привал был сделан у подножия пика, который имел форму сахарной головы, расширенной у основания. Пик этот весь был покрыт зеленым кустарником, миртами, земляничными и мастиковыми деревьями примерно четырехфутовой высоты; изредка между ними виднелись прогалины. Высота пика достигала, вероятно, полутора тысяч футов. Нам предстояло окружить его подножие, в то время как наши спутники, предоставляя нам почетное право поохотиться, должны были взобраться на вершину и, спускаясь по всем склонам, выгонять на нас дичь.
Мы увидели, как наши загонщики, вытянувшись в одну цепочку, поднимаются медленным, но уверенным и безостановочным шагом, присущим только горцам; наконец они достигли вершины конуса, все сразу с криком взмахнули своими карабинами, спустили собак и двинулись вниз.
Окружающая местность выглядела великолепно; мы были в самом сердце Сьерра-Морены; со всех сторон пенились волны зелени. Насколько хватало глаз, виднелись складки местности и зубчатые силуэты гор на фоне неба. Нас расположили на некотором отдалении друг от друга, настойчиво советуя не шуметь, не стрелять в куропаток, зайцев и бесполезную дичь, а главное, стрелять только перед собой, ведь охотники, находящиеся по обе стороны от нас и скрытые зарослями, представляют собой чересчур ценную дичь даже для знатных иностранцев.
Каждый устроился на корточках, где ему было указано, и все договорились, что никто не покинет своего места, пока не протрубят общий сбор. Чем предусмотрительнее выглядели приготовления, тем возможнее казалась опасность. Поэтому я не хотел отпускать от себя Александра, не повторив ему лично те советы, какие были даны всем, ибо пребывал в уверенности, что он либо все пропустил мимо ушей, либо, если даже услышал что-то, не запомнил ни слова. Наконец я разрешил ему отойти вместе с Росным Ладаном, которого он очень хотел оставить при себе, не желая объяснять мне причины своей необычной прихоти.
Под видимой безучастностью Александра таилась дипломатическая хитрость, в чем я убедился еще до конца дня. Что касается Буланже, то он захватил с собой только альбом и карандаши, заявив: «Этого вполне достаточно, чтобы сделать набросок свирепого зверя, который обитает в густой чаще леса и которого мы собираемся потревожить в глубоком его убежище». При такой необычайной беспечности Буланже по отношению к опасностям, какую я часто замечал у него, его неопытность в подобного рода охоте могла подвергнуть его риску, и потому я решил поместить его как можно ближе к себе.