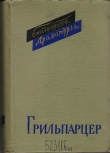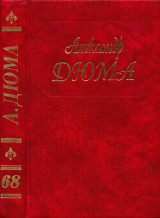
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 42 страниц)
Коррехидор соизволил улыбнуться. «Вы не можете быть судьей в касающемся вас деле, сеньор!» – сказал он мне. «Послушайте, господин коррехидор, поскольку правосудию угодно оказать мне любезность, подменив меня на моем месте, я со всем уважением, какое мне должно питать к правосудию, прошу его забыть о нанесенной мне обиде». – «Это невозможно. Мы никогда не допустим, чтобы такой прославленный француз, как сеньор дон Алехандро, безнаказанно подвергся, в лице своего сына, оскорблению, нападению и избиению. Мы, гранадцы, гостеприимны, сеньоры!» – «Разумеется, но я заявляю вам, что никогда не подпишу бумагу, способную разорить целую семью, сеньор коррехидор!» – «Послушайте, сеньор дон Алехандро, члены семейства Контрерас менее щепетильны, чем вы: они написали жалобу по поводу вашего вторжения в их дом; они выставляют себя потерпевшей стороной и требуют возмещения убытков; если вы не собираетесь разорять их, то они разорят вас! Это им будет тем более просто сделать, – добавил судейский, пристально глядя на нас, – раз вы заявляете о своем намерении уехать». – «Уехать? Кто вам это сказал?» – «Достопочтенный писарь, только что вышедший от вас: это его рвение побудило меня нанести вам визит».
Пять взглядов, острых как кинжалы, пронзили насквозь несчастного Дебароля, понявшего, наконец, всю глубину своего промаха. Мне стало ясно, что пора идти напролом и переходить от роли Фабия к роли Сципиона. «Ну что ж! Это так! – воскликнул я. – Мы уезжаем! Пусть семейство Контрерас разоряет нас, если ему хочется; однако мы не будем ничего подписывать, выступать свидетелями и, самое главное, не будем портить себе впечатление от такого восхитительного города, как Гранада, участием в отвратительной тяжбе! И на солнце есть пятна, это верно, но Гранада больше, чем солнце: она владычица солнца!» – «Можно ли это понять так, сеньор, что вы лишаете правосудие свободы действия?» – спросил судейский. «Я отдаю предпочтение здравому смыслу», – ответил я. «Вы это твердо решили?» – угрожающим тоном переспросил коррехидор. – «Бесповоротно!» – «Bueno![44]» И он вышел, почтительно раскланявшись.
Едва за ним закрылась дверь, я воскликнул: «Господа! Особые обстоятельства влекут за собой полное прощение! Забудем проступок Дебароля! Пусть они разоряют нас, но только издали, если такое возможно, и, пока еще есть время, сбежим от алькальдов, коррехидоров, а главное – от писарей!» – «Сбежим!» – раздался дружный хор голосов. «Да, сбежим, – промолвил Буланже, – но каким образом?» – «У нас есть лошадь, восемь мулов, мавританские стремена». – «Извините, – вмешался обеспокоенный Де-бароль, – почему вы все время твердите о мавританских стременах? Я слова не сказал о том, что ими снабжены наши мулы. Какого черта! Не говорите за меня то, о чем я и не заикался». Буланже затрепетал.
«В конечном счете, Буланже, даже если они и не совсем мавританские, – вмешался в разговор я, – лишь бы нога в них входила. Да и вообще, о чем речь! Сид даже после смерти прекрасно держался на лошади, так неужели ты, будучи живым, не в состоянии проехаться на муле?!» – «Ну, я попытаюсь, – сказал Буланже со своим обычным добродушием, – лишь бы там было хоть какое-нибудь стремя…» – «Но в этом же и загвоздка! – воскликнул Де-бароль. – Там нет никаких стремян, ни мавританских, ни любых других!» – «А куда же тогда девать ноги?» – спросил Буланже. «Ноги просто свисают; от этого они зимой согреваются, а летом не так немеют». – «Свисают? – воскликнул Буланже. – А как же равновесие, господа? Как же удерживать равновесие?» – «Для этого есть центр тяжести», – величественно изрек Дебароль.
И в самом деле, я вспомнил, что на проезжих дорогах нам встречалось немало путешественников, ноги которых болтались по бокам их мулов. «Думаю, что Дебароль прав, – признался я, – стремян не будет; но утешься, дорогой Луи, впереди и позади седла есть подпорки, которые старательно набиты чем-то мягким и чаще всего украшены золочеными гвоздями; ты увидишь, эти подпорки оказывают замечательное действие на всадника: одна поддерживает его живот до самой груди, а другая подпирает ему спину от поясницы до лопаток. Устроившись таким способом, путешественник может спокойно спать в седле, как в кресле. Ну а поскольку мы будем путешествовать днем, спать ты не будешь и, находясь в этом панцире, который оставляет тебе руки свободными, сможешь даже на ходу делать зарисовки. Неужели тебе так уж противно путешествовать в кресле?» – «О, нет!» – в полном восторге воскликнул Буланже. «Ты ведь соглашался поехать в лодке, а так даже удобнее и морская болезнь тебе не грозит». – «Да это же будет для меня настоящий праздник!» – «Стало быть, пусть будет кресло?» – «Пусть будет кресло!» – «Секундочку! Секундочку! – прервал нас Де-бароль. – Видно, что вы не путешествовали по Испании четыре месяца, как мы, иначе бы вы знали…» Дебароль остановился в нерешительности. «Так что мы бы знали?» – «Вы бы знали, что это седла, столь поэтично вами описанные Буланже, нечто вроде условных монет: счет по ним ведется, но они не существуют. Вот вы видели когда-нибудь пистоль?» – «Как?! – воскликнул Буланже. – Мавританские седла не существуют?» – «Да нет, существуют, существуют… у мавров, и в Алжире мы их, наверное, увидим, но в Испании их найти невозможно, а уж у погонщиков тем более». – «Так что же тогда есть у ваших погонщиков? Английские седла?» – «Гм! – пробормотал Буланже. – Английские седла!» – «Ты, как Бертран, – заметил Жиро, – не доверяешь англичанам». – «Но дело в том, – Дебароль решил разом показать нам всю глубину разверзшейся пропасти, – английских седел не существует, равно как арабских седел и мавританских стремян». – «Бедный мой друг! – обратился я к Буланже. – Как видишь, тебе придется довольствоваться вьючным седлом». – «Да-да, – добавил Маке, – с двумя пристегнутыми к нему корзинами». – «Ты поедешь на сиденье, водруженном на мула, в корзины положат провизию, а тебя возведут в чин главного провиантмейстера». – «Пусть будет сиденье, – согласился Буланже, – хотя я и остерегаюсь новомодных изобретений». – «Да о вьючных сидениях здесь никто и не слышал! – вскричал Дебароль. – Это иллюзия! Ни одного вьючного сиденья в Испании не было – по крайней мере, ни один мул еще не был обесчещен вьючным сиденьем, водруженным ему на спину!» – «Так на что же здесь садятся в конце концов?! Ответь мне немедленно! – потребовал Буланже. – Речь, значит, идет о том, чтобы добираться отсюда до Кордовы, не пользуясь вообще никаким седлом, как нумидиец? Ну же, Дебароль! Рожай, наконец!» – «Делается это так, – отвечал наш переводчик, – погонщик покрывает мула одеялом и притягивает одеяло ремнем». – «Ну а дальше?» – спросил Буланже. «А дальше, для тех, кто приучен к такой ненужной роскоши, как стремена, на загривок животного прикрепляется веревка, и на каждом ее конце делается скользящая петля; ноги продеваются в эти отверстия, и уверяю тебя, Буланже, что хотя это и не в лодке, и не в кресле, и не на вьючном сиденье, но, на самом деле, не так уж и плохо». – «Я пойду пешком!» – воскликнул Буланже решительным тоном. «Пешком?» – «Да!» – «Отсюда до Кордовы сорок два льё; нам следует проделать эту дорогу за три дня, то есть проехать тринадцать-четырнадцать льё в день, и только-то». – «Ты ошибаешься, друг мой, – внес поправку Александр, – сорок два испанских льё составляют примерно шестьдесят шесть французских, то есть проходить надо по двадцать два льё в день, а не по четырнадцать; уточняю для ясности: это восемьдесят восемь километров. Ты чувствуешь в себе силы преодолеть восемьдесят восемь километров за двенадцать часов? А?» – «К тому же, – присоединился к разговору я, – ты же знаешь характер мулов». – «Ну да, говорят: "Упрямый, как мул", я это слышал». – «Упрямый, потому что он не признает рыси, отвергает галоп и согласен идти только шагом. Ты же художник, вспомни, разве ты не видел множества вывесок с изображением девушки, тянущей мула, и мула, тянущего девушку? И что написано под такой вывеской? "Два упрямца”. Но ты ведь никогда не видел вывески с изображением понесшего мула с всадником или всадницей на спине!» – «Да, верно, никогда». – «Впрочем, если даже мул вздумает тебя понести, то с помощью узды…» – «Потянув ее, да?» – «Да, потянув ее, вот так! С помощью узды можно самого норовистого мула остановить, правда, Дебароль? Отвечайте же, черт вас побери! Вы же имели дело с мулами за те четыре месяца, что провели в Испании». – «Конечно, уздой мула легко остановить». – «Ну, вот видишь!» – «Если у тебя есть узда; но ведь узды то нет!» – «Нет узды?» – «И никогда не бывает. Хватает и недоуздка: из всех известных мне верховых животных мулом легче всего управлять!» – «Значит, мне не добраться живым до Кордовы! – заявил Буланже. – Я пойду пешком! Решено! Я пойду пешком!» – «Никто, кроме погонщиков, не способен идти пешком за мулом!» – вразумлял его Жиро. «Я буду подражать погонщику!» – «Ты сошел с ума?» – «Послушайте, – вмешался Маке, самый хладнокровный из всех нас, человек рассудительный, да и, в конце концов, находчивый, – я не понимаю, почему нужно обходиться без седел, стремян и узды». – «Что здесь не понимать? – ответил Буланже. – Да потому что их нет». – «Так ведь можно их раздобыть!» – «Где?» – «В лавке у шорника, черт побери!» – «А ведь в самом деле! – закричал я. – Давайте купим их, господа, давайте купим!» – «Это будет проявлением слабости характера», – высокомерно заметил Дебароль. «Черт побери! Ты хочешь ехать без седла, без узды, без стремян – твое дело!» – «А мы вдвоем с Маке пойдем в лавку, – сказал Александр. – Пошли, Маке!»
Маке взглянул на часы. «Господа! – произнес он, кладя их на стол. – Близится полночь, и я обращаю ваше внимание на то, что в девять часов вечера закрываются все лавки; а поскольку испанским продавцам вежливо торговать даже в течение дня и то слишком трудно, то уж торговать ночью они ни за что не решатся. Так что мой совет неисполним; я раскаиваюсь в том, что дал его, ибо породил ложные надежды, и приношу за него свои извинения обществу». – «Тем более, – взял слово Дебароль, чрезвычайно старавшийся походить на контрабандиста, – встреча с погонщиками назначена на четыре утра, и к этому времени, даже если торговцы согласятся открыть свои лавки, мы не успеем купить седла, стремена, узду, укрепить все это, собрать вещи, упаковать рисунки, заплатить по счету и выспаться – ибо, в конце концов, господа, надо же выспаться!»
Следует сказать, сударыня, что Дебароль страшно любит поспать! Он способен спать на верхушке колокольни, как петух, или на одной ноге, как цапля. Надо признать, правда, что и во сне он сохраняет весьма пристойный вид.
«Да есть же выход, черт возьми!» – прервал его Александр. «Какой?» – «Вместо того чтобы отправиться в четыре утра, поедем завтра в полдень; в шесть уже светает, лавки открываются в восемь; вещи будут собраны, рисунки упакованы, а счета оплачены с ночи, и у нас останется еще четыре часа, а этого более чем достаточно, чтобы купить для Буланже седло, пару стремян и узду». – «А остальным?» – «А остальные, черт побери, пусть едут как хотят!» – «А если завтра нашему отъезду станут чинить препятствия?» – «Мы прорвемся!» Дебароль кинулся к своему карабину. «Вот так! – воскликнул он, принимая позу эскопетеро. – Вот так!» – «Ты с ума сошел? Мы вшестером будем сражаться против целого города?» – «Ты же в одиночку захватил пороховой погреб в Суасоне! Тебя за это даже наградили орденом Июля! Вот так-то!» – «Что думает по этому поводу Маке?» – поинтересовался я. «Я думаю, господа, что вряд ли кто-нибудь попытается применить силу против людей, приехавших в Испанию в качестве почти что королевских гостей; я думаю, что нам грозит тяжба, но нас в нее еще не втянули; мы ничего не подписали, нам не вручили ни вызова в суд, ни предписания, ни официального письма, и потому мы вправе покинуть Гранаду и днем и ночью – словом, когда нам будет угодно. Вот если бы, напротив, нас официально вызвали в суд…»
Маке собирался перейти к заключительной части своей речи, как вдруг раздался громкий стук железного молотка по входной двери. «О! Кто это может рваться сюда в полночь?» – поинтересовался Жиро. «Вы считаете, что вас уже взяли в осаду? – ответил ему Маке. – Наверное, стучит один из постояльцев Пепино. Вы знаете, что они не смеют возвращаться к себе, пока мы не уснем; ну а этот, считая, что мы уже легли, отважился вернуться, бедняга. Это ведь так естественно». – «Ну-ну!» – с остатком прежнего сомнения в голосе протянул кто-то из нас.
Те, кто сомневался, оказались правы: тяжелые незнакомые шаги загрохотали по плитам внутреннего дворика, а потом по ступеням лестницы; наконец, на нашем пороге появился Пепино с ночным колпаком в руках. Лицо его светилось. «Письмо!» – объявил он. «Письмо? От кого?» – «От его превосходительства сеньора генерал-капитана! Внизу ждут ответа! Черт возьми! Какие у вас влиятельные знакомые, господа!» – «Ну хорошо. Ответьте посыльному, что мы уже спим, и вы нам передадите письмо гЬнерал-капитана завтра, когда мы проснемся». – «Но, сеньор…» – «Идите и делайте то, о чем я вас прошу!» Пепино поклонился и вышел.
Я держал пакет нетвердой рукой и взвешивал его на ладони: у меня было мрачное предчувствие. Мне казалось, стоит его открыть, и я выпущу на свободу множество несчастий, заключенных в этом новоявленном ящике Пандоры. Но делать было нечего, надо было ознакомится с роковым письмом; я распечатал его, прочитал сначала про себя, потом протянул Дебаролю, чтобы он громко прочел его вслух: это было его право. Письмо было написано по-испански и содержало три строчки, перевод которых Дебароль медленно и торжественно произнес:
«Генерал-капитан приглашает господина Александра
Дюма явиться к нему завтра в одиннадцать часов утра.
Примите уверения и пр.».
Итак, как видите, сударыня, генерал-капитан имел передо мною огромное преимущество: он был лаконичен. Эта лаконичность потрясла всех и вызвала у всех одно и то же Душевное волнение; все разом забыли о седлах, стременах, вьючных сиденьях и уздечках, а также о самолюбии и сне; каждый помчался к своим пустым сундукам, и они стали наполняться с такой же скоростью, как каналы во время наводнения. Даже Росный Ладан притворился, что шевелится, чтобы каким-то образом нам помочь. Маке подсчитывал расходы; Буланже упаковывал рисунки; Жиро прятал в корзину все, что оставалось от нашего былого великолепия: растительное масло, уксус, сливочное масло, окорок и т. д. Дебароль укладывал оружие и по своей привычке пару раз выстрелил, но, по счастью, никого не ранил. Александр спал, проявляя героизм, на какой мало кто был бы способен в таком шуме и гаме. А я, сударыня, забившись в уголок, предоставленный мне моими почтительными спутниками, начал писать Вам это письмо, которое я заканчиваю в тридцать пять минут четвертого утг ра; мои разбитые усталостью друзья в это время уже спят возле груды багажа и оружия, словно солдаты на бивуаке.
До отъезда, назначенного, как Вы помните, на четыре часа, остается двадцать пять минут, и я попытаюсь использовать их точно так же.
Остаюсь Вашим преданным и почтительным и пр.
XXII
Кордова.
Вы потеряли нас из виду, сударыня, в Гранаде, в пансионе на Калле дель Силенсьо, в ту минуту, когда пятеро моих друзей спали, стремясь как можно скорее восстановить свои силы, а я попытался последовать их примеру. Ровно в четыре часа утра раздался тяжелый топот по камням мостовой, разбудивший нас всех, за исключением Александра: это шли мулы. Мы открыли окно; теплые, влажные, стремительные пары наполнили комнату – шел дождь. Как видите, сударыня, корпорация судебных писарей весьма могущественна! Они задумали втянуть нас в тяжбу, побеспокоили алькальда, пустили вперед коррехидора, побудили к действию генерал-капитана и, наконец, заставили обрушиться с неба дождь, первый, под который мы попали со времени нашего отъезда из Мадрида.
Но поверьте, сударыня, если бы с неба на нас обрушился не дождь, а огонь, алебарды, мечи, писари и беды, мы были настроены так решительно, что все равно уехали бы в это утро. Разве теперь речь шла о седлах, уздечках, стременах и вьючных сиденьях? Мы способны были унести на своих собственных спинах мулов вместе с их погонщиками! Вы только вообразите, сударыня, прошу Вас, какой страшный шум должны были поднять на улице шириной в шесть футов восемь топчущихся на месте мулов, одна издающая ржание лошадь, два горластых погонщика, четыре алчных носильщика и хозяин, до последней минуты старающийся угождать своим постояльцам. Вообразите грохот сундуков, треск половиц, скрип ступеней, недоуменные расспросы разбуженных соседей. Подумайте о том, что в двадцати шагах от нас располагалась казарма жандармерии, что генерал-капитан ждал нас сегодня к десяти часам утра и что мы жаждали исчезнуть без шума, словно неосязаемые тени, – и тогда Вы поймете, сударыня, какие муки мы должны были испытывать в течение полутора часов, пока длился этот жуткий шум.
В довершение несчастья нас неожиданно окружила дюжина друзей, которых мы приобрели во время нашего пребывания в Гранаде и среди которых Кутюрье, тихий и скрытный, блистал своим отсутствием: все они выкрикивали душераздирающие слова прощания. Слова эти разносились по всему городу столь стремительно, что способны были разбудить всех генерал-капитанов Испании. Расставание длилось еще полчаса, и на архиепископской церкви пробило шесть, когда мы вырвались из объятий друзей и легким шагом, как прекрасная Календерия Ме-линдес, со всех ног устремились с ружьями за плечом и охотничьими ножами за поясом по извилистой улице, тянувшейся, как нам представлялось, по направлению к Кордовским воротам, где по нашему приказу к нам должны былй присоединиться погонщики с мулами.
Нам казалось, что опасность быть арестованными станет для нас намного меньше, если мы пойдем пешком, а не поедем на мулах. Вот что значит страх, сударыня! «Так вам было страшно?» – спросите Вы. Еще бы! Признаюсь, я всегда боюсь незнакомой опасности, неосязаемой, невидимой, а госпожу Юстицию – прошу у нее за это прощения – я ставлю в ряд именно таких опасностей. Когда со стороны Кордовы въезжаешь в Гранаду или выезжаешь из нее туда, видишь огромное круглое сооружение из кирпича, которое расположено на краю площади, обсаженной совсем еще молодыми деревьями; в одном из углов этой площади, за белой стеной, виднеется великолепная пальма, кокетливо покачивающая на ветру своим гибким и изящным плюмажем; именно здесь, на этой площади, где нам уже доводилось бывать, мы и решились остановиться, пересчитать друг друга и ждать прихода мулов, шаг которых, не в обиду Жиро будет сказано, далеко не мог сравниться с бегом тех, кто не пожелал нанести визит генерал-капитану.
Однако, убедившись, что весь наш отряд в сборе* и не видя, что наши мулы уже на подходе, мы сочли за лучшее вступить во владение ими лишь за стенами города и продолжили свой путь в сероватых сумерках, начавших сменять ночную мглу. Я говорил Вам уже, сударыня, что шел дождь; в любом другом месте и в иное время такой дождь стал бы грустной перспективой, особенно для тех, кто путешествует на испанский лад, то есть sub dio[45]; но то ли потому, что испанский дождь, падающий на изгороди, грунт и равнину, тепел и благоуханен, то ли потому, что, пропитав влагой дорожный плащ, он дает знать путешественнику, что тот совершенно свободен, независим, вправе сам распоряжаться собой и удаляется от всякой цивилизации и всяких капитанств, мы весело шли по размокшей дороге.
При этом мы часто оглядывались. Если бы у нас было желание выставлять себя людьми поэтического склада, нам следовало бы сказать Вам, сударыня, что, напоминая обитателей потерянного рая, но одетые пристойнее их, мы оглядывались для того, чтобы разглядеть в утреннем тумане мавританскую Гранаду; на более прозаическом языке можно было бы еще сказать Вам, сударыня, что мы оглядывались для того, чтобы узнать, следуют ли за нами мулы. И все же правда, сударыня, настоящая, бесспорная правда, истинная правда заключается в том, что мы оглядывались, как дезертиры без документов, опасающиеся преследования.
Дорогу впереди нас пересекал небольшой изящный мост; мосты в Испании вообще весьма кокетливы: им известно, что они по сути – мосты in partibus[46], и, в отличие от того, что принято в других странах, ценятся не полно-водностью рек, которые под ними протекают; у них всего по одному пролету, это правда, но они используют его как открытые уста, чтобы улыбаться путнику.
По правде сказать, сударыня, я мог бы, стоило бы мне только пожелать, закрутить здесь фразу повыразительнее знаменитых слов г-жи де Севинье: «Держу сто, держу тысячу против одного, что не угадаете», если бы предложил Вам догадаться в свою очередь, что именно, обернувшись назад, мы увидели в первых лучах рассвета. К счастью, мой эпистолярный слог гораздо менее насмешлив, чем у упомянутой прославленной дамы, и потому я скажу Вам, что на сероватой дороге, позади длинной вереницы наших мулов, идущих, как обычно, след в след, словно скованные цепью, позади Росного Ладана, восседающего на самом лучшем муле, какого только он смог выбрать, позади двух погонщиков, на фоне туманного горизонта, в трех сотнях шагов от нас, проступали три движущихся зловещих силуэта.
Судя по тому, что удавалось разглядеть сквозь дымку, это были три темные, еще плохо различимые фигуры. В двухстах шагах от нас эти фигуры приняли облик бравых солдат в синих мундирах, с желтой кожаной амуницией; когда же они оказались в ста шагах от нас, стало понятно, что это просто-напросто жандармы с ружьями в руках и треуголками из вощеной ткани на голове.
Если бы это письмо, сударыня, по своей длине могло бы хоть как-то сравниться с теми, какие я до этого имел честь писать Вам, я не преминул бы уже здесь поставить традиционное: «Примите уверения…» и закончить на этом захватывающе интересном месте, что, возможно, заставило бы Вас с нетерпением ждать моего следующего письма, а читающую публику – следующего фельетона. Однако, сударыня, Вы должны были уже привыкнуть к тому, что в моих письмах не следует искать никакой иной последовательности, кроме естественной последовательности событий, и никаких иных драматических ухищрений, кроме изложения этих событий самих по себе. И потому, вместо того чтобы сочинять сейчас фельетон, заслуживающий одобрения своей искусной интригой и прерванный на самом интересном месте, я просто продолжу свое повествование и напишу еще три-четыре страницы, но прошу Вас, сударыня, прочитайте их с такой же благосклонностью, как если бы они заставили ждать себя целый день. Итак, Маке первый воскликнул: «О! Жандармы!»
Как Вы> несомненно, догадываетесь, этот возглас возымел определенный успех: мы развернулись на каблуках так согласованно, что это сделало бы честь пехотному взводу и принесло бы заслуженный орден отделению национальной гвардии. Но я-то еще прежде увидел этих жандармов! Я увидел их тем зорким зрением, силой которого Вам было угодно восхищаться в тот день, когда с моей террасы в Сен-Жермене, то есть на расстоянии в четверть льё, я на глазах у Вас различил показания часов на железнодорожном вокзале. Итак, повторяю, я еще раньше Маке разглядел этих жандармов и за те десять секунд, на которые мне удалось его опередить, сумел взвесить в уме все вероятности и сказать себе, что самая правдоподобная из них состоит в том, что эти бравые агенты полиции намеревались задержать нас и, разминувшись с нами на несколько минут в пансионе, помчались со всех ног, обутых в бычью шкуру, как говорил г-н де Шатобриан, по направлению к Кордове, ибо всем заранее было известно, что мы поедем в эту сторону.
Убегать из Гранады чуть поспешнее и чуть раньше того часа, когда уезжают порядочные путешественники, неукоснительно расплатившиеся за постой и добавившие к этому обычные чаевые, уже само по себе выглядело некрасиво, а уж насколько неприятно будет возвращаться в город под конвоем жандармов, да еще как раз в тот час, когда просыпаются горожане и открываются лавки! Мысль об этом была отталкивающей, и я отталкивал ее от себя в течение тех десяти секунд, на какие мне удалось благодаря своей зоркости опередить Маке.
Восклицание «О! Жандармы!» потрясло, как уже было сказано, всех, но не потому что оно несло с собой какое-то неожиданное известие, а, напротив, потому что Известие это было более чем ожиданным! Как я говорил, все обернулись. Дебароль, самый воинственный из нас, первым отреагировал на это восклицание. «Браво! – вскричал он. – Нам предстоит дать битву!»
Я оглядел одного за другим всех своих товарищей и понял, что, хотя никто из них не жаждет битвы столь пылко, как Дебароль, все они, в случае необходимости, склонны принять бой. Я, естественно, в ту же минуту взял на себя общее командование армией, состоящей из кавалерии и пехоты. Армия эта, представьте себе, сударыня, была внушительна и не испытывала недостатка ни в оружии всякого вида, ни в снаряжении всякого рода. Кавалерия состояла из Александра, Жиро и Дебароля – в нашем отряде эти трое были самыми отважными и искусными наездниками. Пешие войска были представлены Маке, Буланже, двумя погонщиками, Полем и мной. Однако погонщики и Поль были резервными войсками, чересчур полагаться на которые было бы опрометчиво.
Я окинул взглядом местность вокруг, намереваясь извлечь наибольшую выгоду из особенностей ее расположения. Река, которой полагалось течь в русле и которую вот уже полгода там никто не видел, предоставляла нам благодаря своему отсутствию естественные ретраншементы, где весьма разумно было засесть в засаду. Мост, переброшенный через реку, мог быть использован как легкое укрытие для кавалерии, а мы, находясь в засаде, действенно прикрыли бы конников; тем самым мы дали бы им время перестроиться и прийти нам на помощь, осуществив новую атаку, если в этом будет нужда.
Я приказал кавалерии оседлать коней, пехоте – расположиться в русле реки, а резерву – держаться в тылу. Вот когда я восхитился Провидением Господним. В незапамятные времена, предвидя, что настанет час, когда нам потребуется русло реки, чтобы устроить из него ретраншемент, Бог, после того как он повелел морю: «Доселе дойдешь и не перейдешь», повелел испанским рекам: «Теките в руслах ваших лишь по шесть месяцев в году!» Когда эти распоряжения были сделаны, у нас еще оставалось время, и я открыл военный совет. Высказывались по старшинству. Дебароль, наш старейшина, воскликнул, размахивая карабином: «Война! Война!»
Жиро сказал, что он никогда не писал батальных сцен, потому что ему еще не доводилось видеть сражений, но не прочь увидеть одно из них, чтобы понять, как относиться к художественному мастерству Сальватора Розы, Лебрена и Ораса Верне; он добавил, что изображение этой битвы, которая будет дана во имя вящей славы Франции, непременно займет место в Версале, созданном королем как воплощение ее величия, и что он, став свидетелем этой битвы, обретет шансы получить от правительства такой заказ; вследствие всего этого он присоединяется к мнению своего друга Дебароля и высказывается за войну.
Буланже заявил, что, говоря по совести, он не чувствует за собой никакой вины, если не считать совета, данного младшему Контрерасу – смягчить тона его картонной Альгамбры, чтобы сделать более удовлетворительным по цвету весь этот макет в целом, что он никому лично не нанес вреда – ни алькальду, ни коррехидору, ни генерал-капитану, ни писарям, и потому, пребывая в полном согласии со своей совестью, он предупреждает, что если господа жандармы его побеспокоят, то ему придется побеспокоить господ жандармов. В итоге он, подобно Жиро и Дебаролю, высказался за войну
Тем временем жандармы приближались. Слово взял Маке. Он признал, что война – это тягостная по своим последствиям крайность, дикая нелепость с точки зрения общественной жизни; но, тем не менее, ее приходится одобрять с исторической точки зрения; к тому же она озаряет славой как судьбы империй, так и жизнь людей; он добавил, что, помимо несчастий, война приносит и выгоды и что коль скоро люди живут в странах недостаточно цивилизованных, где споры между королями, народами или отдельными личностями заканчиваются войной, то следует предпочесть войну позорному миру. Он окончил свою речь, сделав замечание, что удар веера, нанесенный алжирским деем г-ну Девалю, привел к завоеванию Алжира, и нет ничего невозможного в том, что камень, брошенный в Александра членами семейства Контрерас, приведет к, покорению Гранады. В этом случае я вполне естественно оказывался непосредственным преемником покойного короля Боабдила, Александр – наследным принцем, Маке – моим первым министром, Буланже и Жиро – моими придворными художниками, Дебароль – главнокомандующим моими войсками, Хуан Лопес и
Алонсо Перес – управляющими моих конных заводов и, наконец, Поль – начальником евнухов; положение каждого при этом становилось куда более почетным, чем если бы им пришлось в наручниках возвращаться в Гранаду. Итак, он высказался за войну!
Импровизация Маке, не только пылкая, но научно и политически обоснованная, была встречена гулом одобрения. «Слово Александру!» – объявил я, знаком призывая всех успокоиться, ибо в определенных обстоятельствах энтузиазм становится плохим советчиком. «Спасибо, отец!» – поблагодарил меня Александр.
Он вытащил из кармана бумагу; мы все решили, что он просто-напросто хочет сделать из нее пыжи и вложить эти пыжи в свое ружье, но мы ошиблись. Временами в этой юной голове обнаруживается немало благоразумия, а самое главное – рассудительности. Он раскрыл бумагу, в которой мы по ее пестрой окраске узнали паспорт, и зачитал нам следующее:
«Мы, министр и государственный секретарь иностранных дел, призываем всех гражданских и военных должностных лицу на которых возложено поддержание общественного порядка внутри королевства и во всех странах, находящихся в дружественных или союзнических отношениях с Францией, предоставлять свободный проезд господину Александру Дюма-сыну, направляющемуся в Алжир через Испанию, и оказывать ему помощь и покровительство в случае необходимости. Настоящий паспорт выдан в Париже 2 октября 1846 года. Министр иностранных дел Гизо».
«Господа, – добавил Александр, – как вы понимаете, из этой бумаги следует, что от имени короля Франции всем предписывается предоставлять нам право свободного проезда и перемещения. Я говорю «нам», а не только «мне», поскольку у каждого из вас, по крайней мере я это предполагаю, есть такой же паспорт, как у меня. Этот приказ дан всем гражданским и военным должностным лицам как внутри Французского королевства, так и в дружественных Франции странах. Так вот, хотя мы сейчас и не во Франции – признаться, я был бы не прочь сейчас там оказаться – так вот, хотя мы сейчас и не во Франции, но все же находимся в стране, которая дружественна Франции. Что мы делаем в этой дружественной стране? Перемещаемся по ней, как то сказано в наших паспортах. Жандармы, являющиеся всего лишь подчиненными гражданских и военных должностных лиц, не только обязаны предоставлять нам свободный проезд и свободное перемещение по стране, но должны также оказывать нам помощь и покровительство в случае необходимости, противодействуя тем, кто помешает нам ехать туда, куда мы пожелаем. И потому я предлагаю, чтобы, прежде чем переходить к военным действиям, каждый из нас, предъявив свой паспорт, попросил помощи и защиты у жандармов, пусть даже против них самих. Если жандармы откажут нам в помощи, то они нарушат свои обязанности и мы их отдубасим». – «Да, но…» – отважился вставить я. «… мы их отдубасим, – продолжал Александр, – и будем вправе это сделать, опять-таки ссылаясь на наши паспорта. А в наших паспортах, правда на обратной стороне, но все же написано: