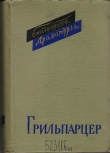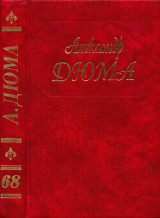
Текст книги "Из Парижа в Кадис"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц)
Я вышел и послал за шляпой, а так как еще в Мадриде я купил гетры и кюлоты, то через десять минут вернулся одетым как настоящий андалусец. Меня приветствовали радостными криками; все руки протянулись ко мне. В мое отсутствие Жиро попросил бумагу, перо и с той четкостью линий, какие присущи его удивительному таланту импровизатора, воспроизвел эту сцену.
На рисунке были изображены окружавшие меня три моих новых друга: один опоясывал меня своим шарфом, другой застегивал на мне свой жилет, третий протягивал мне свою куртку. В глубине был виден четвертый, поспешно снимающий с себя недостающую мне часть туалета. Сходство всех персонажей, включая меня, было настолько удивительным, что в ту же минуту шедевр стал переходить из рук в руки. Но поскольку все не могли стать его обладателями, он был разыгран в лотерею. Выиграл Парольдо. Чтобы утешить остальных, Жиро в ту же минуту предложил сделать их портреты. Буланже потребовал, чтобы это право было предоставлено в первую очередь ему. Тотчас же отправились за бристольским картоном и коробкой с пастелью. Потом была заказана гигантская чаша с пуншем.
Трудно представить себе, сударыня, вечер прекраснее того, какой мы провели в обществе наших новых знакомцев, особенно если учесть, что он был совершенно неожиданным. В десять часов все поднялись; мне хотелось удержать моих гостей.
«Отпустите их!» – промолвил Перес. «У них какие-то дела?» – поинтересовался я. «Да». – «А что они должны делать?» – «Они собираются "pelar la pava"».
Ах, сударыня, я настоятельно прошу Вас проявить по отношению к моим испанским друзьям всю свою снисходительность, как только я объясню Вам, что они подразумевают под словами «pelar la pava». Прежде всего, следует сказать Вам об их буквальном переводе. Слова эти означают: «ощипывать индюшку». Вы помните, сударыня, я рассказывал Вам о жалюзи с частыми решетками, о балконах с узкими просветами? Именно к ним по вечерам, когда луна сверкает на небе, но свет ее не может проникнуть в глубь узких улочек, именно сюда, как во времена графа
Альмавивы, как во времена Филиппа II, как во времена Фердинанда Католика, молодые люди приходят поджидать, спрятавшись во тьме и закутавшись в плащи, своих нежных сеньор, испокон веков приводящих в отчаяние своих матерей и опекунов. В самом деле, по заведенному порядку все дочери и воспитанницы в течение дня принадлежат своим мамашам и опекунам, но, когда наступает вечер, девушки становятся сами себе хозяйками; правда, свобода эта весьма ограниченная, в пределах балконов и жалюзи.
Но какими бы узкими ни были просветы между прутьями балконов, какими бы частыми ни были решетки жалюзи, хоть один луч света сквозь них может пройти, а всюду, где проходит луч света, проходит и ручка андалуски. Любовник, как уже было сказано, на месте и ждет; если балкон находится на первом этаже, любовнику не на что жаловаться: без всяких усилий он может прикасаться к протянутой ручке, сжимать, целовать ее, он может прижиматься губами к отверстиям решетки, он может чувствовать дыхание обожаемых губок, и, если только та, кого он молит, проявит желание, он может поцеловать даже нечто получше дыхания. Существуют разные легенды, которые рассказывают о том, о чем нельзя рассказывать, и пытаются доказать, что все эти решетки на балконах, хотя и приносят большие затруднения влюбленным, но, в сущности, бесполезны; однако, откровенно говоря, я считаю, сударыня, что это только слухи, и их нарочно распространяют любовники, чтобы показать бесполезность всех этих отвратительных железных клеток, где щебечут столь очаровательные птички.
Но если балкон находится на втором этаже, то, как Вы понимаете, сударыня, бедный любовник обречен играть роль лиса, стоящего у самого низа виноградной лозы; однако он не смиряется так легко, как зверь-философ, способный утешиться при любой потере, даже при утрате хвоста. Поэтому любовник придумывает всякого рода средства, чтобы добраться до своей избранницы, включая и веревочные лестницы! Да, сударыня, веревочные лестницы существуют в наши дни, как и раньше! Они, конечно запрещены, как и кинжалы, но в итоге их можно купить у любого канатчика. Веревочные лестницы – одно из самых употребительных средств; есть еще подставляющие свои плечи друзья: они покуривают сигареты и играют на гитаре, так что красотка наслаждается беседой с любовником и одновременно слушает серенаду. Наконец, есть еще и такие счастливцы, которых Господь Бог одарил крючковатыми ногтями, благодаря чему они, как ящерицы, карабкаются по стенам домов; у них, как опять-таки гласят предания (а Испания, как Вы знаете, это страна преданий), большое преимущество перед всеми прочими.
Им не нужны ни лестницы, которые могут быть обнаружены, ни друзья, которые могут проговориться; говорят, что у них есть напильники, способные легко перепилить один-два прута решетки; разумеется, балконы второго этажа осматривают реже, чем первого; их высота внушает уверенность матерям и опекунам, но приносит ущерб прекрасным Розинам. И тогда приходит черед монастырей с их еще более частыми решетками и более тесными прутьями. К счастью, революция упразднила монастыри, и потому все или почти все испанские девушки – ярые революционерки. Впрочем, не находите ли Вы, сударыня, что есть нечто романтичное и чарующее в словах, которыми обмениваются сквозь решетки, в ручках, протянутых между железными прутьями, в воздушных поцелуях среди дуновений ночного ветерка, насыщенного ароматом жасмина и померанцев; да и во всех этих воздушных любовных страстях, в этих акробатических прогулках, когда подле счастья каждоминутно таится опасность?
Однако, сударыня, это дивное занятие, которому предаются любовники, называется теми, кто не хочет или уже не может ему предаваться, «pelar la pava», то есть «ощипывать индюшку». Но, уверяю Вас, сударыня, гнусное название, присвоенное этому занятию, не мешает тому, что само действие широко практикуется. В этом легко было убедиться в тот же вечер, когда мы вышли погулять. Ах, сударыня! До чего любопытно выглядят улицы андалусского города ночью! Можно сказать, что ночью людей на них больше, чем днем; все время слышится легкий шумок от бесед вполголоса, от вздохов, от приглушенных поцелуев, радующих душу того, для кого счастье ближнего кое-что значит. Ну уж в этом отношении, сударыня, наш кордовский ближний наверняка один из самых счастливых на земле.
XXIX
Кордова, ноябрь.
На следующий день, как Вы прекрасно понимаете, сударыня, нам нужно было прежде всего осмотреть город, представший перед нами накануне в крайне неблагоприятном свете, как это бывает со всем, что впервые являет себя глазам путешественника, когда он устал, томим жаждой и раздражен. Кроме того, на взгляд и мой, и моих спутников, о городе, приютившемся, как Кордова, у подножия гор, которые защищают его своей тенью, на берегу реки, которая убаюкивает его журчанием своих вод, наполненном памятниками истории, которые делают его великим на все времена, нельзя поспешно судить по его узким улицам и колким мостовым. И потому мы обзавелись помощниками: Пересом – по праву соотечественников и Парольдо – по праву завоевателей. Нет особой необходимости описывать Вам Переса, сударыня.
Он француз, вынужденный оставаться в Кордове, а город, где приходится жить вдали от того места, где ты родился, всегда ужасен. Поэтому Пересу понадобилась вся его обращенная на земляков любезность, чтобы заставить нас восхищаться красотами родины Сенеки. Помимо этого, есть еще одно обстоятельство, какое Вы, сударыня, несомненно замечали: это чувство радости и довольства, которое приносят живущему вдали от родины люди, приехавшие из его страны. Словно воздух родины еще сохранился в ваших легких, и изгнанник, которого вы посетили, вдыхает его вместе с вашими словами. Он расспрашивает обо всем, он вспоминает, и это уже не вы путешествуете по стране, где он вас принимает, а он вернулся на родину, только что покинутую вами. Окружающий его пейзаж внезапно рассыпается как картинка в калейдоскопе в руках ребенка, а небо, каким бы оно ни было голубым, уступает место порою серому небосводу его любимого края, и, ведомый путешественником, не перестающим удивляться, что можно найти столько прелести в стране, которую сам он с таким удовольствием покинул, правда на время, изгнанник прогуливается по своему прошлому, по-прежнему надеясь обратить его в свое будущее. Никто не проявляет столько эгоизма, сколько путешественник, постоянно что-то расспрашивающий и ни о чем не рассказывающий. И тем не менее, сударыня, путешественника охватывает чувство бесконечной грусти, когда, набираясь впечатлений от незнакомых мест, он встречает соотечественника, который, находясь в пятистах льё от отчизны, тут же становится ему другом и который среди этой природы, полной новизны, своеобразия и чудес для того, кто пребывает в ней недолго, устроил себе жизнь сначала новую, потом привычную, потом однообразную, а затем до унылости монотонную; все здесь для него утратило свой первоначальный блеск, и, среди этого волшебного оазиса, среди этих деревьев с золотыми плодами, под этим сияющим небом, он со слезами на глазах говорит вам о своем грязном Париже с его упорядоченной застройкой и серым небом где, по выражению одного нашего остроумного друга, работа солнца – просто синекура.
И все же, когда с ним постоянно видятся, пожимают ему руку, живут вместе с ним в течение нескольких дней и когда с каждым новым воспоминанием ощущается порыв воздуха родной страны, которым изгнанник дышит, заполняя легкие своей души, путешественники забывают о печали того, кому так и не удается согреться в лучах их радости. Но лишь когда по истечении трех или четырех дней, которые они провели вместе с ним и которые ему казались вечными, так много воспоминаний и надежд в них вместилось; лишь когда он видит, как путешественники, напевая, укладывают свои чемоданы, ибо здесь им уже нечего смотреть, и говорят о тех краях, куда они собираются поехать, – вот тогда изгнаннику становится по-настоящему грустно, и, прижавшись спиной к стене, с мокрыми от слез глазами, он следит за начавшимися сборами и сожалеет о приезде этих эгоистов, доставивших ему такую скудную радость и теперь, даже не подумав оглянуться назад, собирающихся оставить его в одиночестве тем более безмерном, что на миг оно было до отказа заполнено.
Однако потрясение было сильным, и изгнанник воображает, что он никогда не сможет вернуться к своей прежней жизни после того, как ему довелось на короткое время приобщиться к жизни других. Он пытается озарить расставание грезой о будущем. Он заверяет, что разыщет вас в тех странах, куда вы едете, подчинит себе обстоятельства, обещает писать вам, умоляет вас отвечать ему и, сняв этим немного тяжести со своей души, провожает вас до кареты, со слезами обнимает вас, хлопоча по поводу всяких мелочей, которые могут по его расчету еще немного задержать ваш отъезд.
Но вот раздается неумолимый голос кондуктора, дверца захлопывается, последнее пожатие рук – и карета трогается. Голосами, глазами, жестами, порывами души вы еще приветствуете друг друга, но, когда карета скрывается за поворотом дороги или в облаке поднятой пыли, ваш новый и уже покинутый друг возвращается к себе, но часть его растерзанного сердца осталась там, на дороге, по которой мчится экипаж, – ведь там, с теми, кто в нем, его родина. Какое-то время путешественники беседует о том, кто их так замечательно принимал, говорят о радостях предстоящей когда-нибудь встречи; потом их мысли, отвлеченные новым пейзажем, меняют свое направление, и разговор течет по тому же руслу, что и до въезда в город;
мы составляем такое тесное и хорошо защищенное сообщество, что меланхолия может проникнуть в него только случайно и тут же бывает принуждена удалиться; времени хватает лишь на то, чтобы путешествовать, а не грустить, так что мало-помалу изгнанник совершенно теряется среди тысяч подробностей горизонта, а сам он после отъезда людей, питавших его грезы, возвращается к своей привычной жизни; время от времени он принимается мечтать, вспоминать тех, кого видел, и под впечатлением этого пишет письмо, которое доходит до них однажды, застав их среди новых впечатлений и пробудив в памяти имя того, чей образ в их душе если и не умер, то, по крайней мере, спит глубоким сном. Вот что чаще всего происходит с нами, теми, кто много путешествует, и что должно произойти с Пересом, если все потечет обычным образом. Счастье это или несчастье? Единственное, что можно сказать, – это правда, именно так все и бывает.
Что же касается Парольдо, сударыня, то я был бы рад обрисовать Вам его изысканное благородство и удивительную мягкость, но боюсь, что, пройдя через Ваши ручки, мое письмо станет затем известным ему и заденет его неподдельную скромность. Парольдо почти такой же изгнанник, как Перес. Мне никогда не приходилось видеть более доброжелательного лица с отпечатком такой глубокой меланхолии. Он не француз и не испанец, он итальянец, но он жил во Франции и, проведя там три года, приобрел такую привычку к нашей стране и такую потребность в ней, что он протянул нам руку как соотечественникам и говорил с нами о нашей родине словно о своей; при этом, с присущей юношеству склонностью к иллюзиям, он говорил о ней как о своей мечте. Парижская жизнь, шумная, стремительная, фантастическая, в которую он окунулся на три года, повернутая для тех, кто проносится сквозь нее, только своей блестящей стороной, была, пожалуй, чересчур опоэтизирована его пылким воображением. У Парольдо в Кордове семья; она не может обходиться без него и пребывает в тревоге при малейшем его отсутствии; семью он любит и беспокоится о ней, когда покидает ее. Желание опять увидеть Париж и боязнь оставить любимых родных – вот чувства, постоянно борющиеся в нашем новом друге; но голос сердца в нем сильнее, чем голос желаний, дружба крепче, чем прихоть, и он остается, но объят печалью, и глаза его устремлены в сторону того края, откуда в сентябре прилетают ласточки.
Вот те, кто занимает первое место среди новых друзей, которых мы обрели в Кордове; остальные меньше общаются с нами из-за различия языков, но, как я Вам уже пи-сад, сударыня, принимают нас с дружеской сердечностью. Итак, возвращаясь к тому, с чего я начал это письмо, – нам следовало осмотреть город; вооружившись карандашами, мы двинулись в путь в сопровождении Переса и Парольдо. Александр, имея опыт путешественника, которому никогда не приходилось ездить дальше заставы Звезды, решил, что он все еще находится на асфальте бульвара Итальянцев, и потому с безумной доверчивостью отважился выйти в туфлях на испанскую мостовую. Отойдя не больше чем на десять шагов от гостиницы, он запрыгал, как кот, пробирающийся по раскаленным углям.
«Да что с вами такое?» – спросил его Перес, который так привык к островерхим камням, образующим мостовую города, что не обращал на них ни малейшего внимания. «А то, что ваш город врезается мне в ноги, – ответил Александр, – и я вколачиваю себе камни в пятки!» – «Это Абд ар-Рахману Второму, – пояснил Перес, – в девятом веке первому пришла мысль замостить улицы в городе». – «Такая подробность очень интересна, однако она меня не утешает», – заметил Александр. «Но если вы можете сообщить нам другие такого же рода, – обратился я к Пересу, – то лично я очень быстро смирюсь с прогулкой по тротуару». – «К вашим услугам, – ответил Перес. – Но давайте сначала мы все осмотрим, а потом, когда вы настроитесь делать заметки, я вам расскажу все, что вы пожелаете». – «Куда мы сейчас пойдем?» – «В единственную мечеть, которая уцелела в городе после землетрясения тысяча пятьсот восемьдесят девятого года; построена она была в сто семидесятом году хиджры эмиром Абд ар-Рахманом». – «Пошли!» – сказал Дебароль, взяв обе даты на заметку.
Несколько минут спустя мы остановились и вошли во двор шириной примерно в сто восемьдесят футов, вытянувшийся вдоль всего здания перед входом в него. В середине двора располагался мраморный бассейн с непрерывно бьющим фонтаном; кругом росли пальмы, кипарисы, лимонные и апельсиновые деревья, усыпанные, даже в это время года, плодами, которые свешивались с концов отяжелевших ветвей. Когда мы вошли во двор, широкий солнечный луч освещал стену напротив входа в мечеть, и испанцы, сидевшие там в беспечных позах, курили, глядя на смуглых ребятишек с бархатистой кожей, которые носились вокруг бассейна; прибавьте к этому, сударыня, бесчисленных птиц, изливающих на головы тех, кто наслаждался безделием или прогуливался, свой концерт, затихающий к вечеру под журчание фонтана, который, как я уже говорил, не затихает никогда. Вне здания царила ослепительная гармония звуков, солнца и ароматов, и это создавало странный контраст с тем, что вы видели, попадая внутрь мечети.
Порой, сударыня, Вы видите фантастические сны; Вам снится, что Вы находитесь в огромном здании, свод которого покоится на тысячах колонн, таких легких, что Вам кажется, будто они могут исчезнуть от одного дуновения ветра. Между полом и сводом – прохладный и благоуханный полумрак, пронизываемый время от времени солнечным лучом, который, натолкнувшись на пять или шесть колонн и лизнув их своим светлым пламенем, лениво ложится на плиты пола. Время от времени появляются какие-то незнакомые люди, потом они исчезают, и Вы не можете отыскать дверь, через которую они вышли. На смену необычному первому впечатлению вскоре приходит впечатление7 более спокойное; у Вас нет больше желания вырваться из этого сна в столь фантастическом обрамлении; Вы пристально изучаете его во всех подробностях и обнаруживаете капеллу, среди каменной зубчатой резьбы которой весело играет всеми оттенками свет, прошедший сквозь изумительные витражи, и во мраке Вы различаете большую фигуру Христа, Девы или апостола, которая притягивает Вас к себе своим неодолимым ангельским очарованием; Вы становитесь на колени, а когда поднимаете голову, видите ослепительную золотую мозаику, где вязью вьется страница Корана, или же коленями натыкаетесь на мраморную могилу какого-нибудь арабского вождя, которому продолжает оказывать загробное гостеприимство христианство.
Внезапно в центре помещения раздается музыка, торжественная, величественная, незримая, христианская, наконец, и, как волна гармонии, распространяется меж колонн и по капеллам и заполняет Ваше сердце молитвенным экстазом; свет усиливается, у Вас неожиданно возникает целый рой мыслей, и Вы начинаете различать в этой церкви, прежде погруженной в темноту, с одной стороны покинутую Мекку, с другой – лучезарную Голгофу. Затем дверь распахивается – широкий поток света и волна воздуха освежают Ваш лоб, Вы тут же просыпаетесь и видите веселый свет, который, пробившись сквозь атласные занавеси окон, падает на Вашу постель и советует Вам пробудиться.
Вы проводите рукой по лбу и понимаете, что это было сновидение, просто Господь позолотил Ваш сон явью и, приблизив горизонты, силой божественного внушения заставил Вас увидеть кордовскую мечеть. Но то, что Вы видели во сне, мы трогали руками, и наше восприятие вдвое ярче Вашего.
Теперь, чтобы перейти от общего впечатления к подробностям, представьте себе огромный зал, в котором девятнадцать нефов длиной в триста пятьдесят футов и шириной в четырнадцать каждый, вытянутых с юга на север, и девятнадцать других нефов, ведущих с востока на запад по ширине храма; нефы эти образованы рядами колонн из яшмы и мрамора, красного, желтого и голубого, которые членят пространство различным образом в зависимости от того, через какую дверь вы входите, и скрывают шесть входов в здание; на одной из этих колонн укреплена небольшая металлическая решетка с лампадой, постоянно освещающей выгравированное на этой колонне изображение распятого Христа, которое, говорят, какой-то христианин, мавританский невольник, привязанный к ней, процарапал своими ногтями.
В середине здания возвышается большая часовня, разрешение на возведение которой капитул добился от короля в 1828 году. Несмотря на противодействие города перестройке внутреннего помещения мечети, было разрушено или обложено кирпичом большое количество колонн. В каком-либо другом месте эта часовня была бы очень хороша, но, будучи слишком ревностными христианами, чтобы сожалеть о господстве христианства, мы в то же время слишком горячие поборники искусства, чтобы не скорбеть по поводу того, что это господство выставляет себя в виде ренессансной архитектуры внутри мечети, неприкосновенность которой сделала бы ее уникальным памятником Европы.
Заметим, что Кордова, отторгнув тюрбан, не удовольствовалась ореолом христианства и, охваченная религиозным фанатизмом, возжелала иметь венец мученичества; ее религиозное рвение в особенности проявилось в девятом веке и дошло до того, что христиане, дабы стать мучениками, оскорбляли религию мавров, а потому в 850 году был созван собор из епископов, живших в государстве эмира Абд ар-Рахмана, и собор этот постановил не считать мучениками тех, кто без необходимости принял смерть, нападая на магометанство.
Выйдя из мечети, мы отправились в цирк, небольшой, нарядно раскрашенный и один из самых превозносимых в Андалусии, ибо цирку недостаточно быть громадным, чтобы считаться хорошим, и его обширность является даже недостатком, так как чем цирк меньше, тем ощутимее в нем опасность, а чем ощутимее опасность, тем довольнее зрители; и если Вы приедете в Испанию, сударыня, то подчинитесь этому впечатлению, общему для всех. Первая коррида, увиденная Вами, ужаснет Вас, а при виде первого умерщвленного на Ваших глазах быка Вы поклянетесь, что никогда больше не станете свидетелем этого варварского зрелища. Начиная с четвертого быка Вы примитесь их подсчитывать, а когда дело дойдет до восьмого, Вы присоедините свой очаровательный голосок к тем, кто требует о t г о t о г о, то есть дополнительного быка. Вы будете с нетерпением ожидать следующей корриды и всю неделю станете говорить о ней; Вы перестанете обращать внимание на лошадей со вспоротым брюхом; Вас не будет пугать даже опасность, которой подвергаются люди, и, с удивлением увидев однажды, как погиб тореадор или чуло, не покинете корриду. Итак, повторяю, сударыня, чем меньше цирк, тем больше вероятность увидеть, как там погибает человек, и, соответственно, тем больше вероятность получить удовольствие, если ты испанец или женщина.
«Хотите увидеть Захру?» – спросил Перес, когда мы вышли из цирка. «А что такое Захра?» – поинтересовались мы. «Захра – это город, построенный Абд ар-Рахманом Вторым, – пояснил Перес, – в двух милях от Кордовы, у подножия гор. О, Кордова не всегда была такой, какой вы ее видите, и переворот, вследствие которого она перешла из рук дамасских халифов под власть эмира Абд ар-Рахма-на, был для нее более удачным, чем все последующие перевороты, которые мы видели позднее. Следует знать, что в ту эпоху в Кордове было около двухсот тысяч домов, и все они были полностью заселены; в городе насчитывалось девятьсот общественных бань; вам трудно в это поверить, ибо вчера я застал вас, когда вы вынуждены были мыться в тазах. У государя, разумеется, был сераль; этот сераль, включая невольниц, сожительниц и евнухов, составляли шесть тысяч триста человек; однако среди невольниц была одна фаворитка по имени Захра. И хотя сераль был красив и утопал в роскоши и благовониях, Абд ар-Рахман счел его недостойным Захры; он пожелал создать для нее более удобное обиталище, и вот что он придумал: сераль – это слишком мало для его фаворитки, дворец – тоже недостаточно, поэтому нужен целый город. В двух милях отсюда, как я вам уже сказал, Абд ар-Рахман выбрал изумительно подходящее для этого место, и, как по волшебству, там вознесся задуманный город; в нем был главный дворец с двенадцатью тысячами колонн из гранита и египетского мрамора; стены его главного зала, разумеется, были покрыты золотыми орнаментами, а звери, отлитые из золота, словно обычные львы возле Института, извергали струи воды в белоснежный бассейн; во дворце был павильон, где Абд ар-Рахман и Захра вместе проводили вечера; он освещался сотней хрустальных ламп, заполненных благовонными маслами, и был украшен орнаментами не только из золота, но и из стали и драгоценных камней. Наконец, по улицам города, окружавшего дворец, змеились ручьи с прозрачной, как хрусталь, водой, от которой постоянно исходила прохлада; все это вместе с фонтанами, террасами, цветами, оранжереями, музыкой и танцами стоило семьдесят пять миллионов; таким образом, Абд ар-Рахман потратил на Захру примерно две трети той суммы, какую Людовик Четырнадцатый израсходовал на Лавальер». – «А что осталось от этого города?» – спросил я у Переса. «Только воспоминания, – ответил он. – Воссоздайте его, если хотите, в вашем поэтическом воображении, и это будет первая реконструкция города». – «Мечеть великолепна, – вмешался Жиро, – предание замечательно; Захра, я убежден, была поразительная женщина, но в это время дня все наше воображение должно быть направлено только на обед, и я надеюсь, что он не будет ни преданием, ни мечтой».
Когда Жиро, сверяясь с часами, которые представляет собой его желудок, говорит, что наступила пора обеда, ему следует подчиниться. И мы подчинились. Перес с Па-рольдо были приглашены нами на обед, и, когда разговор зашел об оружии, только что принесенном от оружейника, Александр воскликнул, что с того часа, как он находится в Испании, ему довелось стрелять только в индюков, а это унизительно как для француза, так и для карабина Де-вима. Он поинтересовался, являются ли кабаны Сьерра-Морены таким же мифом, как французские кабаны, а если они все же существуют, можно ли поохотиться на них в горах. Парольдо, Перес и несколько их друзей, присоединившихся к нам, переглянулись с сомнением. «Вы действительно этого хотите?» – спросил Парольдо, предварительно встретившись взглядом со всеми своими друзьями. «Еще бы!» – закричали мы в шесть голосов, и среди них прозвучал голос Дебароля, которому представлялась, наконец, возможность пустить в ход свой карабин. «Да, черт возьми! – заметил Буланже. – Это было бы неплохо; мне приходилось видеть кабана только в лавке колбасника, да еще с сахарными клыками и фисташковыми глазами, так что я не прочь посмотреть на них вблизи, чтобы получить верное представление об этих животных с щетинистой шкурой, но вкусным мясом». – «Э, да ты красиво говоришь! – воскликнул Александр, которого мысль об охоте привела в восторг. – Но прекрати свои разглагольствования, и вернемся к обсуждению планов на завтра». – «Боюсь, что в этом деле есть какие-нибудь трудности, – вмешался я, – а Александр, как всегда, несдержан». – «Я не вижу никаких препятствий, – высказался Парольдо, – если не считать, что в сьерре не всегда спокойно». – «Уж не о разбойниках ли идет речь? – поинтересовался я. – Неужели все еще есть разбойники?» – «Гм! Да они меня самого захватили в горах», – отвечал Парольдо. «И меня!» – «И меня тоже!»
Это «И меня тоже!» прокатилось по всему столу и особенно там, где сидели испанцы. «Это уже не похоже на вывеску колбасника, – заметил Буланже. – По-види-мому, нам предстоит увидеть Маталобоса-сына; надо будет рассказать об этом Гюго, ему это доставит удовольствие». – «Стало быть, речь идет о разбойниках? – переспросил Дебароль. – Ну что ж, тогда я заряжу двумя пулями свой карабин!» – «Да, а то у него отдача недостаточна!» – заметил Жиро. «Послушайте, – обратился к нам Парольдо, – вы наши гости, мы отвечаем за вас, и я нашел выход». – «Какой?» – «Возьмем их как загонщиков». – «Кого? Разбойников?» – «Я не произношу слово "разбойники"», – пояснил Парольдо, не желая навлекать на себя неприятности. «Но вы сказали "возьмем их как загонщиков", кого – "их"?» – «"Их"? Ну, "их" – это они!» – засмеялся Парольдо.
Ответ нас удовлетворил; большего мы не добивались. «Послушайте, – продолжал Хуан (имя Парольдо было Хуан, как у любовника Гайде), – послушайте, поднимайтесь к себе и ложитесь спать; мы пойдем в Казино, попытаемся собрать друзей и все что нужно, а завтра часа в четыре утра, если все будет готово, мы вас разбудим; если же что-нибудь сорвется, то встретимся за завтраком в десять часов». Все хором изъявили согласие. В соответствии с принятым решением, мы поднялись в свои комнаты, каждый приготовил гетры, ружье и все охотничьи принадлежности. Только Александр ничего не готовил, а взамен этого, едва мы стали засыпать, поднялся на цыпочках и дернул цепочку музыкальных часов, которые украшали нашу комнату: они тотчас же принялись играть польку Герца.
Не приходится, естественно, рассказывать Вам, сударыня, что нет ничего более фальшивого, монотонного и раздражающего, чем звуки этих жутких музыкальных часов, но Вам неизвестно, что часа не проходило, чтобы Александр хоть раз не выкидывал бы с нами этой жестокой шутки. Днем это было еще ничего, но ночью!.. К несчастью, в этот вечер Александр выпил кофе; когда он его пьет, он не может спать, а уж когда он не спит, его главное развлечение – не давать спать другим!
Храни Вас Господь, сударыня, и от Александра, и от музыкальных часов!
XXX
7 ноября.
Какой большой перерыв, сударыня! Три долгих дня я не писал Вам ни строчки; это совершенно не в моих правилах, и Вы, вероятно, подумали, что за Пиренейскими горами произошло нечто необычайное; Вы не ошиблись, мы только что спустились с самых высоких вершин Сьерра-Морены, проделав то, на что точно никогда не отваживался ни один путешественник – три дня мы пробыли в братских отношениях с обитателями гор.
Назначая нам свидание на четыре часа утра, Парольдо слишком понадеялся на быстроту ног своих посланцев, а возможно, поскольку ему было известно, что нам осталось провести в Испании считанные дни, не хотел нас разочаровывать, признаваясь, что потребуется не меньше суток на то, чтобы завязать нужные отношения с нашими будущими товарищами по охоте. Кроме того, успех в устройстве охоты зависел от того, известен ли я обитателям гор также, как начальникам караульной и таможенной служб Кордовы.
Когда люди принимают непростое решение поселиться в сьерре, а особенно в Сьерра-Морене, у них должен быть один из тех серьезных поводов к мизантропии, какие заставили Карла Моора и Жана Сбогара порвать с обществом. Но в Сьерра-Морене нет ни газетных лавок, ни читальных залов. В итоге те, кто продолжительное время живет в горах и имеет причины как можно реже появляться в городе, вполне могли никогда не читать ни «Мушкетеров», ни «Монте-Кристо», и нельзя их за это упрекать в невежестве. Так что мое самолюбие не должно быть слишком уязвлено – по крайней мере, меня в этом уверяют – тем, что моя известность, подобно морю, которому Господь повелел остановиться у берегов, остановилась у подножия Сьерра-Морены. Итак, ночь прошла спокойно, прерываемая только шумом музыкальных часов. День был посвяшен визитам. Перес как преподаватель французского языка и Парольдо как светский лев Кордовы ввели нас в лучшие дома города. Всюду нам оказывали самый сердечный прием; ни разу мы не замечали проявления национальной неприязни, которой нет ни во Франции, ни в Испании, по крайней мере явно, за исключением низших слоев общества.