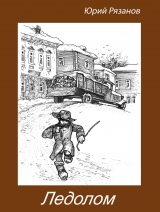
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 48 страниц)
Человек на кресте!
и Первое знакомство с Одигитрией [51]51
Рассказ целиком публикуется впервые. В сокращённом виде напечатан в сборнике «Родник возле дома» (Свердловск, 1991. С. 15–39).
[Закрыть]
Лето 1942-го, февраль – май 1950-го, июнь 1961 года
Алое поле, сколько помню, всегда манило нас, пацанов, таинственностью, запущенностью и неизведанностью. На заваленном десятками разнообразных по форме мраморных могильных плит и похожих на саранки или какие-то заморские круглые фрукты памятников пустыре мы, стайка свободских ребят, часами разглядывали, разбирали надписи, даты жизни и смерти («почил»), обсуждали, придумывали, какими внешне могли быть те, в чью честь вытесано то или иное красивое надгробие, а они все были красивы и загадочны, каждое по-своему. Только побиты, как будто кто выполнил безумное задание – осквернить их. Хулиганы колупаевские, наверное, сумасшествовали.
Об Алом поле ходили невероятные, кошмарные слухи, от которых мороз по коже драл. Этим нас, верно, и привлекало заброшенное, как нам казалось, забытое всеми кладбище.
И ещё притягивала громадностью и недоступностью многокупольная церковь из тёмно-красного плотного кирпича. Купола на храме не сохранились, а на столпных площадках рос жухлый бурьян и низенькие деревца, которые придавали его виду сугубую древность, – построили ещё в незапамятные, очень давние времена, одним словом – до революции.
С Юркой Бобылёвым (по уличному – Бобыньком) в прошлые лета мы не раз и не два вдоль и поперёк излазили всю территорию парка, исследовали подступы к крепости-храму и его массивные стены, но не нашли щели, через которую можно было бы проникнуть внутрь безмолвного и поэтому ещё более привлекательного помещения.
Лёжа на тёплой плите с вырезанным крестом и датами жизненного пути очень важного, как мы рассудили, толстого, всего в старинных орденах, покойника, я жевал сочный стебелёк, слушал трескотню кузнечиков, их здесь в траве водились миллионы, шагнёшь – взлетают тучей, и смотрел в небо, затянутое лёгкими, просвечивающими облаками, словно кто-то небрежно мазнул гигантской кистью с жидкими белилами по голубому фону. С процессом живописания я познакомился, посетив домашнюю художественную мастерскую Саши Пастухова, сына какого-то большого начальника на каком-то заводе (семья их жила в хорошем новом большом односемейном доме в Плановом посёлке). Саша дал мне возможность рассмотреть чудесную, с золочёным обрезом, монографию Игоря Гребаря о гениальном художнике Михаиле Врубеле (мне врезалась в память чудесная акварель «Роза в стакане») и показал свои эскизы, сделанные масляными красками на холсте.
…Но сейчас я представил себя на знакомом учебном планере, вблизи того марлевого облачка, на летательном аппарате из фанеры, выкрашенном в красный цвет, что недавно сделал вынужденную посадку здесь, на Алом поле, и столь удачно, что даже никаких уличных проводов не задел. Что меня тогда удивило – из кабины вылез планерист, снял очки-консервы, сдёрнул шлем и превратился в… молодую женщину. Через несколько часов планер, к сожалению, увезли на трёхтоннке. Но я успел рассмотреть его досконально, даже внутрь пытался влезть, да планеристка не позволила, выматерила. И сразу перестала быть столь красивой, какой выглядела вначале.
…Рядом пыхтит Юрка. Чем же он занимается?
– Ты чего шебуршишь?
– Ящерка под гроб юркнула – и нет…
Мой друг озадачен. Он сдвинул в сторону небольшой гробик сизого мрамора, надпись на котором извещала, что под ним лежит невинный младенец, проживший на грешном свете месяц и четырнадцать дней.
– Хитрая. Даже хвост не оставила, – сетует Юрка, – выскользнула.
– А зачем тебе её хвост?
– Так просто. У неё же другой вырастет…
– Вот у людей бы этак. Не ходило бы столько безногих инвалидов на костылях. И с пустыми рукавами.
– Скажешь тоже.
– А чего? У ящериц же отрастают хвосты.
– То – у ящериц. Люди не ящерицы.
– Изобрести бы такое лекарство. Представляешь?
– Не-ка…
– Ну, выпил, к примеру, столовую ложку в день, и за неделю – вот она, нога, целехонькая. Новая. Постепенно выросла.
– А если перепьёшь? Как мой папаня до войны водку бутылями пил.
– Тогда одна нога – тридцать седьмого размера, а новая сорок пятого. Или пятьдесят пятого. Пришлось бы у дяди Лёвы Фридмана разной величины босоножки заказывать. Представляешь, как он опупел бы?
– А ему што? Он такой мастер – любого размера что угодно сошьёт. Хочь шисдисят пятого – на слона.
Мы посмеялись вдоволь над придуманной несуразицей, и я спросил друга вполне серьёзно:
– Бобынёк, а что если нам с тобой накачать горячим воздухом воздушный шар и подняться на нём на самую верхотуру: через окошки можно всё разглядеть – что там, внутри церкви. Интересно ведь.
– Легче лесенку сплести. Из веревок. И по ней подняться. Но, похоже, что там ничего нет – пусто. Я слышал от знакомых старух: какие-то такие зубостаты все иконы сожгли.
– Зачем же тогда попы замки повесили? Сам здраво подумай. Там что-то затырено, верняк.
Размышляя, что за железными дверями и коваными оконными церковными решётками может сокрыто, я насвистываю «Священную войну». Мне песня нравится своей торжественностью. Громко напевая её, что стоит любую вражескую цель захватить и поразить?
Юрка прерывает постукивания ногтями по верхним передним зубам. Он здорово наторел в этой музыкальной игре, называемой «зубариками». Особенно хорошо у него получается «Калинка-малинка». Талант!
– Мамка, ещё когда живая была, рассказывала, что в церкви живёт добрая боженька, такая красивая, что глаз не отвести, – восхищённо произносит Юрка. – А когда кого-то злые люди обижают, боженька помогает, защищает от злодеев.
– Когда она тебе так говорила?
– Незадолго до смерти. Мамка в Симёновскую церковь ходила и у боженьки помощи просила. Штобы отец перестал водку пить.
– Почему же ей не помогла «добрая боженька»?
– Не знаю. Отец всё равно пировал. Да с чужими бабами таскался. А она днём и ночью чужое бельё стирала, на хлеб и суп.
Юрка глубоко вздохнул и умолк. Вероятно, задумался о своём, горестном.
Плохо, очень трудно жилось Бобыньку с трёхлетней Галькой после самоубийства матери. Хотя отец и образумился – прекратил пить водку – совсем. Да её-то, маму родную, не вернёшь из могилы.
– А мне мама рассказывала: никакого бога нет. Его попы придумали, чтобы денежку у народа выманивать. Народ тогда неграмотный был, ничего не понимал. Как говорится, жил в лесу и молился колесу. Народ с голоду опухал, а попы пировали, да богатства несметные копили. В церковных подвалах прятали, а по ночам считали и пересчитывали. Ну, помнишь, как у Пушкина, «поп толоконный лоб»? В церкви, в общем, один обман, Бобынёк.
– Какой обман? – недоверчиво спросил Юрка.
– Не знаю, какой, но обман. Эх, поглядеть бы на него, что это такое. Своими глазами. Чтобы убедиться.
И я снова принялся выискивать способ проникновения внутрь заброшенного храма.
Подкоп – бесполезняк. Фундамент наверняка уходит вглубь на несколько метров. Ломать замок или двери нельзя, не разбойники же мы. Подобрать ключ к литому замку, похожему на пятифунтовую гирю, которую мы видели валяющейся в одной соседской развалюхе-сарайке, тоже неприемлемо, – так орудуют жулики. Всякие домушники и скокари. Кирюхи Тольки Мироедова. Нам с ними не по пути.
…От долгого вглядывания в небесную лазурь ощущаешь лишь одного себя как бы растворенным в воздухе, в этом бесконечном просторе. О земном шаре напоминают шум пронёсшегося ветра, стрекотание кузнечиков с жужжанием мух, и больше ничего. Необычное ощущение собственной невесомости, бестелесности – ты превратился в созерцание и слух. Но чуть напряг мышцы, двинулся – и снова возвратился в своё тело, чувствующее очень многое: всё, что вокруг него и в нём происходит, – собственную тяжесть, прикосновение к щиколотке правой ноги какого-то растения, букашку, ползущую по плечу, солнечное тепло и обманчивую мягкость могильного камня. Угол зрения расширяется, и уже различаются многие предметы, окружающие тебя: кусок кирпичной кладки, на её темно-вишневом фоне – контуры матово-сизых, повернутых во все стороны памятников, зелень трав, желтые цветы. Сурепкой, кажется, называются.
Прозрачный шлейф облака мне вдруг представился гигантским хвостом воздушного змея, неподвижно парящего в вышине. Вот такой бы соорудить… Ну, не такой, разумеется, поменьше, но чтобы на нём можно было подняться высоко-высоко. А ведь это замечательная идея… Запуск бумажных хвостатых (из мочалы) воздушных змеев и «монахов», свёрнутых шапочкой из газеты, даже «этажерок», склеенных из дранок, бумаги и с огарком свечи внутри, – моя многолетняя постоянная страсть. Да и не только моя – многие свободские пацаны, чуть подует ветерок, поднимают в небо различной формы змеев.
На сарае, вернее коровнике тёти Ани, я прибил самодельную вертушку – флюгер. Как только он затрещит на ветру, бегу за приготовленным заранее к полёту змеем с аккуратно уложенным мочальным хвостом. Часто друзей вынужден звать на помощь – в одиночку не всегда удаётся запустить. Вдвоём, а то и втроём возможно поднять большого змея размером в газетный лист и с трёхметровым хвостом: один бежит навстречу ветру и тянет за собой суровую нитку, другой, тоже бегом, разгоняет змея, держа его в руках, а после подбрасывает, третий – транспортирует хвост, чтобы не зацепился за что-нибудь на земле, за куст какой-нибудь. Не всегда запуск удается с первой попытки. Зато, когда змей, уросливо [52]52
Уросливый – непокорный, упрямый. Обычно применяют слово к животным – козам, лошадям коровам (местное).
[Закрыть]вильнув из стороны в сторону, устремится вверх и ты успеешь, не ослабляя нить, «вытравить» такой её конец, что общий наш любимец запляшет на захватывающей дух высоте, тогда исчезнут опасения, что он кувыркнётся и спикирует, упадёт на дерево или, с хрустом ломая дранки, врежется в землю.
Всё выше поднимается квадратный змей с двойным (то есть прикреплённым с правой и левой сторон, соединённым в конце) хвостом. Натянута и гудит от напряжения крепкая нить. Смотри в оба, чтобы напор ветра не оборвал её. Вот уж на катушке почти ничего не осталось. А ведь на ней намотано было, наверное, двести метров! Это ж надо, на какую высоту взмыло твоё творение! По этой нитке, да туда бы, под парус из газетного листа, повиснуть бы, ухватившись за каркас, да взглянуть вниз: как наш город с такой фантастической высоты выглядит. Но не выдержат дранки… Это, понимаю, фантазия. А что если смастерить основание, прочное, из деревянных планок, и подвесить к нему лёгкое, сплетённое из шпагата сиденье, как на качелях? В небе-то подобный воздушный аппарат тяжесть моего тела выдержит, я – не жирный Шурик-Мурик. Как с земли подняться? – вот вопрос.
Можно, например, так. Запускаем огромного коробчатого змея на крепчайшей тонкой бечёвке. Ещё одна бечева пропущена через ролик (раздобыть его не столь уж и трудно), укреплённый на нижней планке аппарата. На конце второй бечевы – грузик. Нет, груза не надо. За её конец держится пилот. Разумеется, я. Второй конец разматывается по мере взмывания змея. Достигнув определённой высоты, сооружение закрепляется, например за бельевой столб. Первый конец бечевы, перекинутый через ролик, продевается в кольцо, пришитое к лямкам, а за второй конец держат друзья Юрка Бобылёв и Игорёшка Кульша. Или, лучше, они наматывают её на специально сделанный ворот. И вот я подтянут под самый парус, на котором нарисована Славиком красная звезда – во всю ширину плоскости. Усаживаюсь в верёвочную, а лучше – лёгкую шпагатную петлю, и озираюсь… Эх, мечты! Вырасту – обязательно в лётное училище поступлю. Что может быть прекраснее парения в небе, над облаками!
– Юрок! Я, кажись, придумал, как подняться на церковь!
– Фу ты! Нарыхал [53]53
Нарыхать – испугать (уличное).
[Закрыть]меня. Я же закимарил. [54]54
Кимарить – дремать, спать (уличное слово).
[Закрыть]
– Как? Ты можешь спать днём?
– А чо? – удивляется Бобынёк.
– Я не могу. В детсаду меня за это всю дорогу воспитательницы наказывали. После я ухитрился глаза держать закрытыми – отстали. По дурости своей придумывают детям разные наказания. Ну, слушай дальше, о главном…
И я с жаром, размахивая руками, сначала сидя, а после – вскочив на надгробие, объясняю, как можно подняться на воздушном змее высоко-высоко. На столько метров, где страшно холодно. В одной книге вычитал, старинной, с твёрдыми знаками: «Человек и Земля».
– А шубу-то с собой возьмёшь? – улыбается Юрка.
– Какую шубу? У нас нет… Телогрейку – можно, – подыгрываю Бобыньку. – Поэтому полёт в стратосферу на воздушном змее «Красная звезда» временно откладывается. Я без шуток.
– И я – тоже. Фантазёр ты, Рязан. Давай лучше подумаем…
– А почему мой план не подходит? Что тебе в нём не нравится?
– Всё глянется. [55]55
Глянуться – понравиться (народное слово).
[Закрыть]Но где мы такие бечёвки найдём, чтобы твой вес держали, да ещё на такую высоту тебя подняли?
– А что, нет таких? Не разыщем? У дяди Лёвы Фридмана.
– Те нитки – сапожные. Едва ли тебя выдержат. А крепче нету. Толстая верёвка не годится. Разве что шпагат.
– Пожалуй… Да и нет у нас с тобой ни шпагата, ни толстой длинной верёвки. А та, на которой мама бельё сушит, – не подойдёт. Без спроса нельзя брать – влетит. Ещё как!
– Тоже верно, – согласился Бобынёк. – И достать негде. Купить не на что.
Мне подумалось: вечно какие-нибудь мелочи мешают осуществить самые замечательные планы.
Повернувшись на бок, я принялся разглядывать сухую землю, бегающих и ползающих по ней мелких обитателей. Они меня всегда интересовали. С детства.
Вдалеке, в начале парка, возле ленинского мемориала, замелькало какое-то белое пятно. Оно то исчезало, то возникало вновь.
– Идём, покнокаем, [56]56
Кнокать – глядеть, смотреть, рассматривать (уличный жаргон).
[Закрыть]что там такое, – предложил я.
Разморённому густым полуденным зноем, не хотелось даже двигаться, тем более вставать из бурьянной, хотя и жиденькой тени под жгучее солнце. Однако я пересилил себя, поднялся и направился к мемориалу. За мной поплёлся Юрка.
Белый предмет оказался платком на голове старушки, сидевшей на земле. Поблизости, на верёвке, привязанной к колышку, паслась пегая крутобокая коза, которая сходу пошла на нас, выставив вперёд прямые и острые рога. Хорошая защитница хозяйки. Мы, не сговариваясь, отбежали на безопасное расстояние.
– Вам чего, хлопчики? – настороженно спросила старушка, поднимаясь на всякий случай с земли и сжимая в кулаке хворостину.
У старушки умные, спокойные и чуть насмешливые глаза.
– Вы чьи будете?
– Мы со Свободы, – с достоинством отвечаю я.
– Ишь откуль вас занесло – с Ключевской, по-старому-то, стал быть. Чего вам здесь надо-ть?
– Да вот, бабушка, – начал Юрка. – Про кладбище спросить хочем, да не у кого.
– Какое ишшо кладбишше?
– Про это вот.
– Не было здеся никакова кладбишша, сроду.
– Как – не было? – не поверил я.
– А эдак. Все энти камушки свезли с Михайловского погоста.
– Какого еще Михайловского? – уточнил Юрка.
– Где чичас кино кажут. Грех-то какой на душу взвалили! Непростимай. Могилки-то порушили, камушки сюды свезли. А кости не знамо куды дели. Увезли, верно. Вместе с гробами. На свалку поди.
– А как кино называется? – продолжал Юрка расспрос.
– Того не ведаю. В ём сроду не бывала. На ево месте раньше церковь стояла архангела Михаила. В ей мово родителя отпевали. В тую германьскую помер, царство ему небесное. Спаси и сохрани его душу.
– Я знаю, что это за киношка, – Пушкина, – догадался я.
Мне вспомнилось, как однажды, давненько уже, какой-то пьяный, не старый ещё, неистовствовал в фойе кинотеатра. Грозился взорвать кинотеатр динамитом, потому что в этой земле была похоронена его мать. Пьяного скрутили милиционеры. Его выкрики я воспринял как бред. А оно вон что. Дебош для пьяного закончился тем, что его, связанного по рукам, уволокли куда-то. А я в семнадцатый раз проскользнул – и опять без билета смотрел мировую кинокомедию «Цирк». С артисткой Любовью Орловой, в которую давно слегка втрескался.
Словоохотливая старушка перекрестилась, поглядывая на обезглавленную церковь.
Юрка подмигнул мне многозначительно.
– А что это за церква? – спросил он.
– Равноапостольного князя Лександра Невского.
Мы с Бобыньком переглянулись.
– Он строил, што ли? – удивился Юрка. – Сам? Мы кино про него зырили, помнишь? Как он с псами-лыцарями здорово сражался. Всем бо́шки поотрубал, и они под лёдом в озере захлебнулись. Дак это он её построил?
– Пошто он? Купец наш, челябинский, строил – Хрипатьев. Во искупление своих грехов тяжких. Совесть-то в ём заговорила. Вот и воздвиг храм. За грех свой, великай, за то, что сироту беззащитну обидел, соблазнил, а она руки на себя наложила.
– Такую агромадную церкву один построил? – изумился Юрка. – Во стахановец!
– Пошто один? Цельна артель, сказывают, три года робила. А леворуция опосля возьми да и приключись. Его опосля и осквернили, храм-от. Порушили. А из купалов золочёных што изделали! Народ плакал, глядючи. Столевцы [57]57
Рабочие завода имени Д.В. Колющенко. До революции завод принадлежал компании «Столль и K°».
[Закрыть]пьяны напакостили. Мало им всё было. Хозяин завода таку хорошу плату им давал – все в сапогах ходили. Многи дома свои имели. Опосля леворуции, аки взбесились, всё кругом стали рушить. Песни пьяны запели, что весь мир разрушат. Говорят, вином их, германьским опаивали, на нерусскии деньги купленным. И в каку-то немецку веру перешли в карлы-марлы. А христову веру, исконную русскую, отринули и почали церкви ломать. Вот така беда велика на нашу Расею свалилась, по сею пору под знаком антихристовым – звездой кровавой живём. Говорят люди – до второго пришествия мучитьса будем. Вот и храмы порушены стоят, опоганены, пусты и разграблены.
– А в ней осталось што-нибудь? – допытывается Бобынёк. – Што-нибудь хорошее?
– А хто ево знает. Ломали её, да не одолели, вишь. Не допустил Господь.
Старушка, растроенная, уселась на прежнее место, отмахиваясь веточкой полыни от мух.
– А вы крещёные ли? Аль нехристи?
– Я безбожник, – похвастался я.
– А я верю, – неожиданно заявил Юрка и неловко как-то, сикось-накось, перекрестился. – Вот…
– Ты чего? – одёрнул я друга. – Ведь ты пионер!
– Ну и што? Боженьку-то всё одно хочется увидать. А неверущим она себя не кажет.
– Не кажет! – передразнил я Юрку. – Забыл, как того, боговерующего, из пионеров вытурили? «Попика» того…
Мы, конечно же, хорошо помнили то утро, когда на общешкольной линейке, которой властно дирижировала завуч школы Кукаркина, крикливая, всегда злая, школьная пионервожатая, в шёлковом алом галстуке, очень решительная, резкая в движениях, энергичная, хотя уже немолодая женщина. Она вывела из шеренги пятиклассников за руку маленького стриженного наголо белобрысого, курносого пацана, рывком обратила его к нам лицом. Тот смиренно застыл.
Крысовна-Кукаркина по бумажке громко зачитала всем, что потупившийся недоросток предал идеалы юных ленинцев, советской страны и посему не достоин носить высокое звание пионера – он верит в бога, да ещё и молится! Поэтому с него снимается красный галстук – частичка пролетарского знамени, щедро политого кровью наших отцов и дедов, свергших власть кровавого царя, помещиков, капиталистов и попов.
Крысовна визгливо, войдя в раж, выкрикивала ещё какие-то заученные навсегда словеса и лозунги, но я не слушал её, а смотрел на попавшего под её суд. Когда дело дошло до исполнения приговора, случилась заминка, – галстука на «отступнике» не оказалось. Энергичная и находчивая пионервожатая рванула с себя шёлковую косынку и торопливо повязала её «предателю юных ленинцев». Крысовна махнула рукой. С новой силой затрещали умолкнувшие было барабаны, специально извлечённые по этому «возмутительному», позорному случаю из школьной кладовки. Под их трескотню действо продолжилось. Виновник же этого представления никак не реагировал на то, что с ним проделывали. Стоял, как пыльный манекен в пустой витрине окна закрытого универмага на улице Кирова, держа в руках перед собой холщовый мешочек с ученическими принадлежностями.
Вожатая, она же и завуч, повернулась к «манекену» и сдёрнула с его шеи свой галстук-косынку, брезгливо, с хлопком отряхнула ярко-алую шёлковую ткань, а «разжалованного» подтолкнула в спину, и он понуро поплёлся вдоль по школьному коридору.
Явно неудовлетворённая мягкостью наказания, завуч объявила, что экс-пионер будет исключён из школы как «носитель религиозной заразы», чего якобы все мы «терпеть не можем».
Уличенного в вере в бога, его тут же по-детски жестокие пацаны нарекли «попиком», и он сразу превратился в объект бесконечных насмешек всех, кто пожелал над ним поизгаляться. [58]58
Изгаляться – издеваться (уличное выражение)
[Закрыть]А желающих нашлось немало. Особенно изощрялся двоечник и второгодник Толька Мироедов. Он дурашливо крестился щепотью и кланялся «попику», приговаривая:
– Господи Исуси! Насрал тебе на уси!
Кое-кто из старшеклассников щёлкал оттопыренными пальцами «попика» в лоб (по-уличному такое наказание называлось «щелобаном»), подшучивая:
– Бох терпел и тебе велел…
И я, грешник, тоже глумился над однокашником, подпевая разноголосому хору:
– Поп, поп – толоконный лоб…
Вероятно, ещё дня два-три встречался мне в школе «попик», безгласно терпевший наши издёвки и измывательства. После он исчез. Вскоре о нём все забыли. А сейчас я не мог не вспомнить о «позорном явлении нашей школы» и пожалел – очень даже запоздало – пацана. Потому, наверное, что подобное может произойти и с Юркой. А он этого понять не хочет. Надо срочно разубедить друга, доказать, что никакого бога не существует, а мы произошли от обезьян.
– Нет в церкви никакой боженьки, – высказал я то, о чём думал, не тая. – В цирке видел обезьян? Не будешь спорить, что они похожи на людей?
– А вот и есть! – вскипел Юрка. – Есть Бох!
– Ох и дурачок ты – веришь в глупые бабушкины сказки.
Юрка осерчал:
– Мамке я верю. Она всегда Боженьке молилась. Просила, чтобы отец перестал пить. И он прекратил.
Твой отец перестал пить водку, потому что понял: если будет продолжать, то ты с Галькой с голоду помрёте. А его с завода уволят.
– Вот это ему Боженька и подсказала. Дошли до неё мамкины молитвы. Хоть и поздно. Не дождалась она. Зато сейчас за нас радуется.
– Как она, Бобынёк, может за вас радоваться, если её в гробу в землю закопали?
– А она с неба на нас смотрит. Она на небе теперича.
– Хошь, докажу, что никакой боженьки в церкви нет?
– Как?
– Залезу внутрь.
– А не ботаешь? [59]59
Ботать – изъясняться на фене. Другое значение «болтать ерунду, вздор» (уличный жаргон)
[Закрыть]
– Канаем! [60]60
Канать – идти. Канает – идёт (уличный жаргон)
[Закрыть]
Юрка нехотя поднялся с могильной плиты.
– А ежли она тебя покарает?
Я засмеялся. Хотя Юркина боязливая нерешительность и вера в бога меня не поколебали, всё же лёгкое сомнение возникло: а вдруг что-то или кто-то там и в самом деле есть. Ну и пусть! Была не была! Сам убеждение получу. Но едва ли там есть кто-то.
Мы приблизились к храму.
– Надо штурмовать, – сказал я решительно.
– Слабо!
Ухватившись за кованый кронштейн, когда-то поддерживавший водосточную трубу, я полез наверх по углу, образованному пилоном и плоскостью стены. Со стороны это было похоже, наверное, на цирковой номер. Цепляясь за малейшие выступы и кромки кирпичей, я упирался пальцами босых ног и коленями в шероховатые стены и упрямо, хотя и медленно, продвигался вверх – от кронштейна к кронштейну.
– Ну как? – кричит откуда-то из-за спины Юрка. Но я знал, что нельзя оглядываться – сорвусь.
И каждой клеткой своего существа почувствовал самый опасный момент, когда предстояло левой рукой ухватиться за верхний кирпич и подтянуться на узкий надоконный козырёк. Выручил ещё один кронштейн, похожий на ухват бабки Герасимовны, – я встал на него и ощутил прочную опору. Железо кровли, к счастью крепкое, выдержало. Вытянувшись во весь рост, нащупал подкупольную площадку, смахнул с неё землю и какие-то мелкие галечки, подпрыгнул, отжался на ладонях, оцарапав до боли живот о неровности окаменевшего раствора, соединявшего кирпичи, приподнялся на колени, повернул туловище, сел и глянул вниз. Ух ты! Ну и высотища! Аж внутри защекотало. Что со мной стало, если б не удержался? И моментально в воображении увидел свою маленькую, худенькую фигурку, распластанную в воздухе, и её же – лежащую размозженной рядом с чьим-то вычурным, из мрамора, памятником, высеченным в виде высокого пня с отрубленными сучьями. У меня дыхание прервало от ужаса. Чтобы стряхнуть страх, заставил себя думать о другом, принялся насвистывать очень душевную песню «Гибель Варяга».
Я вглядывался в самые дальние дали. Вот это вид! Взлететь хочется – самому, без чьей-либо помощи – и, раскинув руки, ласточкой пронестись над городом.
Рубашонку мою, с отрезанными выше локтя рукавами – они уже не подлежали починке, прилепил к груди теплый верховой ветер, гудевший в ушах. А под стеной, отступив на несколько шагов, приложив ко лбу ладони козырьком, безмолвно уставился на меня игрушечный Юрка, в штанах, закатанных выше колен, и в выцветшей досера, когда-то чёрной рубахе.
– Эй, залазь сюда! – кричу я.
Юрка отрицательно качает головой.
Воробьи беспокойно носятся вокруг меня, тревожно чирикают, прыгают вблизи, смело поглядывая на незваного гостя. Где-то здесь затаены их гнезда, и разыскать их – пара пустяков. Мне, грешному, знаком вкус воробьиных яиц, но сейчас – не до них.
Мною опять овладевает необыкновенное ощущение, я как бы улетучиваюсь из своей бренной оболочки и перемещаюсь в находящиеся вокруг предметы: я – в этих нагретых солнцем кирпичах, в трепещущих мелкими листьями карликовых клёнах, растущих здесь, в отрыве от земли, над ней, в наметённом ветрами слое отвердевшей пыли и песка. Я – и в поющей ветром вышине, и одновременно – вот он я, с коротко остриженными ногтями, со смуглой от вольного загара кожей на руках, ногах; я в воздухе над этой крышей, вон в той дали, в солнечном свете вокруг… Я уверен, что вот так буду существовать вечно. Что я и сейчас в вечности – во всём этом и во всём другом – навсегда.
Опьянение прошло. Налюбовавшись досыта широчайшей, вкруговую, панорамой, осторожно подбираюсь к главному барабану. Вернее – к «шее» барабана, сорванного и низвергнутого когда-то давным-давно колупаевскими хулиганами или теми работягами с Колющенко. Всё, что происходило до моего рождения, всё это было очень давно. Потому что тогда я не существовал. Страшно даже представить, что меня когда-то не было вообще.
Широкие и высокие окна, которыми просечён барабан, с земли кажутся узкими вертикальными щелями-бойницами. Здесь, понятно, всё видится натурально, как есть. То же, что осталось там, внизу, измельчало. Нахожу взглядом старушку в белом платке. А вот козы не видать. Наверное, устроилась в тени и жует себе травку, самоуверенно поглядывая по сторонам, – охраняет свою хозяйку – любого забодает. Да ещё и молоко ей принесёт, горьковатое от съеденной полыни, – вон её сколько вокруг выросло! Меня поили таким ещё до войны. Когда был совсем маленьким.
…Внимательно всматриваюсь в оконный проём. На стенах проступают раскрашенные фигуры со сложенными на груди или вытянутыми вперёд руками. Вокруг голов удивительных фигур, облачённых в какие-то балахоны, круглые жёлтые «блины». Чудно́!
И тут я призадумался: а как спускаться? Хорошо бы найти длинную и крепкую верёвку. Увы, никто её для меня не припас. Правда, приуныть мне не давал верный и терпеливый Бобынёк, устроившийся на памятнике, изображающем большую – с бочку – саранку. [61]61
Саранка – луковица лесной лилии. Мы, пацаны, их выкапывали и съедали.
[Закрыть]С таким другом не пропадёшь. Бобынёк в беде не оставит.
Присев на корточки, я скатился на пятках по раскалённому железу и заглянул в одно из окон. Ура! В узкое пространство вверху между решёткой и оконной аркой я протиснулся без урона – чуть поцарапал об острый наконечник металлического копья заграды грудь. Послюнявив царапину, чтобы не заболела, с широченного подоконника спикировал на дощатый помост, ограниченный со стороны храмового помещения заборчиком из точеных балясин, накрытых перилами. Вниз, наискосок вдоль стены, вела деревянная лестница с частично выломанными у пола и выгнившими от дождей ступенями. Однако подобные изъяны не могли стать для меня помехой.
Самое интересное: на этом как бы балкончике к стене прислонены массивные, с меня ростом и выше, щиты, а к ним притулены [62]62
Притулить – придвинуть, прислонить, пристроить (местный говор).
[Закрыть]размерами поменьше. Один из больших щитов, скреплённых горизонтальными деревянными же клиньями, я с трудом оттянул на себя. Вся плоскость щита была закрыта выпуклым металлическим изображением фигуры – как бы панцирем.
Выпуклостями на металлическом листе была изображена фигура воина в латах, с копьём в поднятой руке и с каким-то круглым предметом в другой. За спиной воина широко раскинулись огромные, тоже выпуклые крылья. Крылатый воин! На месте лица и рук потемневший металл как бы выстрижен. И на деревянном щите сквозь грязь и паутину угадывался цвет. Я послюнявил палец и потёр гладкую плоскость – проглянул человеческий глаз. Он смотрел на меня в упор и так пытливо, что я внутренне содрогнулся, – взгляд показался живым.
Поспешно слез вниз. Метра два лестницы внизу отсутствовали. И я перебрался с уцелевших ступенек на подоконник. Каждое моё движение эхом отдавалось под сводами. Часть взломанного пола, видимо, давно унесли те, кто громил церковь. Может быть, на топливо. Или ещё для каких целей. На всём подушками лежала пыль и валялся какой-то тлен, мусор, да битое стекло хрустело под босыми ногами.
– Не порезаться бы, – подумалось мне. – А то как вылезать отсюда буду? Кровью истечь можно.
Подошёл к высоченной железной двери и постучал в неё обломком кирпича, гукнул:
– Юрка! Бобынёк! Подь сюда…
– Где ты? – услышал я вскоре встревоженный голос друга.
– Здесь. Как отсюда теперь выпулиться? [63]63
Выпулиться – выбежать, вырваться (уличный жаргон)
[Закрыть]
– А што, страшно?
– Не.
– Боженьку видел?
– На стенах нарисованы всякие. Целая толпа. А один – богатырь с копьём. И со щитом. Наверно, Невский. Бьет пса-рыцаря. А он в виде змея. Во – смехотура! Со скрученным хвостом! Вроде как ящер. Доисторический.
– Ну а Боженька, как мама рассказывала, есть? Такая, что глаз не отведёшь? Красивая такая вся?
– Такой нету. Там, наверху, есть много деревянных картин, большие и поменее.
Юрка замолчал.
– Вишь меня? – послышался голос из-под двери.
Я нагнулся и близко увидел блестящие Юркины глаза в щели между дверью и порогом.
– Держи пять, – он подсунул под кованое, танковой брони, дверное полотнище ладошку. – Не бзди, кореш. Поищи что-нибудь жилезное. Потижилея…
И я наткнулся-таки на тяжеленный лом-гвоздодёр. Остался, видимо, от тех, кто пол и все остальное выламывал. Но дверь не поддавалась. Безнадёжно долбить – гранатой не взорвёшь.
«Сюда я попал через окно. А вылезть?» – посетила меня простая мысль.
Покажилившись, [64]64
Кажилиться – напрягаться изо всех сил (народное слово).
[Закрыть]поднял и прислонил вывернутую тяжеленную плаху к стене под нижним окном, вскарабкался по ней, ухватился за кованый четырёхгранный прут решётки и ступил на подоконник. Выдохнув весь воздух, перевалил через завитушки и острые наконечники копий решётки. И вот я уже по ту сторону массивной, может быть более метровой толщины, стены.
– Юрк! Там ещё картины есть. На досках нарисованные. На полатях стоят.
– А что на них нарисовано?
– Мужики какие-то. Бородатые. А один тоняк – Невский. Только с крыльями. Взять, может, какие поменьше? А то они все тяжеленные.








