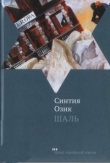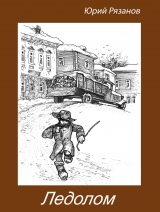
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 48 страниц)
– Ты меня ждёшь,
А сама с лейтенантом живёшь
И у децкой краватки тайком
Сульфидин принимаешь…
Мне было известно, что сульфидин – лекарство от дурной болезни, называемой в народе триппером, и я страшно боялся заразиться им. Мне не нравилась исковерканная Сапожковым песня «Тёмная ночь», которую я очень любил и часто напевал про себя так, как написал её поэт Сурков.
В нетрезвом виде Иван иногда затевал скандалы в зале или возле пивной. Дрался Сапожков отчаянно. Это он здорово умел, я сам раз видел. Почему он так злобничал? Словно мстил встречным, вымещал на них свою неиссякаемую обиду. Но его всё-таки побили. Их было больше, с кем он связался, – четверо или пятеро. Однако они отступили. Не выдержали бешеного напора.
На следующее утро с «фонарями» под глазами и опухшим носом он снова оказался на «боевом посту». Пел. Играл на гармошке. Пил. Нищенствовал. Мелочь – Генке.
Вовка с Генкой крутились вокруг него. Чтобы защитить, если на отца посмеют опять напасть по пьянке.
Иван не мог остановиться. На пропой пошло всё. Он ухитрялся даже продавать хлебные и продуктовые карточки, оставляя семью на произвол судьбы. Вовка и Генка словно перестали для родителей существовать. Теперь все существовали сами по себе. Пацаны попрошайничали. Тётя Паня пила брагу у сестры. Возможно, она припрятала кое-что из «трофейного» на чёрный день. А Иван, охмелев, оставался на ночь в канаве.
Тётя Паня спрашивала утром или днём, когда Иван появлялся в полуподвале, где он был, муж отвечал коротко:
– Там меня уже нет.
Не берусь пересказывать скандалы, происходившие между супругами перед неотвратимыми трагедиями, – о них я узнавал от Генки, который попутно просил что-нибудь «пожрать». И для Вовки тоже.
Кое-что из съестного мне иногда удавалось для них раздобыть – они терпеливо ждали. Но не всегда мне фартило для них тайком утащить, даже варёной картошки в «мундире», – мама часто варила её впрок, но в последнее время приглядывалась.
Надвигалась осень. Иван всё чаще не ночевал дома. Обычно валялся в канаве напротив входа в пивнушку. Собирал вокруг рыбные головки и кости воблы, обсасывал.
– Папа, идём домой! – умолял Генка. Вовка тупо глядел на пьяного отца. Или тоже жевал огрызки.
– Вы! Шмакадявки! [467]467
Шмакадявка – уничижительное название – мелкота. Оскорбление (феня).
[Закрыть]Што вы понимаете в рыбных головках? Эт-та пища богов!
И прогонял:
– Бегите к матери! А то отлуплю.
Эту агонию довелось наблюдать и мне. Но не догадывался, чем всё это закончится. Ну продолжается и продолжается.
Я заметил: в недопитое пиво, оставшееся в чужих кружках, Сапожков доливал голубоватую светлую жидкость. И тут же валился наземь.
Однажды Иван появился в пивной и надрызгался до беспамятства. При этом гармошка, всегда висевшая на плече его, отсутствовала.
Кое-как Вовке с Генкой удалось притащить отца к себе. Я им помогал.
– Где гармонь? – накинулась на мужа тётя Паня.
– С-пи-з-ди-ли, – промямлил Иван и, уткнувшись лицом в колени, сидя на корточках (заметил, у многих пацанов, особенно оттянувших срок наказания или побывавших в тюрьме, осталась привычка сидеть в такой позе), вдруг зарыдал. Я впервые увидел плачущего Ивана Ильича. Не знаю, почему он разнервничался, то ли сыновей и жену своих стало жаль. То ли непутёвую жизнь свою. То ли украденную гармошку…
Я долго смотрел, как он обливается слезами, содрогаясь всем телом. Вовка ревел ему в унисон.
И опять, в который раз, я осознал ясно своё бессилие чем-либо пособить этим людям.
– Всё, всё, – отрывисто произносил он.
– Што «всё»? – зло спросила тётя Паня. – Ты што делаешь, сволочь? Ты нам всем жизь испортил! Дети с голодухи подыхают из-за твоей пьянки!
– Всё… – повторял дядя Ваня, закрыв глаза, как он это делал, играя на гармошке.
И вдруг отчётливо произнёс фразу:
– Все пиздой накрылось. [468]468
Это матерное выражение означает «конец всему» (феня).
[Закрыть]
И свалился на спину, ударившись затылком о бетонный замусоренный пол. И затих.
– Давайте ево на кровать затолкаем, – тонким голоском пропищал Генка. И мы втроём, кажилясь, затаскивали дядю Ваню на постель – руку, ногу, но всего поднять не могли.
– Чтоб ты сдох, скотина! – злобно напутствовала супруга тётя Паня. Она явно находилась в «поддатии». Только некоторое время спустя я подумал: на какие же деньги она пьёт? Гитару, что ли, продала? Нет, новый инструмент, подарок Ивана, висит на своём месте под неестественно красивым портретом той, которая словно выстрелила страшными словами в своего мужа.
– Пошёл домой, – сказал я, ступив на бетонную ступеньку, и отворил тяжёлую дверь, но без врезного замка – дядя Ваня, наверное, на базар унёс, продал на пропой. Или пацаны без него. Чего сторожить? Из всего осталась лишь гитара.
Утром следующего дня, шагая по опавшей с поредевших крон тополей листве, я с удивлением увидел Ивана Ильича сидящим на краю канавы. Он понуро уставился на раскрытую пилотку, лежащую на тротуаре. Заметил и то, на что вчера не обратил внимания: на груди его гимнастерки лишь темнели как бы тени медалей, что недавно блестели, весело позвякивая.
Как-то один из собутыльников не без иронии спросил Сапожкова:
– Что ж ты, солдат, одних медяков насобирал? Ни одного орденишка не заслужил? В штабе на побегушках кантовался?
Дядя Ваня ответил зло:
– Ты, видать, тыловая крыса, и не знаешь, что полагалось Ваньке за атаку, – хуй в сраку, а Машке за пизду – Красную Звезду. А мой кажный пятак моей кровию полит. Понял, сука?
И дал «юмористу» в морду. Началась потасовка. Дядя Ваня, отскочив в сторону с пьяной удалью, ухватившись ладонью за правый карман галифе, скомандовал:
– Кто хотит девять грам меж рог получить – шаг вперёд! Куда, гадёныш, притырился?
Охотников обрести обещанное не нашлось, и остряк-самоучка юркнул в дверной проём пивной.
Дядя Ваня спокойно допил из чьей-то кружки и, шатаясь, поплёлся домой.
Я после спросил Генку:
– Неужели отец застрелил бы человека? Он что, с «дурой» [469]469
Дура – наган или пистолет (феня).
[Закрыть]ходит?
– Да он фраера на понт [470]470
Понт – обман (феня).
[Закрыть]взял. Фраерюга и обхезался! [471]471
Обхезаться – обделаться по-большому (феня).
[Закрыть]У папани тама подсигар трофейный был. Пропыжил [472]472
Пропыжить – пропить (одно из значений этого слова), растранжирить (феня).
[Закрыть]он ево, на прошлой пятидневке.
Теперь уже нет и медалей. Куда делись? То ли с пьяного сняли, то ли пропил…
– Пожертвуйте бывшему фронтовику на пропитание, – время от времени заученно повторял дядя Ваня. Рядом с ним, слева, сидели на краю канавы Вовка с Генкой. Молча. Как два воробышка. Пивунов было много, кажется, в этот воскресный день, они сновали туда-сюда с кружками и закусками. Но пока я стоял возле Сапожковых, никто ему ничего не «пожертвовал». Кроме опивок. Мне стало стыдно за него, ещё недавно храброго солдата. Я дал бы ему денег. Хотя бы несколько копеек. Но в моих карманах ничегошеньки не имелось. Кроме «панка». Не предложишь же ему игровую кость.
Во что превратился менее чем за полгода жизнерадостный, весёлый бывший солдат Иван Сапожков! Глаза бы не смотрели! Сейчас бурная радость вернувшегося с войны главы семьи сменилась на растерянность сыновей и озлобленность их матери. Как они из этой беды выкарабкаются? У всех них, наверняка, были надежды на лучшие перемены в жизни. Да и каким счастьем было для сыновей возвращение отца с войны живым! А счастье это обернулось горем. Для всех.
Мне вспомнилось опять лето сорок первого, двор, где живут Сапожковы, крылечко с двумя ступеньками, невысокого роста, кучерявый, на цыгана похожий, жилец этой однокомнатной барачной квартирки, сидящий на краю крыльца. Он плакал навзрыд пьяными слезами, уткнувшись лицом в колени, как недавно Иван Ильич. Рядом с ним почему-то никого не оказалось. Я спросил какую-то соседку по бараку, которая, подперев кулаком щёку, печально смотрела на пьяного кудрявого мужчину: «Почему он плачет? Кто его обидел?» Женщина коротко ответила, как будто осерчав на меня, недогадливого. Сурово так ответила. Будто я в чём-то провинился.
– На войну идёт. На смерть.
Ответ оказался неожиданным для меня, девятилетнего пацана, настроенного весьма восторженно и воинственно: как это так – на смерть? Наши идут убивать фашистов за то, что они напали на нашу страну. А не нас они.
Кучерявый сосед, он тогда выглядел лет на тридцать с небольшим, вообще с войны не вернулся. И ни слуху от него ни духу – пропал без вести. Я этого поначалу никак не мог понять. Ушёл как в воду канул. А у него, оказывается, жена осталась и сынишка Федя Грязин, старше меня года на два-три. Долго для меня оставалось загадкой: как может человек без вести пропасть? Каждый по документу числится – никуда не скроешься.
А у тёти Тани муж. До сих пор его ждёт. И тоже ни весточки не получила, кроме такой же бумажки из райвоенкомата: «Пропал без вести». Пошла в военкомат, который его призвал. После долгих расспрашиваний тёте Тане объяснили: «Пропал без вести». Не может такого быть! Как же это так можно пропасть человеку – без вести, не иголка, чай? Этот вопрос я задавал себе много раз, так и не найдя разумного ответа.
Запомнился мне тот кучерявый и сердитые слова соседки:
– На войну идёт. На смерть.
И он бесследно исчез в этом страшном кровавом омуте. Как выяснилось много позже – с миллионами других.
А дядя Ваня вернулся. Хотя когда война началась, в тюрьме сидел. И стал из авторитетного вора в законе Вани Бока рядовым штрафной части Иваном Ильичём Сапожковым. А далее читатель обо всём, что автору известно, кроме того кличка Вани произошла от слова «бокá», что на русский литературный язык переводится с блатной фени (воровского языка) как «часы». Дело в том, что Ваня, родители которого были репрессированы, когда он находился чуть ли не в грудном возрасте, как зажиточные крестьяне, то есть кулаки, и растворились среди тех, кто рыл каналы, нещадно изводил лес, просто замерзал посреди бескрайних ледяных просторов, чтобы унавозить собой эти поля, на которых должен был вырасти по мановению большевистской кровавой палки прекрасный, сказочный коммунизм – счастье всего человечества. Ваня, на котором от большого и богатого семейного хозяйства остались каким-то чудом не реквизированные шерстяные вязаные, наверное матерью, обутки в виде сапожек, то и получил он имя, по моим поздним расспросам тёти Тани, новое, и фамилию согласно этому предмету: Сапожков. А отчество, чтобы оторвать младенца от поклятого капиталистического прошлого, – ведь должен был вырасти новый – советский! – прекрасный человек, строитель коммунизма, дали самое дорогое – Ильич! Вероятно, те, кто спас его от, казалось бы, неминуемой гибели, были украинцы, да и сам он, не исключено, тоже.
Далее он прошёл все круги ада, именуемого советским образом жизни, и стал вором. Понятно, почему воры, в среде которых беспризорник оказался, сняли с него прежнюю кличку Сапог и заменили её более подходящей его таланту – уж очень ловко он научился извлекать из чужих карманнов часы. И превратился он в Ваню Бока.
Разъезжал Ваня по городам СССР, облегчая карманы их жителей. Время от времени ему не везло, и он оказывался в родной компании, отделённой временно от других, «неродных», то есть фраеров и фуцанов, [473]473
Фýцан – презрительно название мужика (фраера, фраерюги, фрайера, фрея), то есть человека, занятого работой (феня).
[Закрыть]колючей проволокой.
Короче говоря, мир, народонаселение для Вани составляли две категории людей: воры (люди) и неворы (фраеры).
Если б не Великая Отечественная война, так всё для Вани Бока и оставалось бы по-прежнему. На неё он «подписался» с одной целью: «чухнуть» [474]474
Чухнуть – сбежать (феня).
[Закрыть]и продолжить свою «артистическую» деятельность, ведь часов в карманах у фраеров оставалось ещё видимо-невидимо, не пересчитать.
Но ошибся Ваня, когда увидел, что везут их на бойню, как живое мясо. О том, чтобы чухнуть, нечего было и мечтать – за спиной энкавэдэшники с пулемётами. Пришлось выполнять приказ: так смерть и так – тоже. Если рвануть вперёд – хоть какой-то шанс есть, назад – свои пристрелят. Рану в первом же бою получил. Но выжил. Все дороги и ямы войны шагами измерил и на брюхе исползал. Повезло человеку. Домой, в семью вернулся. И что? Успел, когда находился в благодушном настроении, не очень пьян, поведать о своей трудной, неправедной, захватывающей ребячье воображение приключениями жизни.
…Сидит Иван Ильич в двух шагах от меня. На тротуаре под ногами лежит развёрнутая белёсая пилотка. Пустая. Много таких попрошаек вокруг шляется. Шмотки солдатские надрючил и: «Подайте…» – так, вероятно, думает кое-кто из окружающих о нём.
– Работать надо! – многие советуют. А он работать-то и не умеет. Воровать и убивать – вот две профессии, которым его обучила блатная жизнь и война. Да и рана…
Но я-то доподлинно знаю, что этот оборванец – отец моих знакомых – вчерашний настоящий солдат, действительно воевавший на фронте, осколком вражеского снаряда раненный… И никто ему не помогает. Не сочувствует. Никому до него дела нет.
…Занятый нашим огородом, я прозевал необычное событие: Стаська прибежал с улицы и сообщил весть о «потрясающем событии» – Ивана Сапожкова рано утром нашли в канаве напротив входа в кабак (пивная и до революции была кабаком), присыпанного опавшей листвой тополей. Его сразу признала Каримиха, дворник наш. Тротуар от Карла Маркса до Труда она содержала в образцовом порядке, «вылизывала», как говорили все о её добросовестнейшей работе, а о ней отзывались как о честнейшем человеке. А сыновья её – воры! И дочь – проститутка. Вот что меня удивляло и озадачивало. Почему? И у Фридманов ведь тоже самое. И в других семьях такое же происходит… [475]475
Не знал я, что и нашу семью ждёт такая же горькая участь. (2000 год.)
[Закрыть]
Она и обнаружила тело дяди Вани. Побежала к Сапожковым.
– Туда ему и дорога, – прохрипела похмельная, растрёпанная и ничуть не огорчённая вдова Ивана, но поплелась вместе с проснувшимися сыновьями к роковой пивной. В шесть-седьмом рядом с буйным домом никого не оказалось – все ещё спали. Лишь Вовка с Генкой прибежали вперёд матери, и старший сын, не соображая, будил отца: «Вставай, пап!»
Тётя Паня подошла на шаг к недвижимому телу мужа, постояла, убедилась, что он не дышит, и, позвав за собой Вовку с Генкой, направилась назад, домой. Перед уходом она приказала Генке:
– Пошарь в карманах, есть там што или пусто? Всё пропил, небось…
– Пусто, – установил Генка, быстро обследовав карманы отца, – он лежал на спине, в полусидячем положении, как бы опершись на край канавы, и надел его пилотку.
– Кода хоронить отца будут? Мабудь, с оркестром? Как героя? – спросил мать Генка.
– На кой хрен ево хоронить? Денег нету. Всё пропил. Голых нас оставил. Без копья.
Тётя Паня лукавила: немалая часть потраченного на пиршества приходилась и на её долю, но на свой счёт угощения она не засчитывала, как и сэкономленное и припрятанное. Генка поведал мне, что мать обязательно, когда и раньше дядю Ваню доставляли домой в невменяемом состоянии, шмонала [476]476
Шмонать – обыскивать (феня).
[Закрыть]его. Все заначки вытряхивала. На опохмелку притыренные.
Мне трудно было разобраться, почему всё это происходило в семье Сапожковых. Милиция вскоре, часа через два-три, появилась на месте происшествия. Написали о произошедшем какую-то бумагу.
Потом, рассказывали, приехала машина. Дядю Ваню закинули в кузов и увезли. Более его никто и никогда не видел. Тётя Паня всем знакомым рассказывала, что похоронили мужа «за казённый счет» как участника войны. Только никто об этом ничего не знал.
Я прибежал на место печального события, когда участок канавы, где ещё недавно находился мёртвый Иван Ильич, уже ни о чём не напоминал никому, лишь на нём лежало больше палой листвы тополей. Каримова не стала из-под него выметать.
Как ни в чём не бывало в широко раскрытые двухстворчатые двери пивной туда-сюда сновали любители этого напитка.
Я помчался к Сапожковым, чтобы повидаться с семьёй умершего.
Впрочем, не все разделяли такую причину его кончины: упорно распространялись слухи, что дядю Ваню убили. Впрочем, эта сплетня разбухла позднее.
А сейчас я примчался к Сапожковым. Всё семейство (кроме главы, разумеется) оказалось в сборе. Вовка и Генка спали, на голову старшего натянута пилотка отца – всё-таки хоть какое-то наследство. Тётя Паня, тоже лёжа на постели, негромко пела нетрезвым голосом:
– Стаканчики
Гранёныя
Упали са стала,
Упали и разбилися —
Разбита жись моя…
Поздоровавшись, спустился по коварной ступеньке на пол (не раз падал с неё, в потёмках-то, ведь никогда не мытые стёкла окон, круглогодично запылённые и заляпанные брызгами тротуарной грязи, на уровне которого они возвышались, даже в солнечные дни пропускали мало света, а в пасмурную погоду или зимой здесь всегда стояли потёмки), чем вызывал хохот Вовки и писклявые звуки, которые издавал Генка.
…На моё «здравствуйте» мне никто не ответил. Тётя Паня же, видимо, в изрядном хмелю, продолжала напевать про стаканчики, а Вовка с Генкой, утомлённые ранним пробуждением, дрыхли под монотонную мелодию, как под колыбельную маленькие детишки… Меня быстро охватили жалость и тоска. Тётя Паня, наверное, даже не заметила моего прихода и удаления тоже.
Возвращаясь к себе через двор с домами под номерами двадцать восемь, хотя единственная табличка с этой цифрой пришпандорена только на уцелевшем столбе ворот, давно пущенных жильцами на растопку, я горевал о дяде Ване – весёлый он поначалу был человек и сыновей никогда не бил: как они теперь выживут без него? Какой-никакой, а отец. Защита. Подмога. Поддержка. И пришёл к выводу: как Сапожковы плохо жили без отца, так и дальше придётся им существовать. Надеяться не на что, и не на кого.
…И вот Вовку с «потретом народной заслуженой артиски» застаю на том же самом роковом месте напротив адских широких кабацких дверей. Незаметно почти три с лишним года минуло.
Ничего не изменилось за прошедшее время. Так же снуёт пьющий народ в адские двери туда-сюда, не обращая внимания на сопливого подростка с «патретом» в давно не мытых руках.
– Ну ладно, Володя, мне пора. Завтра рано на смену заступать.
Попрощались. Что поделаешь, любой мог таким родиться. И я. Так о Вове подумалось.
Не успел дойти до трамвайной линии, как вопль заставил меня обернуться.
– Гер! Я эта!
Он, уже без «патрета», остановил меня, озираясь.
– А как же свадебны драгасэности?
– Что ж мы на рельсах стоим? Давай хоть на тротуар перейдём, – предложил я.
– Канаем, Гош, за драгасэностями…
И он повлёк меня назад, вероятно к себе домой.
Честно сказать, очень не хотелось возвращаться, но моя слабохарактерность, опасение обидеть другого заставили повернуть назад, и я пошагал за Вовкой, который за прошедшее время стал ещё больше оборванцем, но у меня не имелось ничего, чтобы я мог ему отдать в носку.
– Хошь на сыган покнокать, которы у нас живут?
– Не хочу, – наотрез отказался я.
– Самый большой начальник – дохтор по чокнутым – обещал меня вылечить. В дурдоме. А сыганка щастя нагадала. В натуре. [477]477
В натуре – на самом деле, истинно так, без вранья (уличное).
[Закрыть]Бытто женюся на красвисэ. Но без драгасэностей она за меня не пойдёт. Такой распорядок у их. И падарила мене золата та сыганка. А притырить их где? Да вот ты встретился. На щасте мене. А то кому одай – обдурят. Меня все обдуряют, потому как я дурак. Дурачок. И я тыбе…
Мы вошли в Вовкин двор, миновали вход в полуподвал, где в бывшей Сапожковых квартире кочевал табор, завернули за угол дома и остановились у крылечка квартиры, где когда-то проживал с матерью Федя Грязин, парень года на два-три старше нас. Он удачливо воровал продукты питания с автомашин и повозок. Однажды угостил нас, гурьбу пацанов, колотым на куски горьким шоколадом. Краденым, разумеется. Только никто из нас не задумывался тогда, в сорок третьем или четвертом, откуда у него этот «чикалат» взялся. Мне он не понравился. А другие с голодухи – ничего, морщились, но лопали. Через несколько дней Федю застрелил охранник, когда тот «вертанул» что-то с проезжавшей мимо, по Свободе, продуктовой машины, – не спасли его быстрые ноги. Федя пустился наутёк, но пуля догнала, пробив сердце вора. Кто-то говорил – опер Косолапов шмальнул, что к тёте Тане Даниловой частенько захаживает.
Где-то тут это несчастье произошло, недалеко. Я Федю мёртвым не видел. Но слух о том, что его начисто «шмальнули», разнёсся сразу по всей Свободе – молниеносно.
Отец его, по слухам, находился в действующей армии. На фронте. Но вестей от него не поступало. Мать где-то работала, я её не знал и ни разу не встречал. Узнав о смерти сына, она скоропостижно скончалась – сердце разорвалось. Я уже об этом упоминал.
Да, коротка воровская жизнь. Некоторым везёт чуть больше. Но насильственная смерть почти для всех неминуема. Либо от пули охранника или милиционера, либо от ножа такого же блатаря, как он сам… Смерть ходит, спешит по пятам блатного.
И вот мы остановились у пары ступенек, ведущих к дверям бывшей квартиры Грязиных. Вовка опасливо оглянулся по сторонам, после присел на корточки и просунул кисть руки под нижнюю ступеньку, пошуровал под ней, и на ладони его оказался маленький узелок из куска цветастой ткани.
– Рвём когти отседова, – пугливо произнёс Вовка, и мы направились на улицу. Перешли её и забрались в густой, запущенный сад, принадлежавший седому старику, как и дом с глухими воротами, на столбе которых прибита эмалированная табличка: «Докторъ Сурьяниновъ». Сад с аллеями, по которым когда-то прохаживались пациенты доктора Сурьянинова, мне был отлично знаком: несколько раз мы, свободская пацанва, лакомились здесь черёмухой. И я, грешник, тоже. В военные годы.
Помнил отчётливо, как однажды ко мне подошёл седовласый красивый старец. Я даже крикнуть не успел «атанда!», чтобы предупредить ребят об опасности. Это и был хозяин дома и сада. Он спокойно сказал мне: «Ребята, рвите ягоды, лишь деревья не ломайте». Седой дряхлый старик подходил к нам, взобравшимся на деревья, и очень вежливо просил нас не ломать ветви! Добрый человек! К сорок девятому году мне таких людей встретилось очень немного, по пальцам перечесть. Перемёрли, что ли? Или их на войне поубивали? Какой-то другой народ появился, хуже…
…Забравшись в заросли крапивы (дом с мутными стёклами окон показался мне нежилым) и какого-то колючего кустарника, оглядевшись, Вовка развернул узелок. В нём оказались две серёжки и одно надраенное кольцо. Поскольку я обладал солидным опытом добычи цветных металлов (со свалок в основном), то, поразглядывав начищенные до блеска изделия и розовые стекляшки в серёжках, не сомневаясь, сказал Володе:
– Тебя, Вова, надула та цыганка. Это не золото, а медь. Или какой-то медный сплав.
– Не мож быть, – растопырил толстые губы Вовка. – Ты зырь [478]478
Зырить – смотреть (феня).
[Закрыть]лучче? Вона… этто… тама написаны есть… сарски. Сам сарь на золоте… накарябал.
Я пригляделся внимательнее. На каждом изделии, и в самом деле, имелись оттиснутые цифры «56». И буквы, похожие на «л». Уж не начальную ли букву слова «липа» оттиснул фальшивомонетчик?
– Ты за них что-то отдал? – спросил я.
– Не. Гумажку на каку-то казённу крестик нарисовал. Што они наши квантиранты у нас. А на сколь – не знамо. Она ничиво не говорила. Я сразу драгасэности под ступеньку и заныкал. [479]479
Заныкать – спрятать. Существует и другое значение этого слова (феня).
[Закрыть]А то мамкины ёбари по карманам шарят. Чо найдут – казачнут.
– Что за мужики?
– Не знаю. Мамка их приводит. Грит – из трюряги выскочили. И к нам лезут. Мамку шворят на кровати, а меня на полу. В жопу.
– Не надо! Не надо об этом. Какая мерзость! Их всех под суд следует отдать. Должен же у нас быть такой закон! Ты в милицию с заявлением на них обращался?
– Не. Никово я не знаю, Гера. А милисыю боюсь. Тама бьют сильно.
– Как же ты терпишь? С тобой такое творят, а ты молчишь. Эти тюремные подонки глумятся над тобой, неужели ты этого не понимаешь?
– А я их не знаю. Никово не знаю. Тёмна жа… Под кроватью ить ни хера не видать. А они: один уползёт, другой по новой ползёт. И штаны стаскиват, очко ишшит. Да с вином ползут. Я глотну – сласть! Харашо! И никово не помню. Поди узнай – хто. Жопу ночью надерут – болит!
До меня вдруг дошло, что убеждая Сапожкова, я совершаю глупость – ведь он сам сказал, что врачи признали его дебилом. Это, вероятно, вроде быть не всё понимающим дураком. А я с ним толкую как с разумным. Как и чем я могу его защитить? Никак. И ничем. Бессилен я. Всё чаще меня посещала мысль, что во многих случаях жизни я бессилен против Зла.
На работу необходимо топать. А то опоздаю – статья за прогул. Срок. Тюрьма. В СССР мало кто в тюрьме не побывал. Чуть что – сразу в тюрьму. Надо не зевать. Тем более что мне уже семнадцать.
А тётя Паня! Надо же столь низко пасть! И всё из-за пьянства. И нежелания трудиться. А здоровая женщина. Только слабая от сдачи крови.
И я перевёл грустные размышления и разговор с Вовы на другую тему:
– Как Генка-то забурился? Тоже ничего не знаешь?
– Питерский ево искал. С ём он уехамши. Пацаны трёкали: зачалили Генка́. За карман. В малолетке чичас сидит.
– Сколько дали?
– Не зна… Где-то… Забыл, Гош. На драгасэнасти и отнеси домой. Тама заныкаешь и мне скажешь. Я и пришкандыляю за имя́. Кода жинитса буду.
– А если меня дома не будет? Восемнадцать стукнет, в армию собираюсь пойти служить. На заставу. Пограничником. А потом – на завод, наверно. Кировский. Слесарем. Если общежитие дадут. Я скоро, Вова, на третий разряд буду сдавать. На Смолино. В ремонтном заводе.
– Тебя ежли не будет, у Стаськи спрошу, ён драгасэнасти одаст…
– Ну уж нет, Вова. Я никого вмешивать в эту историю не хочу. Серёжки свои с кольцом закопаешь сам в нашей сарайке. Ключ где висит, я тебе покажу. Когда понадобится, придёшь и возьмёшь?
– Не спиздят в сарайке-то?
– Знать будем лишь ты и я. Понял? А домой я не хочу показываться – уже со всеми попрощался. Мать увидит – хипёж [480]480
Хипёж – шум (феня).
[Закрыть]устроит, расспрашивать начнёт досконально: что, зачем, почему?
И мне почему-то вспомнился эпизод из сказки Толстого «Буратино». С пятью сольдо.
– Ага, – согласился Вовка. – А мож пирога ишшо попросишь?
– Перестань, Вова. Что ты как маленький… Дворами обойдём, возле барака трамвайщиков, – там в заборе дыра есть: доска на одном гвозде висит. Лишь бы никто нам не встретился.
– Ага, – повторил Вовка и больше никаких вопросов не задавал.
Мы незаметно пробрались к нашей сарайке. Я показал Вовке, где висит проволочный крючок и как им отодвинуть дверную задвижку. Раскопал лаз, вырытый сбежавшим кроликом. Вовка положил в ямку свои сокровища. Затоптали схорон. И тем же путём вернулись в Вовкин двор.
Но Сапожков последовал за мной дальше. Ему, наверное, очень не хотелось расставаться со мной. Пока шагали до пивной, он продолжал рассказывать о себе.
– Знашь, Гоша, ежли б ты не подмог мне, под транвай кинулся бы.
– Да ты что, Вова, совсем обалдел?
– А чо иделать? Сыганка мене нагадала: шасте у менé только с той красависой будет. А без её – крестовый туз. Нету пути никуды.
– Ради бога не делай этого. Жизнь может по-разному повернуться. Главное – лечиться. Вылечишься – другая, лучшая жизнь начнётся. Только уезжать тебе отсюда необходимо. Туда, где тебя не знают. Сейчас медицина чудеса творит, от таких хворей избавляет, которые считались неизлечимыми.
– Хорошо ба, Гош. Да невезучий я. В тюрме сидел за это. Сколь-то, не знаю. Мамка справку притаранила, [481]481
Притаранить – притащить (уличный жаргон). В словаре В. Быкова «Русская феня» (Смоленск: Траст-Имаком, 1994) значится тоже.
[Закрыть]тады отпустили. А так сколь-то лет дали.
– За что, Вова? Ты же муху не обидешь…
– Жрать охота. Кишка кишке протокол составляла. Похлял в эту… как её… рыгаловку. [482]482
Рыгаловка – столовая (феня).
[Закрыть]Там, далёка, в городе. Где больши дома. Где вояки-багатеи хавают. [483]483
Хавать – употреблять в пищу съестное (феня). И не только. Может иметь устрашающий смысл.
[Закрыть]Забурился, [484]484
Забуриться – слово имеет несколько смысловых значений. В данном случае – «залезть» (феня).
[Закрыть]на хапок [485]485
На хапок – схватить, выхватить (феня).
[Закрыть]нажрался. Меня фицыант выгонял, молотил. [486]486
Молотить – одно из значений этого слова – «бить, избивать» (феня).
[Закрыть]А я рубал изо всех тарелок на столе. Не всё сметал. Не успел. Дак за пазуху жратву притырил. На опосля. Дяди-гади меня повязали. Я и не побёг. Меня бливать начало. Вояки как забазлали: [487]487
Забазлать – закричать (феня).
[Закрыть]«В турму ево! Ён наши обеды смолотил! [488]488
Смолотить – съесть (феня).
[Закрыть]» Все таки толсты, брюхаты! Больши начальники, видать.
Повар, такой доходяга [489]489
Доходяга – худой, тощий (феня).
[Закрыть]с вусиками, прибежал. С куфни. Их умасливат: «Я вам ишшо приташшу». А один начальник грит: «Пушшай в турме посидит! Таких, грит, надобно расстреливать без суда, как на фронти». А повар, када за мной мусора [490]490
Мýсор – милиционер (феня).
[Закрыть]прибёгли с дурами, [491]491
Дура – наган.
[Закрыть]ишшо бутенброт мене в карман засунул. А у меня в ём дырка. Дак ён в тую дырку провалился на пал, а я ево – цап! И в грабке держу. Дак мусора – в милодии [492]492
Мелодия – отделение милиции (воровская феня).
[Закрыть]дажа не нашли. Я ево в аделении и схавал. Дак чуть копыта не отбросил – не дают мусора из ихней мусорской крушки попить. Во, жлобы! [493]493
Жлоб – жадный (феня).
[Закрыть]Воды имя жалка! Я упамши, дак один мусарюга кричит: [494]494
Кричать – говорить (блатная феня).
[Закрыть]
– Пушшай подохнет… этта… как её… от заворота кишков. Штобы в ахвисэрски столовы не шастал боле.
– Били?
– Не… Отбучкали [495]495
Отбучкать – избить (феня).
[Закрыть]малость. Кулаками. А мне по херу. Зато нахряпался от пуза. Никода так скусна не жрал. Сколь дней до тово не лопал. Выползу из-под кровати, стану – темно, будто ночь. Падаю на пал. Не знаю, сколь дён не жрал, – много. Еле до рыгаловки ахвисэрской дополз.
А во мне, в моей памяти, с фотографической точностью возникла, казалось, давно забытая сцена на базаре: задранная серая куртка на шелудивом теле с выпирающими рёбрами и бьющееся сердце, быстро-быстро, будто через мгновение выскочит, прорвёт грязную кожу и покатится под ноги беснующейся толпе… Это из сорок второго или сорок третьего вспомнилось. Надо же – столько лет, а озноб по спине пробежал.
Столько лет промчалось с сорок третьего, и вдруг промелькнула та базарная сцена, не забылась… Сейчас она увиделась мне ещё более зловещей и чёткой.
– Я знаю того повара из военторговской столовой на углу Кирова. Капустин его фамилия. Он меня с Генкой в сорок шестом накормил, когда я из дома ушёл. Добрый человек. Редко такого встретишь.
– Во-во. Мене Генка об ём трёкнул. Я и запомнил. Как вы побирались…
Слово «побирались» резануло мой слух, но я будто не заметил, не стал спорить.
– В турме тожа кормют ништяк. [496]496
Ништяк – неплохо, хорошо, ничего (удовлетворительно) (феня).
[Закрыть]Из люминевых чашак. Баланда скусная, из капусты. Каша. Хлеб дают. Пайку. Мене пондравилось. Тока чашка с дыркой, из её лилось прям на меня…
Последние Вовкины слова меня удивили. Точнее – поразили.
– А как тебе там жилось? Не обижали?
– Не! Блатные приставали. Штобы дал имя. На полшишки просили. А сами как влупят, дак до кишков достают. Больно! На четвирых костях стоять вилели. Поебут – пайку дадут. Целяком. По-щесному. Как обещали. Воры все щесныи.
Слушать Вовкину исповедь стало невыносимо.
– Сразу освободиться-то удалось? По медицинской справке? Или по суду?
– Сами мусора отпустили. Мамка к имя приехала и каку-та гумагу от дохтора притаранила. Што я, ну, как ево? Дибил. И миня выпустили. Баландой накормили. Пайку дали. В дурдом повезли. Тама обо всём спрашивали. Карандаш дали, гумагу, заставляли каку-та херню писать. А я им калабушки [497]497
Калабушки – бессмысленное начертание чего-то непонятного. Так называют свои упраженния дети младшего возраста.
[Закрыть]нарисовал – в школе-та не учился, буквов не понимаю. Дак они, што я трёкал, написали и выпустили. Сказали, што сколь лет мне будет, к себе забирут. Личить будут. В дурдом нада бежать да тама местов нету – всё забито. Много нонче дураков расплодилось, до хера. Говорят – от водки.
– Где-же ты спишь? Ночуешь?
– В тёпло – в калидоре у своей фатеры. Колотун стал, в бане кемарю [498]498
Кемарить – дремать (феня).
[Закрыть]на скамейках. На Краснармейской. Аль на котлах. Ташкент!
– Вова, а где фотка тёти Паши? – спохватился я.