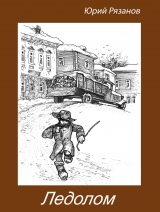
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 48 страниц)
Мы с Генкой сидели на вогнутой нижней ступени бетонной лестницы, слушали яростные выкрики сцепившихся между собой женщин, и этот ор нам быстро надоел. А я постоянно чувствовал какую-то невидимую опасность, нависшую над нами.
Этого ещё не хватало: Гундосика признала тётя Таня, высунувшаяся из парикмахерской полюбопытствовать, что за гвалт возник в зале ожидания. В руках её, как алебарда, волосяная щётка выглядела грозным боевым оружием. Она с наслаждением разоблачила «сироту». А если меня узнает? От ужаса всё сжимается внутри.
– Да это же Генка Сапожков! У ево отец – антаголик, в канаве у пивной давеча околел. А мать нигде не работат – тунеядка. И с мужиками улишными выпиват.
Вовку почему забыла помянуть?
– Рвём когти, – тихо произносит Гундосик и поднимает пилотку, в засаленное нутро которой кто-то из сердобольных очередников-слушателей успел набросать с горсть мелочи и несколько рублёвок.
– Канай за мной, короче, – торопит Генка.
Мы поднимаемся туда, где продолжается беспрестанная стрельба. Чем выше забираемся, тем усиливается гул нагревательных (или нагреваемых?) котлов и оглушительнее воспринимаются хлопки.
У меня не хватает мужества оглянуться: продолжает ли обличительную речь тётя Таня и не узнала ли она меня? Не отнимая шапки от лица, шагаю по ступеням, поглядывая осторожно и внимательно под ноги, – не загреметь бы вниз – костей не соберёшь.
Находясь среди людей, ощущаю их близость и свою неодинокость. Горе, нывшее во мне нудным старушечьим голосом, постепенно приглохло, отступило. Но оно невидимкой притаилось где-то внутри, готовое в любой момент наброситься на меня, напомнить об утрате дома, родных – сейчас моей самой острой боли. И ещё не отпускала мама, постоянно возникая, скорбная, перед глазами.
– Идём дрыхнуть, – пригласил Генка, видя, что мне невмоготу.
– К вам, что ли?
Наш диалог заглушал и прерывал треск нагреваемой воды.
– Тебя рази домой зову? Под бак.
– Куда?
– Под бак. На чердаке. Лафа! Ташкент!
– А пустят нас?
– Какой дурак об таком спрашиват? Канаем – и всё.
Мы поднялись на третий этаж. По металлической громыхающей лестнице пробрались под самый потолок. Генка толкнул плечом маленькую, обитую ржавым железом дверцу, и на нас вмиг обрушились трескотня и какой-то густой обволакивающий гул. Там, в утробе чердака, рычал и клацал зубами большущий железный зверюга.
Генка захлопнул дверцу, и мы очутились в полной темноте. Со всех сторон нас долбил грохот, от которого содрогался решётчатый пол.
– Дай пять! – выкрикнул мне в ухо Генка.
Спотыкаясь, я волочился за поводырём, пока не наткнулся на тёплый, мне почудилось, вибрирующий бок, вероятно, огромной цистерны. Гундосик потащил меня дальше, вдоль этой ёмкости, в которой оружейными залпами трещала и шумела падающая вода, нагнетаемая, вероятно, мощным насосом.
– Лезь сюды, – еле расслышал я Генкин приказ. – На карачки становись.
Я опустился на четвереньки, подлез под брюхо цистерны и пополз вслед за Генкой.
– Сюды легай. Курорт! И дяди-гади не заметут – им досюдова не пролезть – больно толстые.
– Здесь и милиция бывает?
– А ты думал? Взрослых имают.
– Кого – взрослых?
– Блатных. Вороваек [311]311
Воровайка – воровка (феня).
[Закрыть]разных, шалав. [312]312
Шалава – проститутка (феня).
[Закрыть]Бродяг. Которы от хозяина [313]313
Хозяин – начальник концлагеря. Так же блатные называли Сталина (феня).
[Закрыть]из лагеря освободились. Или чесанули из зоны. [314]314
Зона – концлагерь (феня).
[Закрыть]Ну, всех, у кого свово дома нету.
– Разве есть люди, у кого нет своего дома?
– Ты што – совсем глупой?
Я и в самом деле полагал, что у каждого человека есть или должен быть где-то свой дом, – а как же иначе? Оказывается…
Мне от Генкиной реплики даже неловко перед ним стало – за свою наивность.
– Засмалим? – предложил Генка.
– Куришь?
– Махру. Чинариков [315]315
Чинарик – окурок (общенародное).
[Закрыть]насбирал на транвайной астановке – на пару «козьих ножек» [316]316
Козья ножка – цигарка, свёрнутая особым образом (народное).
[Закрыть]с походом будет. А ты? Слабо?
– Не курю. Тошнит с табаку. Отец курит, как паровоз, всю жизнь. У меня от его «Беломора» сызмальства горло болит. Мы с пацанами баловались: листья сирени курили – тоже противно.
– А я и вино пил. Лёня Питерский угощал. Вкус – заебись! И весело так! Быдто летишь. Погодь-ка, я сичас. У меня заначка с прошлого раза осталася.
Генка куда-то стал протискиваться, в какую-то щель, наверное очень узкую, и даже заехал мне в бок своими рваными опорками.
Когда Гундосик уполз, меня полоснула жуткая мысль: а если он не вернётся и я останусь один – что тогда? Выхода-то даже не найду.
– Не стибрили! – ликующе выкрикнул Генка. – Тута!
– Кто?
– Шекспир. Держи. Из дома сюды притаранил. [317]317
Притаранить – принести, притащить (народное).
[Закрыть]Чтобы не стырили. [318]318
Стырить – принести. Имеет и другие смысловые значения – украсть, например (феня).
[Закрыть]И в ей – фантики [319]319
Фантики – обёртки конфет.
[Закрыть]заначил. [320]320
Заначить – спрятать (феня).
[Закрыть]А счас рюхнулся: [321]321
Рюхнуться – вспомнить, опомниться (феня).
[Закрыть]не обшмонал [322]322
Шмонать – обыскивать, шмон – обыск (феня).
[Закрыть]ли хто мою заначку – и тю-тю… Сухарики будешь?
Я общупал твёрдый картонный пупырчатый переплёт уже знакомой мне книги – Генкиного сокровища, тома, изданного Брокгаузом и Ефроном. Ещё до революции. Помнится, в тысяча девятьсот втором году. С картинкми.
– А ты прочитал книжку-то?
– Шекспира?
– Ну да.
– Всего. И другорядь. Многих листов нету. А то, что осталось, – всё прошерстил. Некоторые твёрдые знаки сначала не понимал, а посля дотумкал, что это «е» такое.
– Понравилось?
– Ух, тиресно. Короли мне только не ндравятся – убивают друг друга. Яд подсыпают в кубки с вином. А чего убивать? Чего им не хватат? Не по карточкам, поди, хлеб получают… Хорошо-то как здеся! Дадим храпака? Держи сухарь. Соси.
– А подушки нет?
Генка затрясся от хохота.
– Может, тебе ещё и одеялу дать? Ну сказанул, Ризанов.
Кое-как примостившись на каких-то тряпках, я уже почти задремал, как по шее что-то поползло. Я попытался вскочить и больно ударился лбом о гудящее железо.
– Генк! Что-то ползает!
– Тише ты! Облава, верняк. Замри, а то услышат дяди-гади, мусора подлючие.
– Да нет же. Букашки какие-то. По шее…
– А… Это бекасы. [323]323
Бекасы – вши (народное название, феня).
[Закрыть]Их тут – хочь горстями греби.
– Какие бекасы? Так птиц называют.
– Бекасы – птички? Ты чего горбатого к стенке мене лепишь?
– Да, у Брема в «Жизни животных» о них написано. В четвёртом томе.
– Не знаю. У кого, мож, птички, а у нас – воши.
– Вши?!
– Ага. А ты чего икру заметал? [324]324
Икру метать – паниковать, беспокоиться (феня).
[Закрыть]Почешешься малость – только и толков. Дрыхни! Сухарь пондравился? А я думал, ты не будешь. Домашняки хуй за мясо не шитают. Им сало-масло подавай.
– Откуда у нас сало-масло, Гена, сам подумай.
– Ежли папаша така шишка, то у вас всякая-разная бацилла [325]325
Бацилла – вкусная питательная пища (феня).
[Закрыть]могёт валяться – рубай [326]326
Рубать – есть (феня).
[Закрыть]– не хочу…
– Да брось ты глупости говорить: то же самое по картинкам в магазинах в очередь получаем. Как положено – пайка на человека. Это отец в дни получек в «Арктике» гужуется, [327]327
Гужеваться – пировать, хорошо, сытно жить (феня).
[Закрыть]а нам-то ничего не приносит. Только пьяный поздно приходит. И арии поёт. Не знаю, артиста из себя воображает, что ли.
…Я не мог долго уснуть. Донимали вши. В нашем доме никогда не водилось никакой подобной живности. Даже таракана я впервые увидел на рисунке в книжке Корнея Чуковского. Мама за чистотой следила очень бдительно. От знакомых, например от Альки Каримова, подхватывал иногда паразитов, но мама тут же обнаруживала их и беспощадно уничтожала.
Я долго мучился, мне всё бластилось, что по всему телу ползают отвратительные насекомые.
Не сразу удалось забыться. Очнулся я от щёлканья в ушах.
Меня томили жара и духотища. Та же непроглядная тьма царила вокруг. Ещё ночь? Или наступило утро? А может, уже день?
– Генк, спишь?
– Надрыхался вслась. Ух, как у Христа за пазухой. Ташкент!
– Как ты думаешь, сколько времени?
– Время? Баня ещё закрытая. А открыватся она в семь. Я тебе скажу, когда мыться начнут.
– А как узнаешь?
– Услышу. Вода пуще зашумит.
Голод напомнил о себе. Но не очень я от него ещё страдал, хотя за последние два дня съел лишь пару помидорин да семенной огурец.
«Терпи, – внушал я себе. – Голод – чепуха. Можно много дней не есть, и ничего – не умрешь. Думай о другом. О чём-то хорошем. О книжках любимых».
– Шамать охота? – словно угадал мои мысли Генка.
– Поел бы. А найдётся?
– Печёнки. Три штуки. В золе вчера днём испёк, пока Немого в котельной не было – уканал куда-то, бес [328]328
Бес – рабочий (работяга), мужик (феня).
[Закрыть]безрогий.
– Это банный слесарь?
– Ага. Гонят нас из котельной. Сильный, как сатана. Одной ручкой поднял меня за шкирку и во двор выбросил. На шлак.
– А отсюда он нас не выгонит?
– Да ты что, сдурел? Как он сюда пролезет? Я ж тебе говорю: мы тута, как у Христа за пазухой.
– Да, действительно, – подумал я. – Если б не Генка, где бы я мыкался? Опять на вокзале ёжился, сидя на плиточном холодном полу. Или в милиции на допросе.
– Держи, – Гундосик сунул мне в руку шершавую твёрдую картофелину и принялся ощупывать моё лицо.
– Ты чего? – удивился я.
– Кусай половину. По совести.
Я откусил, кажется, большую часть клубня.
– Шамай. Красотулина какая… Так бы всю жись и пролежал здеся – никто не хватаит, не лезет в душу. Тепло и мухи не кусают. Потрёкаем? [329]329
Трёкать – беседовать, рассказывать о чём-либо (феня).
[Закрыть]
– О чём?
– Про жись. Ты чего хотел бы иметь? Чтобы в твоём дому́ было?
– Из мебели, что ли?
– И небель – тожа. И всё другоя.
– Для себя?
– И для ро́дных. Для отца-матери, братана́.
– И друзей?
– И друзей. Закадычных.
– Честно?
– Давай шуруй.
– Чтобы еды было много-премного. Вдоволь для всех. И хлеба – белого. Мягкого. И молока. Ну и другого всего. Книжек разных хороших, интересных. О путешествиях. Про другие планеты. Чтобы мама, наконец, отдохнула от работы, а то…
– Чур, только про то, что можно помацать. [330]330
Мацать – щупать, осязать (феня).
[Закрыть]Не хвантазии каки-мабуть.
– Чтобы… – я осёкся.
– Ну, чево?
Понимал, что это нельзя никому доверять, – я думал о Миле. И если б отважился высказать вслух свои глубинные, заветные мысли и желания, защищённые от всех непроницаемой бронёй тайны, то пожелал бы, чтобы Мила всегда жила в нашем доме, рядом со мной и я мог бы видеть её каждый день, любоваться. Больше мне от неё ничего не надо.
Но поведал я о другом. Правда, тоже близком мне.
– Чтобы у мамы было новое платье – красивое. Как у Любовь Орловой. И туфли на высоком каблуке. С бантиком.
– Это хвантазия. Ещё чего хотишь? Короче!
Я призадумался. И в самом деле, чего? У отца всё, на что было способно моё воображение, есть. И даже сверх того. А мне, пожалуй, лишнего ничего не нужно. Хватит того, что у всех, у каждого. Зачем больше? И ещё…
– Ну?
– Чтобы никто никогда не обижал ни маму, ни Стаську…
– Это опеть – хвантазия.
– Чтобы с друзьями никогда не расставаться. Всю жизнь.
– А на кого ты хошь походить?
– Как на кого? На себя, на кого же ещё. А, ты вот про что! На Олеко Дундича.
– А кто это?
– Герой. Гражданской войны. Храбрец, каких поискать. В драмтеатре пьесу смотрел. Его в плен взяли, в голову раненного. И сам генерал Шкуро допрашивал его, со связанными руками за спиной, – боялся красного командира. А Олеко Дундич говорит: «Вы меня не подкупите. И не запугаете. Я лучше умру, но Революцию не предам».
– Ухайдакали? [331]331
Ухайдакать – убить, ухайдакаться – дойти до крайней степени усталости (феня).
[Закрыть]
– Расстреляли. Но он и перед казнью выкрикнул: «Да здравствует Революция!» – присочинил я.
Генка умолк.
– А я буду таким, как Лёнчик Питерский. Чтобы в бостоновой лепёхе [332]332
Лепёха – костюм (феня).
[Закрыть]ходить, в прохарях [333]333
Прохаря́ – хромовые сапоги. Из иного материала сработанные назывались иначе (феня).
[Закрыть]– хромачах гармошкой, с подбором белым. Денег у него – не мерено, во всех карманах – горстями. И две фиксы – рыжие. В натуре.
– А почему на него-то ты хочешь походить? – не уразумел я.
– Потому что ево все уважают. И блатяги, и фраера, и марухи. Денег у ево, чесно, што семечек в мешке у базарной барыги. Дошло? А чево ты ещё загадал?
– Ничего. Всё.
– Всё? – удивился Гундосик.
Немного ещё покумекав, я подтвердил:
– Всё. Больше – ничего.
– Ну и дурак. Как мой братан. Ему тожа ничево не надо, акромя пожрать. Потому как он не сображат.
– Почему ты обо мне такого мнения? – обиделся я. – Что я дурак?
– Потому, што песенку знашь?
И запел:
– Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги без конца.
А без денег жись плохая,
Не годица никуда…
Меня удивила находчивость Гундосика. Откуда он всех этих «премудростей» нахватался? А Генка уже отвечал на мой не заданный ему вопрос.
– И маманя грит, што была бы самой щасливой в мире, ежли б у её денег было, сколь хошь. Её замуж обещал взять один начальник, она у ево в конторе сиклитаршей мантулила. Дак папаня помешал, в загс утащил. Зырил, какая она на потрете раскрасависа? Народная артиска! Папаня ей жись испортил. А то она была ба в крипдишин и кружева разодета. В фильдиперсовых чулках ходила ба. В роскоши и молоке с мёдом купалася ба… А заместо энтаво папаня ей в пьяном виде Вовку-дурака заделал. А маманя щесная деушка была. Папаня поэтому за ей и гонялся, проходу не давал. Щас где целку встретишь? А она пока замуж не пошла – чесная была.
Я представил нарумяненную тётю Пашу, в праздничном платье с кружевами, барахтающуюся в роскошном корыте, наполненном молоком с мёдом, – чушь какая-то! Нелепость!
– Генк, а почему мама твоя нигде не работает? Все трудятся, а она – нет.
– Донор она. Кровь свою продаёт. Нам жратву покупает. И гадалка. За гро́ши ворожит. И вопче за антирес. На картах и по руке. А лучче всего у её получаеца на бобах. На фасоли – хужее. Правду людям грит, ей богу! К ей много народу ходит гадать. Суседки и издалёка. Всяки прутца.
Я припомнил, как несколько раз заставал, прибегая к Бобу, тётю Пашу, словно в обмороке лежащей на кровати, – после сдачи крови. И не однажды видел у неё незнакомых и нездешних женщин, которым она бойко и уверенно предсказывала «нечаянный интерес», червонных, бубновых и трефовых королей, коварных пиковых дам и известия из «казённого» дома. Слушать обо всём этом было забавно, и поначалу меня удивляла чудесная способность тёти Паши разглядеть в человеке его будущее. После усомнился в правдивости её прорицаний, иногда повторяемых слово в слово совершенно разным людям. Более того, недоумение у меня вызывало то, что она плату за свои гадания берёт. Как будто за работу на заводе. Ну ладно, цыганки на базаре, те обманывают, обирают, попрошайничают – у них обычай такой. Но тётя-то Паша – не цыганка, русская. Она и мне гадала на бобах и по линии руки – за несколько варёных картошин. Как бы понарошку.
– А ты тоже умеешь гадать? – полюбопытствовал я.
– Ещё чево! Это жа она от фанаря! Грит, штобы людей успокоить в горе. Я ей не верю – туфту гонит. Жрать-та на што-то нада.
И в этом восклицании Гундосик выразил своё презрение к позорному занятию – обману.
– Быстрей бы подрасти, – мечтал Гундосик, – фомку железную добуду, отмычки и банк колупну. В ём денег – горы! И все – в пачках, тыщи пачек!
– Спятил! Ты хоть понимаешь, о чём треплешься? Это ж грабёж!
– Ну и што? У меня и кент есть, с кем на дело пойти, – Лёнчик Питерский. Он фартовый. И к мамане хорошо относится, душевно. Гро́ши ей давал. Мы с им любой банк на гоп-стоп возьмём! И всю жись можно опосля филонить, в потолок поплёвывать, да по ресторанам шляться. Во жись!
Я не представлял, что это за жизнь такая, – гулеванить [334]334
Гулеванить – пировать (уличное слово).
[Закрыть]без просыпу. Всю жизнь. А полезные дела кто будет делать? Без них не проживёшь. Каждый своё полезное дело должен совершить.
– Генк, а ведь банки грабят лишь за границей. При капитализме. Я так вычитал в книжках.
– А у нас – нет?
– Нет.
– Тада остаётца фраеров дербанить, [335]335
Дербанить – кромсать, делить. Имеет и другие смысловые значения (феня).
[Закрыть]начальников всяких, которые…
– А почему их можно? Начальников?
– Потому што они тоже воруют, начальники. Поэтому и в начальники лезут, штобы воровать сколь в лапу влезет. Мильёны.
– Не все же начальники жулики, есть и честные. Вот у нас эвакуированные ленинградцы жили. Она была начальницей, а ничего не крала, по карточкам и талонам продукты получала. На то и жили. И вещей у них никаких не было. Только, что на них надёвано. Молодая, сын её, совсем доходяга, на кирпичах спал – койки не было.
Но тут я вспомнил, как ещё в сорок втором, зимой, у нас полмешка чёрных довоенных сухарей «реквизировали», признав излишками продуктов питания, а моему однокласснику Борьке Аверину очень приглянулся наш том Пушкина с цветными картинками, подаренный маме за отличное окончание девятилетки – с печатью и подписями. И мама решилась с ним расстаться, хотя жалко было – память. Тогда я и попал в дом Авериных. Отец его работал главным инженером ликёро-водочного завода и слыл в нашей ребячьей среде большим начальником. Даже директриса школы обращалась к нему с просьбами о покраске окон и дверей в классах. И за прочим.
Борька провёл меня в свой пятистенный домище, недалеко от школы, на углу Карла Маркса и какого-то Могильниковского. Я не мог не удивиться огромной бочке с жидким свиным салом (он его почему-то называл «лярдом») – выше меня по росту, – стоявшей в их сенках. А когда Борька откинул крышку ларя, набитого доверху окороками, я увидел шматки солёного сала. К тому же с потолка свешивались крупные гусиные туши, глазам своим верить не хотелось – я знал, почём маленький кусочек шпига на базаре, – не укупишь! Борька и расплатился с нами этим солёным салом – большой кусман секачём отрубил. Мама осталась довольна обменом. Только спросила: честно ли мы поступили, не много ли за книгу получили?
Тогда я как-то не задумался: откуда такое невероятное количество жиропродуктов у Авериных? Сейчас, не сомневаясь, сказал себе: наверняка то сало – украденное. У народа.
– Я буду шкурить [336]336
Шкурить – грабить (уличная феня).
[Закрыть]начальников – жуликов. Это не грех – все говорят. Ежли б они не крали, мы лучче жили бы.
– А как ты узна́ешь: честный начальник или мазурик? [337]337
Мазурик – вор или мошенник (общенародное понятие).
[Закрыть]
Генка задёргался, не находя ответа.
– Уж лучше самому заработать, – сказал я. – Честно. Своим трудом. Мне так всё время и мама говорит.
– Тада работать придётся. Есть же такие работы, где хорошо платют? Нет. Лёнчик говорил, што все начальники – воры.
– Как же! Закройщики, к примеру: какие бешеные деньги за их труд платят. Да мало ли хороших дорогих работ. Только этому учиться надо. Ты, к примеру, в школе учился, хоть класс или два?
– Я сам грамотным стал. Под антирес. Меня азбуке Мироед научил. За шелабаны… Гер, а ты чего из дому чухнул, а? – вдруг снова стал допытываться, не ответив толком на мой вопрос, уклонился Генка. Ох и въедливый пацан.
– Да так, – попробовал отмахнуться я. – Надоело… Я ж тебе говорил.
– Чево темнишь? А ещё – друг. Колись до самой жопы.
Но как было рассказать всю правду? Да и в чём она – вся?
Может, лупцовки я и терпел бы ещё. Хотя едва ли. Сколько можно? Но суть в другом. Когда папаша после очередной беседы с завучем полосовал меня ремнём, я молчал, стиснув зубы. И поклялся себе, что не закричу, не зареву. И страшился я не боли, а что не выдержу. Тогда мои вопли может услышать Мила. Вот чего я опасался. Как я после такой «экзекуциии» поздоровался бы с ней, заговорил? Крысовна и отец лишали меня такой возможности – видеться с Милочкой. И почему отец столь остервенело колошматит меня? Не любит. И поэтому надо уходить из дома. Что я и сделал.
Эта мысль стала навязчивой в последнее время. Я ни о чём другом не мог думать, постоянно возвращаясь к постигшей меня трагедии, – именно так в моём сознании виделось происходящее со мной. Лишь светлым пятном, вселяющим надежду, что не всё далее будет столь же плохо, возникало в моём воображении воспоминание о Миле.
О ней я подумал и сейчас. Эти видения часто вспыхивали неожиданно, и с пронзительной радостью. Так я узнал, что сердце может щемить не только грусть. И я вызывал Милу внутренним видением, что удавалось всегда легче лёгкого. Девушка тотчас являлась. Я видел и слышал её столь же явственно, как в действительности. Она отвлекала меня от тягостных переживаний, сомнений, угрызений, самообвинений и вела за собой в светлый мир её сдержанной чистой улыбки и чарующих переливов нежного голоса. Именно такой она мне представлялась, Милочка.
Теоретически мне были известны интимные отношения между мужчинами и женщинами. О Миле я и мысленно не мог подобного допустить. Или даже представить её в своих объятиях. А уж в чьих-то и подавно. Ведь Мила – не такая, как все, она особенная.
Минувшим летом, в одно изумительное светлое утро, я беседовал с Милой, сидя на подоконнике кухоньки Малковых, куда взгромоздился со двора.
Она мыла пол и, светясь своей чудесной улыбкой, шутила, необидно подтрунивала надо мной. И когда она нагнулась в очередной раз, я увидел в прорезе ворота её платьишка то, чего не должен был видеть, – маленькие перламутровые чашечки – груди. С розовыми плоскими сосками. Я сразу отвёл глаза и смутился настолько, что лицо набрякло от прихлынувшей крови. Мила, очевидно, не догадалась о причине моего смятения. А ведь обнажённые женские и девчоночьи тела я не однажды видел во время купаний в Миассе, и ничего – не сгорал от стыда. Наоборот, эти зрелища в последнее время бывали порой притягательны. Украдкой, незаметно, я наблюдал за купальщицами, но вскоре мне это надоедало – что в этом особенного? А тут и глаз не посмел поднять, чтобы снова не наткнуться на запретное. А запрет возник во мне же. Я его сотворил – иначе и поступить не мог, ведь передо мной находилась Мила – девочка, которую я беззаветно любил. За что? За всё. За то, что она такая. За то, что она есть на свете. И другой мне не надо. Ни Любовь Орлову, ни Марину Ладынину – никого!
…Она и сейчас присутствовала как бы всегда рядом, близко, и в то же время нас разделяло что-то абсолютно непреодолимое. Навсегда. Эта невозможность единения меня угнетала, раздражала и ввергала в отчаянье. Я мысленно стремился к Миле и одновременно не смел приблизиться. В этом-то и заключалась мука.
Я и сам не в состоянии был разобраться в том, что со мной происходит, почему меня неодолимо влечёт и не допускает к Миле. Генке объяснить что-либо вразумительно я не смог бы, даже решившись на это. Но даже не желал заикаться на эту тему, твёрдо знал – про себя! – что люблю Милу. То же подтверждали стихи. Им я доверял.
– Чево молчишь? – толкнул меня Генка.
– Стаську жалко. Без меня его задирать будут.
– Чухнуть [338]338
Чухнуть – сбежать (уличная феня).
[Закрыть]собираешься! – воскликнул Генка. – В другой город?
– С чего ты взял?
– Слиняем [339]339
Слинять – уйти, убежать, уехать (феня).
[Закрыть]напару! А? Мамане я и на хер не нужен. Залётными хлять [340]340
Хлять – выдавать себя за кого-то (феня).
[Закрыть]бум. [341]341
Бум – сокращенно от «будем» (уличная феня).
[Закрыть]В самый фартовый город в мире. Знашь, как он называтся?
– Москва.
– Челяба тоже ништяк. Ежли б путняя хавира [342]342
Хавира – квартира (феня).
[Закрыть]была.
– Ну и сказанул! Челяба в переводе на русский язык – «яма». Самый красивый город на свете – Ленинград.
– Ты в ём был? Нет? В натуре фартовый? Мне Лёнчик Питерский трёкал, вор авторитетный, ночевал у нас три ночи. Залётный блатной, щипач классный.
– Так что он тебе рассказал?
– Всё там красивое: дома, улицы, дворцы, мосты. Агромадные дома – с гору! Памятник тама стоит царю – на коне. Конь – со слона! И шкиль тама есть. На крепости. Из чистого золота. Даже ночью горит. А ночи там светлее, нежели у нас днём.
– Читал я об этом. У Пушкина читал. Только не «шкиль», а шпиль. И Вовка Кудряшов, дружок мой, эвакуированный, рассказывал.
– То у Пушкина. Самому бы повидать. Город-то – герой. И люди в ём живут – герои. Лёнчик Питерский трёкал – он сам из Питера. Только нет ему в жизни щастья. Сирота он. Все с голоду померли. В блокаде. Да ты его зырил – на площади. Когда салют Девятова мая в прошлый год шмаляли. Он щипал, а мы на пропале стояли. Пропаль брали.
– Что за пропаль?
– Не знашь? Это когда с чердака или из жопника, [343]343
Чердак – верхний, жопник – нижний брючной карман (феня).
[Закрыть]к плимеру, сдёрнешь гроши, а фраер ещё не шурнулся, [344]344
Шурнуться – спохватится, обнаружив пропажу (феня).
[Закрыть]незаметно кенту передашь пропаль, а он – когти рвёт. Схватят щипача поганые фраера, а у ево нету ничево – докажи, что он гумажник уволок. Ты и отвода не знаешь?
– Нет.
– Это когда ты фраеру глаза отводишь, клянчишь, к плимеру, чинарик досмалить, а щипач в энто время…
– Гадость какая! Это же обворовывание. За это в тюрьму… Ты говоришь, я его видел? Доходной [345]345
Доходной (доходяга) – исхудавший (феня).
[Закрыть]такой, костлявый, с фиксой?
– Из рыжья́ – чистова червонного золота. И в лепёхе бостоновой, в белую полосочку. С притыркой [346]346
Притырка (ширма) – обычно пиджак, перекинутый через согнутую в локте левую руку. Притыркой от глаз обкрадываемой жертвы закрывалась та часть его тела, вернее одежды, карманы которой чистил щипач. Этим приёмом, наряду с другими, воры пользуются до сих пор.
[Закрыть]на рукаве.
– Я его знаю, гада. Он у меня сушёную рыбу украл. На паровозе, когда я на фронт ехал. С пропеллером. Для «ястребка».
– Божись, што не свистишь!
– Легавый буду! Он ещё бритвочкой хотел мне глаза вырезать.
– Ну! Энто он тебя на «забаюсь» брал.
– Вот тебе и «ну». А ты: Лёнчик, Лёнчик! А он бандюга. Последние крохи у пацана выгреб и сожрал. А меня голодным оставил.
– Не, он чистокровный карманник. Благородный. У ево и папаня урка был. Лёнчик в Ленинград сулился меня прицепом прихватить. Када-мабуть… Када куш [347]347
Куш – большая сумма денег.
[Закрыть]ему обломитца.
Я же, слушая Генку, размышлял:
«А почему, собственно, и не поехать в Ленинград? Без Лёнчика. Отцу я не нужен. Мама – за меня, да сделать ничего не может. Стасик с ними остаётся. Маму только жаль. Но… Не в состоянии и она понять, что не получается у меня, как ни стараюсь, чтобы в точности выполнять все их указания. Ну не получается! Что же делать мне? Терпеть? До каких пор? Пока не состарюсь?»
Об этом я ей однажды откровенно заявил.
– Плохо стараешься, сын, – упрямо внушала мне мама, жаря картошку, – старайся, и всё получится. Захочешь – добьёшься. Упорство и труд всё перетрут, сын.
И это втолковывает мне она! К кому же ещё обратиться за толковым советом? Не к кому!
– Дело придумал, – поддержал я Генку. – Поехали в Ленинград. Спросят – соврём, что родных ищем.
– Придумам чево-мабудь подходяще. Я буду песни петь в теплушках жалобные, романецы, которые мамка пела. А ты – будто мой глухонемой брат. Двоюродный.
– Нищенствовать? Ну уж нет. Робить будем. Что мы, с тобой на билеты не наскребём? Я знаю, как можно честно заработать, – в утильсырье. Мне и другие способы известны. Но сейчас они не совсем подходящи. Белых мышей, например, разводить и продавать.
– Неужто такой дурак найдётся, что мышей купит? – перебил меня Генка.
– Так то ж белые. В мединституте их с руками оторвут. Для опытов. И хорошо заплатят. А если со свалок да отовсюду с утра до вечера в ларёк на улицу Пушкина на тележке всякое добро возить, вдвоём, да мы с тобой кучу денег загребём – честно! И через месяц будем по Ленинграду гулять… Посмотрим, что там за шпиль золотой.
Генка помолчал, вероятно обмозговывая мои соображения.
А я уже видел себя в самом красивом городе, на высоком ажурном мосту через всю Неву. Под нами проплывают белые пароходы, украшенные красными трубами, из которых клубятся чёрными шлейфами дыма облака. И капитан на одном из таких пароходов – я, Юра Рязанов. В детстве любил рисовать пароходы и капитанов с трубкой в зубах. А команда отдаёт капитану честь – ведь на мне морская форма с золотым «крабом» на фуражке, кортик на боку, такой, как у Вальки Калача, свободского приблатнённого пацана из старших.
– Пошла.
– Кто? – насторожился я.
– Вода. Семь часов. Даванём клопа ещё с часок? Рано, куда переться? Понта [348]348
Понт – выгода, заинтересованность (воровская феня). Имеет иные смысловые значения.
[Закрыть]нет.
– Если хочешь – спи, а я покумекаю.
Генка притих. А меня заполнили мысли о будущем нашем житье-бытье. Дома, это очевидно, куда лучше, чем вот так, под баком. Но о возвращении не может быть и речи. Здесь я себя человеком чувствую. Не опасаюсь, что за какой-нибудь пустяк схлопочу затрещину или получу трёпку. Третьи сутки начались моей новой, вольной жизни. Ко мне возвращалось спокойное осознание собственной значимости и того, чем я занят. Я снова поверил в свои устремления, в их осуществление, в мечты, смелые, даже отчаянные.
В Ленинграде легче будет поступить в мореходное училище. Я тотчас увидел себя юнгой – сильным, стройным, с выправкой настоящего «морского волка», в бескозырке с якорными ленточками, в форменке, из-под которой видна тельняшка.
Мореходкой я заболел, когда в отпуск нынче приехал наш свободский парень по старой кличке Калач. Из шпаны, каким я его помнил, Валька за год превратился в благородного мушкетёра.
Он показывал нам настоящий кортик, чем вызвал безмерное уважение к себе, и кое у кого – зависть. Я сразу и страстно захотел стать моряком. Таким, как Валя. И сказал себе:
– Вот основная цель твоей жизни. Действуй!
Об этой своей задумке никому не проронил ни слова. Чтобы не насмехались. А то кое-кто наверняка и дразнить принялся бы:
Моряк – с печки бряк,
Растянулся, как червяк.
Так одного пушкинского [349]349
Проживал он на улице имени Пушкина.
[Закрыть]пацана из соседнего шестого класса доводили. Он проговорился, что поедет учиться на моряка в какой-то город со странным птичьим названием Соловки.
На переменах Юрку Костина [350]350
Впоследствии он добился своего, окончил мореходку и уехал из Челябинска на какое-то (не помню) море. Я ему долго завидовал.
[Закрыть]подначивали:
– Эй, моряк, ракушки с жопы соскреби!
Или ещё с какими-нибудь подобными шуточками приставали к Костину. А был он не из робких – не одному заводиле достойно отплатил за насмешки. Но в травлю включились старшеклассники, а с ними не так просто было посчитаться. Юрка зло огрызался, сопротивление его вызывало ответные нападки, ещё более беспощадные. Так вот, чтобы над моей мечтой не изгалялись, оставил её втайне.
Юрка же поступил в ДЮСШ в секцию бокса, вскоре получил третий разряд, несколько раз основательно поколотил тех, кто к нему приставал, и от него моментально отстали.
Я представил себя в бескозырке с золотой надписью «Юнга» возвратившимся на побывку в будущем году. Вот я захожу во двор. Навстречу мне по тропинке идёт Мила. Выражение нежного лица её совершенно ново. И смотрит на меня она иначе, чем раньше, после собрания, – с особой заинтересованностью и участием. И я говорю ей:
– Здравствуй, дорогая Мила. Я приехал к тебе. Чтобы повидаться и сказать об очень важном, о самом важном в моей жизни: я люблю…
Тут Стасик откуда ни возьмись возник, ластится ко мне, форменку трогает, на зеркальную бляху с якорем дышит. И мама: «Гоша, где ж ты был, сынок? Я тут без тебя совсем извелась». И папаша рядом с ней стоит, смотрит, молчит, курит беломорканалину. А я ему:
– Вот, отец, я стал взрослым. И ты меня уже не посмеешь тронуть. Я тебя не боюсь.
Генка завозился, толкает в бок:
– Кончай ночевать. Выпуливайся. Сматываемся, пока наверху взрослые не встали.
– А как они нас увидят? Ведь темно, как у негра в животе.
– У них свечки есть, фонарики. Они ж там в карты шпилят, пьют да с дешёвками шухарят – малина! [351]351
Малина – воровской притон (феня).
[Закрыть]
Но на баке не мерцал ни один огарок. Все, наверное, ещё почивали. Возможно, там и не было никого.
Выйдя на улицу, мы прикинули, куда навострить лыжи.
– Похряпать бы чего ни то, – мечтательно произнёс Гундосик. – А то кишка кишке протокол пишет… К тёте Доре – рано.
– Ген, знаешь, что, – озарило меня. – Бежим в военторговскоую столовку, на Карла Маркса. Рядом с улицей Кирова. Знаешь?
– Там же по талонам. Нас и в залу не пустют.
– На кухне пошныряем. Повар мне знакомый, фамилия – Капустин. Не то чтобы лично, а видел, он к Фридманам приходил. Тётя Бася ему галифе шила во с такими кармана́ми. Он – с усиками, и волосы на голове намазаны чем-то – блестят.
– Ну и што, што блестят? Так он и раздобрился… Разевай хлебальник ширши.
– Мы не за красивые глаза, а повкалываем на кухне. Дров нарубить или угля принести. В топке пошуровать, помои вытащить – мало ли чего. Короче: заработаем, не горюй.
Быстро дошагали до улицы имени Карла Маркса. В зал нас, как мы и предполагали, не пустили, и мы перемахнули через забор во двор с запертыми изнутри воротами.
– Вам чего тут надо? – заметил нас мой «знакомый» повар. – А ну, кыш, а то собаку из будки спущу.








