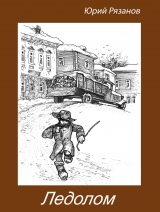
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 48 страниц)
– Короче, сразу же как нарисуется [364]364
Нарисоваться – явиться, заявиться, показаться кому-то (феня).
[Закрыть]– собирайте совет.
– Лады.
Неулыбчивость воспета, скучный, суровый тон его речи, какая-то вялость движений насторожили меня: ох и зануда, видать!
– Николай Демьяныч, – продолжил Шило. – Вот тут припёхали ребята из Челябы, просятся к нам. Работать и жить. На общих правах.
– Здорово! – поприветствовал нас воспет. – Лопать будете?
– Мы вообще-то… – начал было я.
– Как из пушки жрать хочем, – поспешно перебил меня Генка.
– Садитесь за стол. Сейчас завтракать будем. Или ужинать? Совсем время потерял. Кто дежурный?
– Я, – откликнулся одни из парней. – Сёдня картошка мятая без ничего и по неполной кружке молока. Хлеб – паёчный. Лепёшек не напекли – отруби кончились. В обед на болтушку остатки засыпали.
– Поделишь и на этих двоих. Осталось что-нибудь? Как вас по именам-то? По именам, не по кликухам.
Мы назвались.
Вблизи я разглядел: у Николая Демьяновича было бледно-бумажное лицо, будто он никогда не попадал под лучи солнца.
– Щас я сполоснусь малость, и начнём толковище за вас, – произнёс он хмуро.
– Чего он такой? – спросил я Шило, когда воспет вышел в умывальный отсек.
– Ухайдакался – чего. Две смены оттрубил. Вместе с нами вкалывает, наравне. Не смотри, что воспет. А сёдня ещё и за Струка…
– А где он живёт?
– Здесь, в бараке. В каптёрке. Он с нами в коммуне. В общий котёл свою зарплату бросает. Даже две. И лопает с нами. Такой воспет. Вы его по имени-отчеству называйте, поняли? Так положено.
Прошло несколько минут, Николай Демьянович вернулся, выглядя уже бодрее.
– Братва, – обратился он к коммунарам. – Забьём козла перед ужином? Сейчас сил нема. Пойду отсыпаться. Коля, будешь за меня. В случае чего – разбудишь. А ты рассказывай, мы слушаем.
Я застеснялся – столько глаз на меня уставилось, столько ушей оттопырилось, что ограничился несколькими словами, еле-еле произнеся их. Нехорошая привычка – робеть перед кем-то. Ну ладно – перед Милой, а тут-то такие же пацаны.
– Да ты не штопорись, – подбодрил меня воспет. – Здесь обо всех всё знают. У нас – коммуна.
– Я все рассказал, – пробормотал я.
– Родителей не жалко? – спросил воспет, не глядя на меня, чтобы, видимо, не смущать ещё больше.
– Жалко. Маму и братишку.
– А отца – нет?
– Пахан у него – пьянчуга, – ввернул Шило. – Запойный. Ханурик.
– Не ври, Коля, – вскипел я. – Никакой он не запойный. И не ханурик вовсе… Он под Сталинградом воевал. И Будапешт освобождал. У него медали есть. Боевые.
– Если у тебя такой хороший папочка, чего ж ты к нам прикостылял, домашний мальчик? – язвительно спросил меня какой-то парень с отсутствующими передними верхними зубами.
– Не при рогом, Карзубый, – одёрнул его Шило, – куда собака хуй не суёт.
– Шилов, – поправил Кольку воспет, – со словечками поаккуратней. Не то штрафные заработаешь.
– Я… я… – замялся я – комок подступил к горлу.
– Успокойся, – сказал мне примирительно Николай Демьянович. – Значит, дома тебе не светит? [365]365
Светит – в данном тексте – «ждёт удача» (уличный жаргон).
[Закрыть]
Я молчал. А во мне бушевала буря. Пот выступил на лбу. И весь я повлажнел – от волнения. Решалась моя судьба.
– Хочешь с нами жить и работать? – спросил воспитатель.
– Хочу, – моментально ответил я. – Без дураков.
– Сколько тебе стукнуло?
– Шестнадцать. Двадцать восьмого декабря будет.
– Ну, ну…
Больше всего в этот момент опасался, что воспет уличит меня во лжи. От этого переживания стало трудно дышать. Превозмогая себя, твёрдо сказал:
– Четырнадцать. Пятнадцатый в мае пошёл… Честно. – Поправился я, не желая лгать.
Генка ткнул меня в боку. Я оттолкнул его руку локтем и взглянул в глаза воспета – будь что будет!
– Учти – работа у нас в три смены. Нелёгкая. Короче, тяжёлая. Утомительная. И грязная. К тому же ответственная – трактора ремонтируем. И всякую другую сельхозтехнику. Живём по режиму. Потянешь? Не испугаешься? Силёнок хватит?
В голосе воспета я уловил что-то такое, что сразу сбросило с души моей давившую тяжесть. А моего признания он будто не расслышал. Или сделал вид, что не обратил на мои слова внимания.
– Не испугаюсь, – поспешил убедить я воспета. – Я выносливый. И к работе с детства приучен.
Но как-то не по себе мне стало от слова «режим». Не умею я безоговорочно действовать по чьёму-то приказу. Не могу безропотно подчиняться любым велениям старших. И сверстников. А теперь, хочешь не хочешь, придётся смириться. Хотя с детсадовских времён испытываю отвращение к этому слову – частенько же меня наказывали за «возмутительное» непослушание и «неположенные» увлечения – стоянием в углу, уверяя, что так будет всегда, если я не прекращу нарушать режим. Ну и далее.
– Нет, не испугаюсь, – повторил я уверенно. – Обещаю.
И подумал: лишь бы не домой. Лишь бы отец за спиной не стоял. Лишь бы не опасаться ежесекундно, что на загривок с размаху опустится его тяжёлый кулачище. Лучше уж режим. Да и презрение его постоянно скребёт. Я ему докажу, что никакой не балда, [366]366
Балда – одно из значений этого слова – «глупый, бестолковый человек». Специально заглянул в ушаковский довоенный словарь. И прочитанное меня ощутимо задело. Вот кем меня признаёт отец – полудурком.
[Закрыть]а нормальный человек.
– А что делать умеешь, Рязанов? – спросил воспет. – Конкретно.
– Всё умею.
Кое-кто из ребят заулыбался. Раздались реплики:
– Универсал.
– Слава универсалу – по хлебу и салу!
– Профессор! Кислых щей…
Воспет неодобрительно глянул на остряков-самоучек, и те умолкли.
– Так что ты умеешь?
– Воду носить, пол мыть, дрова пилить и колоть, печь топить…
– Этим ты займёшься после основной работы. У нас самообслуживание. Никогда не слесарил, не приходилось? На заводе или в мастерских не рабатывал?
– Нет. Плотнику помогал в КЭЧ. [367]367
КЭЧ УралВО – квартирно-экономическая часть Уральского военного округа.
[Закрыть]Старичку. Всё лето. Без прогулов.
– Так. Сначала на мойке потрудишься. А после посмотрим, куда тебя определить. Условия такие: весь заработок – в общий банк. Из него платим за доппродукты. По заявлениям, устным, деньги выдаём на что-то нужное. Для покупки барахла и прочего. Годится? Если на твоём счёте накопится кое-что.
Я согласно кивнул – горло от волнения перехватило.
– Всем заправляет совет – пятёрка. Выборная. А всего нас тридцать один гаврик. Ты – тридцать второй. Коммунары! Примем Геру Рязанова в свою семью? Кто – «за»?
– Вообще-то в метрике я записан Юрием.
Против оказался один – Карзубый.
– Доказательства? – потребовал Шило, председательствующий на собрании.
– Чухнёт он от нас – домашняк. Нежного воспитания. Такие сразу сопли распускают, – резко высказался Карзубый.
– Ручаюсь за него, – заявил Шило. – Я этого пацана лично знаю. Добрый хлопец. В блудягу не заведёт. Надёжный.
– Если подписываешься – другое толковище, – сдался Карзубый. – А я остаюсь при своём мнении.
Как мне сразу полегчало, когда воспет произнёс:
– Принят.
И тут Генка, ёрзавший рядом со мной, как на гвозде, выкрикнул:
– А я – тридцать третий! Я тоже всё умею. И на мойку согласный. Хоть посуду, хоть што…
– Кружки от пива ополаскивать, – съязвил Карзубый.
– А с пряников пыль сдувать умеешь? С кондитерской фабрики заявка поступила, – схохмил другой коммунар.
– Братва, имейте совесть, – урезонил ребят воспет и внимательно, даже пристально всмотрелся в Гундосика. И глаза у него стали такими, словно испытывал боль, которую терпел и скрывал. Такие глаза у мамы бывали, когда что-то очень неприятное обрушивалось на нашу семью.
– Тебе сколько? – спросил он тихо.
– Пятнадцать, – выпалил Генка. – Шишнацатый.
– Эх, – выдохнул Николай Демьянович. – Не надо, Гена, слона в спичешный коробок заталкивать. Десять лет тебе.
– Всё равно примайте в коммуну, – отчаянно потребовал Гундосик. – Не раскаитесь – я тожа сильный.
– У тебя и шея, как у быка, – опять подначил бедного Генку Карзубый. – …Хвост. Гы-гы…
– Он ловкий, – вступился я за друга. – Примите его… пожалуйста.
Последнее слово прозвучало в компании, окружавшей нас, нелепо.
Лицо воспета со следами старых шрамов перекосилось, как от занывшего дуплистого коренного зуба.
– Эх, Гена, да разве я против тебя. Всех бы вас, таких бедолаг, возле себя собрал, да не имею права. Меня за тебя по головке не погладят. Пустят в тасовку. [368]368
Тасовка – картёжный термин, но в данном случае – «по начальству затаскают с вопросами, допросами и обвинениями» (феня).
[Закрыть]Не оправдаешься.
– Ну, не откажите, – взмолился Генка. – Не откажите сироте, пожалста…
Интонация, с какой Гундосик произнёс свою просьбу, очень походила на ту, когда он попрошайничал.
– Не могу, – выдохнул воспет. – Братва не даст добро. Не могу. Малолетка ты.
И тут случилось непредсказуемое. Гундосик завопил – дико, изо всех сил. Он повалился со скамьи на пол, уронив ворохом рассыпавшуюся книгу, которую держал за пазухой, и стал кататься, рыдая и что-то выкрикивая. К нему бросились ребята. Я бухнулся рядом. А он вырывался и даже кусался. Я мельком, случайно взглянул на воспета. Лицо его побелело ещё больше. В глазах, похоже, светились слёзы.
Он встал из-за стола, сказав никому и всем:
– Успокойте его…
И вышел из половины жилища, которое обитатели барака называли халабудой. [369]369
Халабуда – передняя часть общего барака без спальных мест. В ней могут размещаться столы, скамьи. Слово имеет оттенок пренебрежения.
[Закрыть]
Дежурный уже расставил алюминиевые миски с картофельным пюре, разложил ложки из того же металла, и многие сели за стол, приступили к еде, не обращая ни на кого внимания.
– Не хочу! Не хочу! – орал Генка. – Не хочу домой! У меня нету никакова дома! А-а-а!
– Генк! – потянул я его за рукав. – Ты чего? Что с тобой?
Но он не слышал меня, сотрясаемый горем – огромным горем, которое, казалось, давило и корёжило его.
Шило подхватил Гундосика под мышки, поднял и усадил на скамью, причём оголился живот сопротивлявшегося Генки с крупным пупом. Какой-то коммунар возрадовался этому зрелищу и засмеялся.
Гундосик сидел, поникший на скамье, закрыв лицо цыпочными [370]370
Цыпки – мелкие трещины, шершавость и краснота на коже рук, возникающие от нечистоплотности (разговорная речь).
[Закрыть]ладонями, и рыдал. А позади нас развесёлой песней надрывалось радио, словно пытаясь заглушить истерические Генкины вопли.
– Почему я такой нещасный уродился! – гугнил он, захлёбываясь. – В колонию не содют – лет мало, в детдом не берут – мать есть. Э-а!!! Штоб она подохла, маманя моя! Отцу хорошо, он копыта отбросил… А меня, как собаку, бросил…
«Легко на сердце от песни весёлой! – назойливо верещал репродуктор. – Оно скучать не даёт никогда…»
И, уже обессиленный рыданиями, он проговорил:
– Не хочу к мамане с еёными ёбарями. Не хочу под кроватью на полу валяться! Они меня изнасильничают! Как Боба… Не хо-чу! Я лучче под паровоз брошусь. Как Моня.
Так вот почему Генка не желает возвращаться к себе домой – боится. И это небезосновательно. Подонки – собутыльники тёти Паши – способны на любую мерзость, любое преступление! Бедный Вовка! Он даже не осознаёт, что с ним совершили.
Я обнял Генку, но он отталкивал меня. Тогда я принялся подбирать листки книги, часть которых уже ходила по рукам коммунаров, – они жадно разглядывали иллюстрации.
…После оформления привода в отделение милиции мы решили, что нам ничего не остаётся, как вернуться в баню, под бак, выспаться и уже днём попытаться добраться до заводской общаги. Так мы и поступили.
Генка вытащил из заначки [371]371
Заначка – тайник. Заначить – запрятать (феня).
[Закрыть]все свои сокровища: книгу, фантики и другие драгоценности. Мы благополучно выбрались на свежий воздух и направились, минуя улицу Свободы, на озеро Смолино – я настоял.
И вот мы здесь в общежитии. Ждём решения Генкиной судьбы. Окончательного.
Вернулся Николай Демьянович.
– Успокойся, – сказал он Генке доброжелательно. – Я за тебя, Гена Сапожков, скажу слово в детдоме. Может, и примут. Как исключение.
– Да, возьмут, как жа, – всхлипывал Гундосик, – держи карман шире… Мне сказала тётка из райно, что сирот много, а у меня… А-а-а… – И он снова завыл. Никак не может успокоиться. Разбередили пацана, за живое задели.
– Да, ты не сирота. Ты несчастнее, чем сирота, – сказала Николай Демьянович. Мы тебе постараемся помочь, Ген. Писать умеешь?
– Умею. Я грамотный. Сам научился. Шекспира читаю.
Генка ожил и завертелся, озираясь по сторонам в поиске тома. Я протянул ему книгу.
– Вот, – показал её воспету владелец раритета.
– Хрен с ним, с Шекспиром, – сказал Николай Демьянович. – Напиши все свои данные: родился, крестился и прочее. Как звать родителей. Где работают.
– Нигде не работали! – закричал Гундосик зло. – Всю-ю жись на дармовом!
– Так о себе и пиши, дошло? Без закидонов. Я с той бумагой в детдом поеду, а потребуется – и в районо, гороно… Пока не вышибу. А ты у нас поживёшь. Помогать будешь.
Генка прекратил метаться и суетиться и лишь икал беспрестанно. От растерзавшей его дикой истерики. От предельного отчаянья. Такого психоза я ещё никогда не видел. И о несчастьи Боба тоже ничего не слыхивал.
– Есь ручка и чернила? – заспешил Генка, вероятно, опасаясь, что коммунары могут передумать. – Но у меня лучше получатса карандашом.
– Сейчас – завтракать. А то всё остыло.
Генка утёр слёзы рукавами своего немыслимого лапсердака и схватил ложку. Ему подтолкнули миску, поставили кружку, маленький ломтик чёрного хлеба положили.
– У нас три двадцать есть. Кому отдать? Мы их чесно заработали. В утильсырье, – обратился он к Николаю Демьяновичу. – У дяди Лёвы. Гадом буду, не чешу. Можете у Ризана спросить. Он подтвердит. Чесно.
– После. Ешь, – приказал воспет. – Дядя Лёва какой-то… На хрен он нам сдался. Своих забот хватает. Обойдёмся.
Мы принялись за ужин. Генка все ещё икал и не всегда попадал ложкой в рот, звякал ею по зубам.
За столом почти никто не разговаривал. Лишь мой сосед пробурчал:
– У меня нашлись бы отец или мать да дом родной – от радости обхезался [372]372
Обхезаться – обделаться по-большому (феня).
[Закрыть]бы…
Но его никто не поддержал. А я вспомнил распахнутый дверной проём квартиры Сапожковых и неряшливую широченную кровать, на которой спал злобно зыркавший на нас Шарик, и подумал:
«Чему бы ты обрадовался в их квартире?»
После ужина мы с повеселевшим Генкой помылись в общем умывальнике, одежду свою прожарили в большой духовке и приволокли из каптёрки воспета матрац, ватную подушку, две простыни и одеяло. И завалились спать. Валетом. [373]373
Спать (лежать) валетом – расположиться один – в одну, другой – в другую сторону, повернувшись друг к другу спинами.
[Закрыть]
Несмотря на гнетущую усталость – к гудящим рукам и ногам будто по тяжёлой гире привязали, – я не смог сразу заснуть. Рядом, на ближайшем месте соседней двухъярусной деревянной вагонки, которую он назвал шконкой, расположился Карзубый. Его враждебность я чувствовал даже на расстоянии. Но не это беспокоило меня: я старался представить нашу с Генкой будущую жизнь в коммуне. Надо постараться наладить со всеми нормальные отношения и исполнять обязательный режим. Честно.
Радио тут, вероятно, никогда не выключалось, и я невольно слушал с грустью знакомую, уже наизусть запомнившуюся песнь о соловьях, не дающих солдатам отдохнуть. Она-то и связала меня с домом – сейчас её слушают и там… Вся семья в сборе. Кроме меня.
И надо же такому произойти: зазвучала прекрасная мелодия, посетившая меня в то далёкое летнее солнечное утро, когда я проснулся в сарайке и понял, что волшебная музыка вовсе не чудится мне, а струится из круглой эбонитовой коробочки наушника, лежащего возле моей подушки-мешочка, набитого высушенной огородной травой.
Мелодия была та же, но без голоса певицы. Сердце моё сладко зашлось. Я опять, как тогда, летом, замер, пока последний звук не перекрыли барачные шумы. Голос диктора произнёс: «Мы передавали музыку Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт». Я сразу и навсегда запомнил название произведения – ведь мне так хотелось слушать ту музыку ещё и ещё, пока не наступит полное насыщение.
Только что услышанное, когда я закрыл глаза, подсветило как бы изнутри воссозданное памятью лицо Милы. С ней, с Милой, мне стало спокойно, и я как бы растворился в забытьи.
Во сне Генка крутился, брыкался, что-то возбуждённо бормотал и выкрикивал, несколько раз будил меня.
Вечером, умывшись и подкрепившись варёной картошкой и молоком, я отправился с гурьбой ребят на завод.
«Какие же они все чумазые», – подумал я, встретившись в раздевалке с коммунарами, которых мы пришли сменить.
Мне дали промасленную насквозь чью-то спецовку, показали большущее корыто с керосином, в котором отмокали детали тракторов, подлежащие ремонту.
Работа оказалась несложной – отскабливать от грязи разные шестерёнки, тяги и валы, отмывать их тряпкой дочиста, протирать ветошью насухо.
В обеденный перерыв в цех, закопчённый, холодный, продуваемый сквозняками, к тому же темноватый, пробрался Генка и яростно взялся мне помогать. Николай Демьянович, углядев его, выпроводил добровольца из цеха.
– Ништяк, – заверил я друга, встревоженного таким с ним обращением. – Всё будет хорошо. Нутром чую.
Но взвинченный Генка ещё несколько раз заглядывал в цех и лишь к ночи убрался в общежитие, пообещав: если пацаны не гайнут его и он не рванёт тогда к тёте Доре, то будет меня ждать на месте. Кроме тёти Доры не оказалось никого, где бы Гундосик мог спастись.
Дома меня, уверен, ждут. Мама, наверное, плачет. Сердце у меня сдавило жалостью, когда представил эту сцену.
Сегодня же напишу на Свободу письмо. Обо всём. Чтобы мама не переживала. И надо узнать у Николая Демьяновича, могу ли я в ближайший выходной сбегать в город – повидаться со Стасиком и друзьями. И с ней. Если повезёт. Хотя бы издалека. Шило, по крайней мере, приезжал по воскресеньям к Игорёшке Кульше. У него-то мы и познакомились, как упомянуто выше. Разумеется, ученические деньги – мизер. Но я и их не получал. Завод-то – на хозрасчёте.
Какое это прекрасное, блаженное чувство – осознавать себя свободным и равноправным, самостоятельно зарабатывающим на жизнь! Отец уже не упрекнёт: «издивенец!» И посему – бесправный, существующий лишь по его милости. А деньги, когда я работал учеником плотника в КЭЧ, получал исправно. Даже меня не оповестив. Добро, если б отдавал их матери. Или мне что-нибудь из самого необходимого купил. Я даже не знал, какой у меня зароботок.
Бултыхаясь в ванне с грязным керосином, я вовсе не испытывал отвращения или стыда, что занят столь «чёрной» работой, и усердно очищал одну железяку за другой. Иногда – тяжёлые и неудобные. Пыхтел, стараясь выполнить задание как можно тщательнее.
К концу смены изрядно утомился. Это была приятная усталость. Извазгался, [374]374
Извазгаться – испачкаться (местное слово).
[Закрыть]разумеется, весь – с головы до ног. Зато на верстаке высилась гора подготовленных мною деталей. И во мне проклюнулась гордость – добросовестно отработал первый заводской день, никого не подвёл, справился с заданием. Самостоятельно!
В табеле напротив моей фамилии Николай Демьянович вывел крупную восьмерку. [375]375
Несовершеннолетние в те годы трудились лишь по восемь часов в рабочие сутки.
[Закрыть]И впервые улыбнулся. Мне. Как равному.
Это была победа. Я могу работать не хуже, чем коммунары. Теперь, наверное, меня уже не посчитают чужаком. Но торжествовать пришлось недолго.
Во время первой побывки чуть не со слезами – такое испытание вынести нелегко – пришлось убеждать маму, где и чем занимаюсь.
В следующее воскресенье она вместе со Стасиком (отец не пожелал участвовать в этой, как он выразился, «катавасии» [376]376
В его понимании – суматоха, пустое, бестолковое времяпрепровождение, на церковном языке – молитвенное песнопение.
[Закрыть]) пришла на завод – в мастерские. И с ними Игорёшка – к брату.
Встреча с мамой была для меня полной неожиданностью. И ещё, признаюсь, неприятной.
– Здравствуй, мама, – сказал я достаточно бодро при встрече. – Но домой я не вернусь. Об этом и разговора не заводи.
– Почему, Гера? – глотая слёзы, спросила меня она.
– Потому что вы с отцом плохо ко мне относитесь. Я вам не нужен. Особенно отцу. Не маленький, понимаю, почему вымещаете на мне свои неприятности. А здесь мне хорошо. Меня здесь за человека признают. А не балдой.
– Гера, ты неправильно нас понимаешь. Мы желаем тебе добра. Хотим, чтобы ты вырос порядочным человеком. Заботимся о тебе. И о брате твоём. Хотим, чтобы вы стали образованными людьми. Культурными. Как настоящие люди.
Слёзы струйками стекали по её смуглым щекам.
– Неужели тебя не трогает, что я твоя мать и из сил выбиваюсь ради вас? А ты бросил нас.
Беседа происходила в присутствии Николая Демьяновича, остальным коммунарам он приказал выйти из помещения, которое почему-то все называли не комнатой, а бытовкой.
Пуще всего я опасался, что мама начнёт обвинять Николая Демьяновича и требовать моего возвращения домой. Но этого, к счастью, не произошло. У неё хватило здравого ума и выдержки.
К матери я испытывал такую щемящую, острую жалость, что мог разрыдаться. Как в детстве. Когда меня на весь день оставляли запертым на ключ в комнате. Но выдержал.
– Гера, умоляю [377]377
Слово, которое я слышал от неё единственный раз в жизни.
[Закрыть]тебя, вернись… Что тебе ещё нужно?
– Это невозможно, мама. Тебе этого не понять. Чтобы я жил дома как дома, а не как в казарме для экзекуций.
– Ну хорошо, хорошо, пусть будет так. По-твоему. Только идём домой. Не мучай меня. Ты знаешь, как мне нелегко живётся. И ты своими выходками…
– Это не выходка. Я работаю на производстве вместе с такими же…
Стасик и Игорёшка во время нашего разговора, как в рот воды набрали, лишь смотрели на меня. Молчал и Николай Демьянович, нахмурившись. Я ожидал, вдруг он заявит: «Идите и разбирайтесь у себя дома».
Я обратился к нему:
– А Вы отпустите меня или нет? Я хочу остаться у Вас. Вы ко мне добрее отнеслись, чем родной отец. И я Вам благодарен.
Когда я произнёс последние слова, мама заплакала навзрыд. Да и у меня ком стоял в горле.
– Я не имею никаких юридических прав удерживать тебя, Гера.
Герой он меня назвал впервые, раньше окликал по фамилии.
– Спасибо Вам за всё, Николай Демьянович. Я остаюсь с Вами. Со всеми.
– Только сейчас в своё переоденусь, – предупредил маму и пошёл в раздевалку, где в отведённом мне ящике висела домашняя одежда.
– Ну, чо? – спросил меня Струк, встретившись в коридоре.
– Ничо, – ответил я коротко.
– Линяешь, домашняк? – задал он ехидный вопрос.
Я промолчал.
Через несколько минут я вернулся в бытовку. Мама сидела на табурете, охватив лицо морщинистыми, натруженными ладонями.
– Я готов, – сказал я.
Мама встала, покачнулась, но её подхватил Стасик.
– Спасибо Вам за всё, – повторила она мою фразу, обращаясь к воспету.
– Всего Вам доброго, – произнёс Николай Демьянович. – Живите дружно.
Выйдя из барака, сказал маме:
– Я вас провожу до развилки. Мне сегодня во вторую.
– А как же? Ты же согласился?
– Нет, мама. Ты не сейчас, но после поймёшь: мне с отцом не ужиться. А вас буду проведывать по воскресениям. И может быть, иногда в субботу. Жить и работать буду здесь, на Смолино. После в армию пойду служить. А потом – видно будет. Так что, до свидания. И не беспокойся – со мной всё будет в порядке.
Мама, с её проницательностью, поняла, что я не уступлю.
– Угощение, Юра, возьми. Я тебе напекла. Не забывай нас.
– Спасибо! До свидания. Прости за всё, что тебе причинил. И будьте здоровы. Обо мне не беспокойтесь. Со мной всё в порядке, – повторил я.
Повернулся и пошагал к бараку. Хотя мне очень хотелось догнать маму со Славиком, обнять их и продолжить путь вместе, до самой Свободы.
Но увидел барак. Возле него стояла одинокая фигурка Гены. Он наблюдал за нами.
И меня пронзила мысль: куда же он без меня, мой Гундосик?
1974 год
P.S. Меня при переиздании книг долго мучила нерешимость: восстановить подлинные отчества Вовки и Генки Сапожковых – некоторые читатели могли подумать, что это моя выдумка, насмешка, – ведь по паспорту отец их числился Ильёй. Спьяну и первенцу дал имя – мода! Поскольку я изменил фамилию этой несчтастной семьи, то и Сапожкова-старшего решил назвать Иваном. Естественно, пришлось опустить все шутки, насмешки, издёвки, которыми щедро осыпала беднягу Вовку уличная шпана вроде Юрицы, Альки, Тольки Мироеда и других, кому поизмываться над беззащитным доставляло истинное наслаждение. Поначалу мне думалось, что они зло хулиганят, но со временем, кажется, понял: своё ничтожество, бездуховность уличные паханы и паханчики пытались подменить насилием над другими, жестокостю, запугиванием. То же, к сожалению, мне пришлось наблюдать и испытать на себе от советской, так называемой воспитательной, а на самом деле – жесточайшей репрессионной, системы, результатом которой стал невиданный за всю историю человечества геноцид народов России.
2009 год
Слабость девушки
Я лежу и любуюсь тобою
И смотрю на тебя, как дитя,
Что лежишь на постели со мною
И так жалко глядишь на меня.
Ты доверилась мне, как голубка,
Положила головку на грудь,
Твоя белая тонкая юбка
Не даёт мне спокойно уснуть.
Умоляя тебя и лаская,
На грудь свою голову клал,
И, дрожащей рукою балуя,
Твою женскую грудь я сжимал.
От пышных грудей незаметно
Вниз по телу скользнула рука,
И до приметы тайной завета
Я коснулся рукою слегка.
Ты лежала и больше не билась
И раздвинула ноги сама.
И в эту ближайшую минуту
Мы лежали с тобой без ума.








