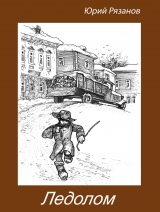
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 48 страниц)
Повернулся и прижался спиной к дырчатой стене между двумя крепышами. Машинально застегнул пуговицы на бушлате. Усталость такая, что почти ничего не соображаю, кроме одного: сейчас начнётся расправа. И в это мгновение на меня навалилась тоска, тяжелая, всеохватывающая и всепроникающая. Ещё одна мысль запульсировала в мозгу, вялая такая мысль: что делать, чтобы защититься? Уже громыхнул засов, и вот тут началось такое, от чего у меня при воспоминаниях мурашки по спине бегают… До сих пор. [548]548
Правка 2008 года.
[Закрыть]
– Пойдёшь в сознанку или будешь нам мо́зги ебать, – зло задал (вторично!) вопрос один из четырёх «сокамерников».
Я, заикаясь, почему-то пролепетал:
– Я следователю рассказал всё, что знаю…
Не дослушав фразу, опять получил такой мощности удар в живот, что сполз на пол, цепляясь сукном бушлата за выпуклости проколов в стене. Всё повторяется, как в кошмарном сне. Машинально закрыв лицо кистями рук и зажмурив глаза, я ощущал сотрясающие всего меня удары сапожищами в плечи, руки, грудь, бёдра… Чей-то сапог угодил мне в голову, шапка отлетела куда-то в сторону, и сокрушительный удар разбил нос. Кровь хлынула из него. Когда я оказался на полу, скрючившись от боли, то пытался выкрикнуть что-то, вероятно, просил прекратить избиение, но очередные тумаки не давали мне вымолвить и слова. Перед глазами, словно дьявольское видение, двигались огромные носки сапог. Они сокрушали со всех сторон моё тело, и оно скользило по отполированному квадрату металла, разворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Наконец чей-то сапог с размаху, мягко, почти безболезненно задел мою скулу, и разноцветные звёзды и белые искры заполнили мои глаза, а во рту стало со́лоно. Оказавшись лежащим на спине, я захлёбывался соплями и кровью и судорожно закашлялся.
Сквозь сопение и уханья «футболистов» до меня донёсся голос, кажется сержанта.
– Не бей, сука, сапогой в морду! Меси по почкам иво, по печенкам, штобы кровью ссал! Морду не трожь! По новой хошь разборку, как с тем щипачём?
Кровавая лужа, ставшая видимой «блюстителям закона», потому что я размазал её, развазюкал, вертясь под «пенальти» заплечных дел мастеров, прекратила их служебное занятие. Один из сотрудников схватил меня за воротник бушлата и рывком поднял и посадил на пол. Во силища! Воротник пережал горло, и я увидел, как из моего рта вздуваются и лопаются красные пузыри!
– Што с ним? – спросил сержант, а возможно и не он, – я не очень соображал в тот момент, а все палачи выглядели одинаково.
– А хрен его знаит! Пузури пускат. Восьмирит [549]549
Восьмерить – хитрить, изворачиваться; восмерила – притворщик, симулянт (воровская феня).
[Закрыть]наверняк, – ответил один их моих «опекунов» молодым голосом.
– Кончай придуриваться! Ты!
Это приказание мне.
Я опёрся ладонями об пол и увидел, хотя в боксе стоял сумрак, как струйкой, тонкой такой струйкой, струится на пол и на рукав бушлата тёмная кровь, и в тот же момент почувствовал острую боль в левом плече. Где ключица.
Я хотел сказать, что не придуриваюсь, но лишь простонал от боли и пробормотал что-то нечленораздельное.
– Поднимите иво, – приказал сержант.
Меня подхватило несколько цепких и крепких ручищ. Поставили на ноги.
– Рука… – пробормотал я.
– Тащити иво в сартир, пущай обмоетца. Так эта ты опять захерачил? – обратился он к одному из своих «коллег». Тот промолчал. – Могут не принять такова расписнова. Я тебя, блядину, предупреждал, ты што делашь? А ежли он дубаря даст? [550]550
Дубаря (дуба) дать – умереть (дубак – покойник, мертвец) (феня).
[Закрыть]Я тебя суду первого сдам, понял? У ево жа отец с матерью есть, они жа хай подымут. Я жа говарил: не бей, сука, в морду сапогой! А ты всё наравишь…
Кровь из носа продолжала сочиться и оставляла крупные капли на полу. Меня начало трясти. От холода, что ли. Но милиционеры, одетые в синие рубашки, никакой тряски не испытвали. Я же в бушлате…
Я почувствовал вдруг, что обмочился. Позор! Как малыш! Из яслей. Это случилось, вероятно, во время «тусовки».
В умывальнике мне пришлось правой рукой долго смывать кровь, которая не прекращала капать (но уже не с такой интенсивностью, как ранее) на бушлат и сапоги.
– Иди, скажи лейтенанту (они упорно не называли друг друга по фамилиям или именам): задержанный не могёт участвовать в допросе.
Мне думается, он дал указание тому коллеге, что расквасил мне нос. Пусть, дескать, сам за свою лихость отвечает.
Без разрешения я снял с себя сапоги, размотал мокрые портянки, освободился от галифе и даже трусов и промыл их под грязным, заплёванным и захарканным умывальником, превозмогая острую боль в плече.
– Мне нужен мой носовой платок, иначе я истеку кровью, – сказал я, стоя возле туалета, милиционеру, держащему ведро с половой тряпкой.
– И хуй с тобой! Одним вором будет меньши, – зло ответил он.
– Я не вор, – парировал я.
– Все вы в несознанку [551]551
Несознанка – запирательство (феня).
[Закрыть]идёте, пока вас ни проучишь…арировалате…етые в синие рубашки, никакой тряски не испытвали. и упражнялись на мне, как на футбольном мяче – ногами.
– Следователь требует подозреваемого к себе, – объявил вернувшийся из кабинета сержант. Это он объявил тому, кто стоял с ведром и тряпкой. – И принеси ему платок.
Я принялся сплёвывать солонь, сочившуюся в горло, когда голову откинешь назад.
– Канчай! Баню тут устроил! А за тобой сопли собирай. Морду утри, к следователю идёшь.
– Не я себя избил.
– Поговори ещё, мы тебе такую вторую серию «Багдадскава вора» покажем, всю жись кашлять будешь, пока на нарах не подохнешь.
Я замолчал. Платок мне возвратили, и я тут же зажал им ноздри.
Сержант вручил мне половую тряпку и приказал:
– С одежды всё харашо вытрать нада. Понял? Давый шуруй. И с сапогов.
Левой, болящей, рукой я зажал нос, а правой «вытрал» бушлат и сапоги. И подумал: «Судя по выговору и поведению, этот верзила, да и остальные, – деревенские мужики. Может быть, из Колупаевки хулиганы. Только в милицейской форме. Да и по фене со мной «ботают». [552]552
Ботать – изъясняться на блатном жаргоне – фене.
[Закрыть]За такого же принимают».
Когда обтирал сапоги, из носа опять сквозь платок просочилась кровь. Пришлось закинуть голову назад и сглатывать со́лонь, и в таком положении, превозмогая боль во всём теле, проследовать по коридору и предстать пред ясные очи следователя.
– В сортире подскользнулся и нос разбил, – пояснил конвоир.
Я смолчал.
– Ну как, Рязанов, не мокро в штанах? – поинтересовался следователь, вероятно оповещённый о случившемся кем-то из подчинённых.
«Ещё и издевается, скотина. Всё знает», – подумал я.
За меня ответил конвоир:
– Да не. Дома поссал и похезал. Сыскник доложил. Мокрый от умывания. На себя налил воды – жарко.
– Вот что значит забота о человеке, – ухмыльнулся следователь. – Теперь всё призна́ешь?
И он положил передо мной исписанные листки и какие-то старые папки-скоросшиватели. Некоторые листи показались мне знакомыми, где-то я уже их видел…
– Тебе и не надо ничего читать. Расписывайся там, где стоит «птичка». Подпишешь и отдыхать пойдёшь. Спокойно.
Я почувствовал, что наступает утро. Шторы на окнах посветлели, и сквозь ткань вырисовывались решётки.
– Я не подпишу, – заупрямился я, хотя осознавал, что делать этого не следует, – мне же хуже будет. Ещё хуже, чем сейчас.
Следователь долго, оценивающе разглядывал меня. Соображал. После произнёс:
– Сержант. Уведите его. Он ничего не понял.
Меня взяли за предплечья двое милиционеров. Приподняли. Стало больно. Во всём теле. Не осталось места, которое не источало бы нестерпимую боль, пронзающую весь организм. Но больше всего донимала по-прежнему левая ключица. Что они с ней сделали?
Проведя сквозь дверной проём, сопровождающие (неумышленно) задели меня своими телами, и я ойкнул – потом кольнуло под левой ключицей. Тут же раздался голос сержанта:
– Чево охаешь, как ризанская баба?!
И следователю:
– Ён восьмирит, товарищ лейтенант. Хотит нас обхитрить.
– Шагай нормально, чево, как беременна корова, ноги переставляшь? – поднукнул меня один из сопровождавших.
Я и в самом деле еле передвигал ноги. От побоев, наверное.
Когда отворяли дверь в бокс, во мне всё сжалось, будто от резко обострившейся боли и … страха!
Меня пинком, как уличный тряпочный футбольный мяч, запнули в камеру. Я не удержался на ногах и упал на снова блестящий, протёртый, с розовым оттенком, пол и помимо своей воли прокричал (мне показалось, что я кричу):
– Не надо! Я всё подпишу!
– Чо ты нам мо́зги ебал всю ночь? Подпишу – не подпишу! Коль щас ни подпишешь, мы из тебя каклету сделам! Дошло? Больши нянькатся с тобой не будим!
– Подпишу, – повторил я, еле слыша свой голос.
– Чо ты тама пиздишь? – уточнил сержант.
– Подпишу, – опять повторил я, и тоже не очень громко – во рту пересохло, язык не ворочался.
– Щас доложу, – оповестил напарников сержант.
Он моментально вернулся, бегом наверное, смотался туда-сюда.
– Волокити ево, – распорядился сержант.
– Встать! – скомандовал милиционер с физиономией, которую я совершенно не запомнил, – белое пятно. И пнул меня в подошву обувки. Я ойкнул. На носке его сапога запеклись мои сопли и кровь. Ещё с прошлой «тусовки». Не успел отмыть.
– Чево ты орёшь, мрась воровская! Моя воля, я бы тебя своими руками задушил, гавна кусок!
Я стал ворочаться на полу, чтобы выбрать не столь болезненную позу и подняться. Но мне это не удавалось. А в ушах звучали его слова. Вот что для них представляет человек! Кусок этого самого. Надо немедленно подписывать, пока рёбра или что ещё не поломали. Или не убили совсем.
Вероятно, в те минуты я представлял жалкое зрелище. Сержант, наблюдавший за моими тщетными потугами, догадался, в каком состоянии я нахожусь.
– Короче! Бирите ево – и в кабинет. Хватит! Мы ево хорошо уделали. Всю жись будет помнить. [553]553
А вот в этом мой мучитель не ошибся. (2008 год.)
[Закрыть]
И правда, всё, что сотворили со мной эти, не знаю, как их назвать, существа, что ли, в тюрьме (там я опять попал в руки палачей), помнил. В концлагере в первый год или больше я не мог трудиться на общих работах – медики признали меня годным лишь для «лёгкой» работы и определили в общагу – дневальным. Опытным, видать, палачам попался в лапы.
…И вот я опять в кабинете следователя.
Прошлый раз, когда меня подняли со стула, на дерматиновом его сидении коричневого цвета ясно отпечатались мокрые полукружия моих ягодиц. Сейчас оно было защищено газетой, свёрнутой пополам. Придерживаясь за спинку стула, я, сморщась (этого, наверное, не видел следователь) от боли, примостился на краешке его, чтобы уменьшить площадь соприкосновения с телом.
Стоять рядом со столом мне казалось легче, но, как распишешься в таком положении? Пришлось сесть.
– Всё осознал, Рязанов? – спросил меня следователь.
– Да, – сиплым голосом ответил я.
– Напрасно ты упрямился (опять разговор как между старыми знакомыми). Мы не таких, как ты, ухарей ломали.
– Я не ухарь. Я работяга. Слесарь. И ничего не крал. Никогда и ни у кого. Никогда, – просипел я.
– Подписывать будешь? – настороженно спросил «старый знакомый». Вероятно, он подумал, что я пытаюсь опять отказаться.
– Буду. Иначе вы угробите меня.
– Разве я лично хоть пальцем тронул Вас? – опять перешел он на «вы».
– Эту зверскую расправу они творят по Вашему приказанию. И когда я выйду на свободу, то обжалую действия Ваших подчиненных. И Ваши – тоже.
– А ты в ближайшие двадцать лет, или вообще никогда, не выйдешь на свободу. Поверь мне, я об этом лично позабочусь. Подписывай.
Я расписался там, где красовалась «птичка».
Следователь моментально выхватил лист из-под руки.
– Но я не поставил дату. Сегодня какое число?
– Дату мы поставим сами. Даты нигде не ставьте.
– Почему?
– Вопросы здесь задаю я. И только я.
Следователь подсунул мне раскрытую пыльную папку.
– А могу я прочесть, за что расписываюсь, что подтверждаю?
– Совсем не обязательно. За кражи, грабежи, которые ваша преступная группа совершила.
– А Вам не кажется, что на суде выяснится правда?
Допрашивающий словно безразлично промолчал – ни о чём разговор.
После подписи второго «дела» (я успел разобрать это слово на папке) следователь внимательно разглядывал что-то на выхваченном у меня листе и после сказал:
– Ты неграмотный, или нарочно? По документам у тебя неполные шесть классов средней школы. Что ж ты мне голову морочишь? Рисуешь какие-то загогулины, как курица лапой?
– Меня всего трясёт. Разве Вы этого не видите? Вот как я могу писать? Дайте лист бумаги.
Он вынул из ящика лист, и я сверху несколько раз повторил свой автограф.
Следователь долго сверял начертанное мною на верху листа и подпись на документе.
– Подписывайте, как можете. В случае чего графическая экспертиза подтвердит. Если откажетесь.
В это мгновение, когда я занёс ручку, чтобы «подтвердить» третье или четвёртое «уголовное дело», неожиданно на лист шлёпнулась крупная алая клякса. Я бросил ручку и зажал нос платком, который держал в левой руке, и откинул голову на спинку стула. Скосив глаза, мне стало видно, как следователь, выхватив из кармана брюк платок, осторожно промокал, прикладывал его к тому месту, где произошло это независящее от меня событие. Хозяин папки придвинул её ближе к краю, достал из того же кармана связку ключей и одним из них быстро открыл двухэтажный сейф, вынул из него графин с водой, что меня удивило, чистую тряпочку, полил её из графина, отжал и стал промокать злополучное пятно.
Все эти действия совершались молча.
– Уведите подозреваемого, – приказал следователь недовольным голосом. – И прекратите обработку.
– Встать! – послышался за спиной знакомый голос одного из милиционеров.
Покорячившись и оставив на чистенькой столешнице дактилоскопические кровавые отпечатки, с невероятным усилием принял вертикальное положение. И подумал: «Я предатель».
– На сегодня – всё. Зайди ко мне, сержант, – предупредил моего «ангела-хранителя» следователь. Когда я встал, газета, прилипшая к галифе, упала на пол при первом шаге. Это была «Правда».
Следователь неожиданно шустро выскочил из-за стола и схватил её, свернул и бросил в проволочную урну, стоявшую возле сейфа.
За окном ещё более посветлело. Меня, держащегося за спинку стула, вдруг так замутило, что я шмякнулся на то же самое сиденье.
Вероятно, мой вид (побледнел?) заставил следователя дать указание сержанту:
– Принеси ему понюхать. В дежурке, в шкафчике.
Держа мою голову за затылок – мне показалось, – в ту же секунду лапища сержанта сунула в нос (не под нос, а именно – в нос) клочок ваты, и я задохнулся острым запахом нашатырного спирта.
– Дыши глыбжи, – приказал он, когда я попытался отвернуть голову в сторону. – Сопляк! В омморок упал. Как дамочка херова.
– Сержант! – сердито одёрнул подчинённого следователь. – Не забывайтесь! Вы не в дежурке, а в кабинете следователя находитесь.
– Слушаюсь, товарищ лейтенант, – поспешил извиниться сержант.
– Штаны, – сказал я, нанюхавшись нашатыря.
– Чево? – уже не столь грозно спросил милиционер.
– Штаны упали… галифе, – повторил я, поддерживаемый цепкими ручищами сержанта за воротник бушлата.
– Надевай!
Я не сразу уцепился за ошкур и подтянул галифе до пояса.
– Очухался, – доложил сержант следователю.
– В бокс. Пусть отдыхает, – приказал следователь.
…Теперь до получения зековской униформы я был обречён правой рукой поддерживать папашин подарок, привезённый аж из Венгрии. Ему-то боевой трофей пришёлся впору, а мне, худырьбе… [554]554
Худырьба – худой, истощавший (уличное слово).
[Закрыть]Трагическое и комическое…
…Мы поплелись в «тёрку». Переставлял ноги, опираясь на облупленные, покрашенные зелёной, ядовитого оттенка, краской стены. К тому же тело моё беспрестанно содрогалось от холода – бельё-то я простирнул и отжамкал в туалете над омерзительно поганой раковиной и оно ещё не высохло на мне.
В боксе я повалился на пол. Кое-как закутавшись в бушлат, подтянув, превозмогая боль, колени к животу, продолжая трястись, как в лихорадке, я постепенно успокоился, даже чуть согрелся, мучительно поворачиваясь с боку на бок, временами впадал в дремоту. Не знаю, что это было, – может быть, и не дремота, а бред.
Я слышал: иногда к двери бокса подходил кто-то и спрашивал, не открывая дверей:
– Рязанов? Отвечай имя-отчество, место рождения, число месяц и год.
Я отвечал, как мог, как получалось. Проверявший удалялся, цокая подковами, наверное к заветному выходу, возле которого была оборудована будка не будка – с дверью. Засов, на который она закрывалась, отворял лишь сидевший в этой будке дежурный. И запирал – тоже он.
Меня периодически сотрясал мелкий озноб и держал тело в сильном напряжении. Иногда он прокатывался по мне волной. Подчас тело стягивало судорогой, и я растирал окаменевшие мускулы пальцами рук, которые по счастливой случайности не повредил о стенки камеры-«тёрки». Больше всего тревожили ушибленные места. Толстый, на ватной подкладке, суконный фэзэушный [555]555
ФЗУ – фабрично-заводское обучение.
[Закрыть]бушлат спас меня не только от холода – во что моё тело превратили бы четыре изверга, мутузившие меня в боксе, выколачивая «чистосердечное» признание? Ведь неспроста один из них, когда меня после «обработки» доставляли в кабинет следователя, сказал (он шёл позади):
– Ишшо мо́зги будишь нам пудрить – кровью ссать будишь. А посадить тебя си равно посодют – у нас невиновных нету. Есть только деушки невиновные, пока у них на кунки волоса не выросли. [556]556
Кунка – женский половой орган (просторечие).
[Закрыть]
…Наконец дверь открыли. Убедились, я ли есть я.
– Подымайся на отправку.
Это уже был другой милиционер и рядом с ним другая смена.
Как ни мучительно трудно было встать, я всё же преодолел своё сопротивление и разогнулся – распрямился, придерживаясь за «тёрку»-стенку.
За дверями ждал «почётный» эскорт из двух здоровяков. Меня повели в туалет.
Я оторвал от рубашки снизу полоску ткани и использовал этот клочок… После напился из-под крана над грязной до отвращения раковиной. Из ладони, предварительно помыв руки.
И – опять бокс.
Начал приходить в себя. Где Серёга, Кимка, Витька?
Неужели и их подвергли такой же зверской «обработке»? Что произошло дома? Маму наверняка не пустили в отделение. [557]557
После освобождения по амнистии летом пятьдесят четвёртого года я вернулся в Челябинск, домой. Поступил на работу лепщиком-формовщиком на завершение отделки Челябинского театра оперы и балета. Однажды я спросил у мамы, приходили ли к нам с обыском милиционеры и пыталась ли она узнать в седьмом отделении что-либо обо мне. Да, они посетили нашу квартиру, обыскали её, ничего не нашли (да и что они могли найти?). Ремень и записную книжку сыщики не вернули, но забрали паспорт и ворох моих записей. На этих листках (на оборотных сторонах) я и писал под диктовку следователя свои «показания». Их мне как улику показал и судья во время заседаний. Но они никак не сходились с десятком чьих-то «уголовных дел», противоречили и поэтому не были признаны. Когда мама на следующий день (двадцать седьмого февраля) пошла в отделение милиции с передачей, то следователь, «приятный молодой человек», принял маму, долго выспрашивал обо мне, не возвратил удостоверение слесаря четвёртого разряда и продуктовую посылку не разрешил передать мне, убедив её, что я получаю пищу, которая положена задержанному, а передачи по закону получать временно находящимся в милиции не разрешается. Я маме и словом тогда не обмолвился о том, что я в той живодёрне испытал, пощадил родную. (2008 год.)
[Закрыть]Теперь, после того как я «сознался», сам не зная в чём, меня должны отправить в тюрьму. Вот во время суда я и расскажу, как из меня выбивали всю ту чушь, которую написал чистюля-следователь со своей шайкой хулиганов. А то и бандитов. В милицейской форме.
…Вот почему «гадов» и «мусоров» так ненавидит Серёга, понял я, когда мы, все четверо, встретились перед судом, и я рассказал им о том, как меня избивали в отделении милиции. Зубами скрипит Воложанин при одном упоминании «милодии». Не единожды побывал у них и на своей шкуре испытал, наверное, то, что пришлось перенести и мне в этот раз. Однако не слышал от него об «обработках». Стыдился, полагаю, признаться в тех унижениях, когда и из него выколачивали признания. Или нас не хотел пугать.
Ну ладно, он – вор. А нас-то зачем в эту грязь и кровь затащил? Разве не предполагал, что «заводит в блудную»! Разве он не знал, чему нас там подвергнут, каким испытаниям? «Благодаря» Серёге я принёс столько горя маме! Да и не особенно приятно Славке слышать, что брат его находится в тюряге. Позор! И всё из-за меня, моего легковерия. Ну заделал мне «козу» Серёга! Я тоже – хорош. А Витька, Кимка? Кимка вообще какой-то дёрганный. Больной. Что с ним будет, если нас милиции удастся всё-таки засадить в тюрьму? А я с Витькой? Ну он-то со своей злостью выживет! Да и с Серёгой у него давно отношения вась-вась.
Все мы попали в капкан. Удастся ли вырваться?
Находясь в боксе, еле сдерживался, чтобы не разрыдаться, не завыть, как воют голодные бездомные собаки зимой в мороз.
Усугубило моё состояние и то, что вспомнилась Милочка, уж теперь-то несомненно потерянная мною навсегда, эта прекрасная девочка, в платьице с белыми горошинами и с большой куклой в руках, – такой она мне увиделась. Как на групповой любительской фотографии, сделанной, помнится, в сорок пятом году её сродным братом. [558]558
Эта фотография-талисман, отбывшая со мной срок наказания и сопутствовавшая мне всю жизнь, воспроизведена на обложке книги «Ястребок» Героя». В настоящее же время лежит под стеклом нашего рабочего стола. Она – прошедшее, настоящее и будущее.
[Закрыть]
Странно, однако это воспоминание и обрадовало меня. Чем? Да тем же, что живёт в Челябинске на улице Свободы такая девочка, теперь уже девушка, студентка, будущий врач Людмила Малкова и она даёт мне силы выстоять в этой неравной борьбе со всеми трудностями, ожидающими меня впереди. Кто она для меня? Никто – и всё. Пока она живёт во мне, и я буду жить. Хотя, вполне вероятно, мы более уже никогда и не встретимся.
…Слёзы потекли из уголков глаз через разбитую переносицу по щеке на ухо шапки, а с него закапали на отполированный чьими-то сапогами – и мною немного тоже – пол.
Следующий (фактически уже начавшийся) день до самого позднего вечера, как я мог приблизительно определить, прошёл без всяких происшествий. Меня донимал лишь один вопрос: «Как долго они ещё будут терзать «задержанного Рязанова» в этом железном кубике?»
Есть мне совершенно не хотелось. Может быть, так подействовала следовательская и его помощников-палачей встряска? Впрочем, и раньше я мог подолгу оставаться без пищи и не испытывал чувства голода. Забегая вперёд, скажу, что эта особенность моего организма в будущем неоднократно выручала меня. И оберегала.
Поразмышляв, я пришёл к выводу: вполне возможно, что они упекут нас в тюрьму. Если такое случится, то придётся перенести, выдержать и это лихо. Напрячь все силы. Не сдаваться! Только не сдаваться, чтобы с тобой не делали, что хотят, не стать рабом. То, что произошло со мной в милиции и тюрьме (по указанию того же следователя-садиста), унизительно для мужчины, позорно. Хотя это уже давнишнее прошлое.
…А сейчас, двадцать седьмого февраля, я терпеливо ждал. И опять стал тешить себя мыслью, что всё «дело» может неожиданно повернуться в мою пользу, если удастся доказать лживость предъявленных обвинений. Ночью двадцать восьмого февраля дверь «тёрки» с бряцаньем отворили, и опять незнакомый мне милиционер назвал мою фамилию, а я по привычке продиктовал свои ФИО и всё остальное.
И вот я снова предстал пред «ласковые» очи лейтенанта. Того самого. Почти родного следователя.
Он выглядел спокойным и даже, мне показалось, благостным. И довольным.
Пригласил сесть на стул. Газету уже не подложил.
– Вот тебе бумага, и сам перепиши показания. Без отсебятины. Так, Рязанов, надо. Не перепутай: улица Карла Маркса, дом номер девятнадцать, подвальное помещение, продмагазин, двадцать второе февраля пятидесятого года. Днём. И остальное…
Я переписал и подписал.
– Почему ящик халвы не указал? Вот тут допиши.
– Теперь подпиши эти «дела».
Я и это приказание выполнил. Следователь продолжал пребывать в явно хорошем настроении и поэтому позволил себе удивить сопляка-подследственного своими уникальными способностями гадалки (или предсказателя чужих судеб): наша «преступная группа» получит сроки наказания «на полную катушку», а государство, общество избавятся от таких «вредных элементов, как Воложанин, Рязанов и иже с ними, мешающих народу строить коммунизм».
Он наслаждался тем, что добился своего: я собственноручно написал «признание» и поставил автограф на десяти папках с грифом «Дело». Он сбагрил то, что годами залежалось в двухэтажном сейфе и теперь сулило очередную звёздочку на новенькие, сверкающие серебром погоны, повышение по службе и разные блага в виде денежных вознаграждений и прочего. Обо всём этом я раньше знал, но с чужих слов и не вполне доверял подобным слухам. Сейчас – убедился.
И размышлял, не повредили ли мне палачи внутренние органы и кости (левая ключица постоянно и резко напоминала о себе). Ну синяки-то сойдут, кровоподтёки рассосутся… А вот с ключицей что-то «обработчики» сотворили неладное. Может, сильный ушиб? Или перелом? [559]559
Уже в концлагере медики установили трещину ключицы.
[Закрыть]
Об этом, оказывается, думал и чистюля-следователь.
– Должен тебя, Рязанов, предупредить, что, если во время приёмки в тюрьму, ты начнёшь плести о своих травмах, якобы полученных в отделе милиции от наших сотрудников, и тебя не примут, ты вернёшься к нам. Можешь догадаться, какой тебя приём здесь ждёт? О травмах, полученных тобой во время уличной драки, акт уже составлен. И подписан тобой же. Имей в виду. И учти: кто к нам попадает, дальше его путь может быть или тюрьма, или … Понял, да? На снисходительность народного суда тоже не следует надеяться. Они действуют по принципу: полезнее осудить невиновного, чем освободить из-под стражи вора или бандита. И верно рассуждают. По-государственному.
Это умозаключение следователя вызвало во мне протест, но я вовремя спохватился и не совершил ошибки – промолчал.
…Если б посторонний человек посмотрел на нас со стороны (например, если б следователь отодвинул штору с зарешёченного окна), то вполне мог бы принять нас за мирно беседующих знакомых о новом, просмотренном нами кинофильме или о прочитанной интересной книге.
«Неужели и судьи поверят всей этой абракадабре?» – думал я. – Ведь двадцать второго февраля, когда была совершена кража халвы, я весь день находился на работе. Это могут подтвердить многие ребята и документы… Но вспомнил, что коммунары, прошедшие советское судилище, отзывались о нём и заседателях всегда с неодобрением и назвыали их «кивалами». [560]560
Советский суд прославился своей вопиющей несправедливостью, нарушением законов Конституции. «Кивалами» судей и заседателей, которых считали «народными», в действительности – марионеток партийных и карательных органов, называли так, потому что они «кивали» согласно указаниям тех, кто ими верховодил. Позже, в концлагере, я узнал (эти слухи приписывались нарядчику лагеря, якобы бывшему судье), что суды руководствовались ведомственной инструкцией, в которой судам предписывалось не выносить оправдательных приговоров, которые, хотя и редко, всё-таки случались. (2008 год.)
[Закрыть]
А следователь, похоже, берёт меня на пушку, что суд вынесет тот приговор, какой ему подскажет милиция. Разве так может быть? Суд совершенно не зависит ни от кого.
Когда довольный следователь все подписанные мною папки «дел» и переписанные «признания» уложил в сейф, то мне показалось, что он проявляет ко мне внимание и заботу. Он спросил, например, как я себя чувствую, не кровоточит ли нос?
Но я решил: он мой враг. И не пошёл на откровенность.
– Вот и отлично. Ещё отдохнешь, и вас отвезут на Сталина, семьдесят три.
– А что это? – спросил я.
– Тюрьма, – спокойно и даже равнодушно ответил ныне словоохотливый следователь. – А точнее – следственный изолятор.
«Неужели он искренне верит, что отправляет в тюрьму перевоспитывать преступника? – с большим недоверием подумал я. – Или его так намуштровали в учебном милицейском заведении? Что он, интересно, закончил? Какое-нибудь училище».
– Перед отправкой умоешься – я распорядился.
– А избивать меня больше не будут?
– Был бы ты сообразительней, никто к тебе не применил бы принуждение. И не искал бы ты пятый угол в боксе. Повторяю: запомни на всю жизнь – в милицию невиновные не попадают. Усвоил? Попал в милицию, – значит, виновен.
Мне хотелось спросить: «А где же те люди, совершившие преступления и за которых меня принудили признать их грабежи и кражи? И, возможно, ещё что-то». Но я уже настолько пришёл в себя, что знал приблизительно ответ следователя. И промолчал.
– Если приёмщики спросят, отвечай: «Нормально. Нос повредили ещё до задержания милицией. Дружки». Кирюхи – так вы друзей называете? При осмотре могут оказаться травмы. Скажешь, что дрался по пьянке. Хулиганил на улице. О возврате я тебя предупредил. Не забывай.
Я промолчал.
– Понял всё?
– Да, това… гражданин следователь.
– И скажи спасибо за то, что тебя ещё мягко обработали.
– Кому же я должен сказать спасибо за то, что меня искалечили? Ключица до сих пор покоя не даёт при малейшем движении руки? И что со мной стало, если б меня Ваши подчинённые-костоломы «обработали не мягко»?
– А они тебе об этом не говорили? – вопросом на вопрос ответил следователь, сразу как-то помрачневший.
Он, вероятно, нажал кнопку под столешницей, ибо сразу явился дежурный милиционер.
– Я предупредил тебя обо всём, Рязанов. Если ты умный человек, подумаешь и последуешь моему совету.
И вошедшему дежурному:
– В бокс его.
Я облегчённо вздохнул, подумав: «Больше с этими извергами мне уже встретиться не придётся».
С этими, действительно, более уже не встретился. Но как жестоко я ошибся! Ибо несть у нас извергам числа и по сей день. Особенно в милицейских мундирах.
1974–2010 годы
P.S. Только что посмотрел по центральному телевидению («НТВ») передачу о Викторе Абакумове и в который раз подивился своей наивности и почти детскому восприятию того, что со мной вершили палачи карательных органов, потому что мои убеждения (недавние) по российскому телевидению чётко огласил президент РФ Д. А. Медведев, назвав нашу государственную пенитенциарную систему репрессивной, а не воспитательной, – ведь это было известно всему миру, но только не рабам и жертвам так называемого социалистического строя, самого бесчеловечного и кровавого во все времена.
10 мая 2009 года








