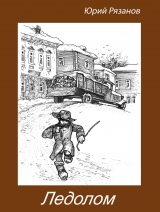
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 48 страниц)
– Их, их, их…
Ай да Герасимовна! И где она научилась такие коленца выкидывать!
Я спешно нашёл диск с «Брызгами шампанского», безумно весёлым танго, но бабка плясала под какую-то свою музыку, да ещё и частушками сыпала:
– По деревне шла и пела
Девка ждаравенная,
Жадом жа угол жадела,
Жаревела, бедная.
Их-ха!
И на иной мотив:
– Пришла куриша в аптеку
И шкажала: «Кукареку!
Дайти пудры и духов
Для приманки петухов».
Их-ха!
Тётя Таня, подбоченясь, присоединилась к бабке, заголосила тонко:
– Раньче были времена,
А таперь маменты,
Даже кошка у ката
Просит илименты!
Бабку стало заметно заносить, когда я поставил «Кукарачу», – быстро же старушка выдохлась. Зато тётя Таня, а после и сестрица её, плавно и неутомимо кружились по кругу, помахивая воображаемыми платочками.
Залюбуешься, как они величественно танцевали. Я лишь успевал пластинки ставить да переворачивать. Уже и стремительную «Рио-Риту» проиграл, и очаровательную «Китайскую серенаду», и ласковые «Неаполитанские ночи», а неутомимые сёстры всё танцевали на не очень широком пространстве, ограниченном картофельными грядами. Наверное, они ещё очень долго показывали бы своё танцевальное искусство, но непонятно откуда возникла Эдка в платьице из накрахмаленной марли и в белых носочках. Волнистые, после расплёта косичек, белокурые волосы её распущены на плечи и спину, а на голове, бликуя новогодней мишурой, блестело что-то вроде картонной короны.
Тётя Аня заметила дочь, мою одногодку, и их танец прервался. Эдка шепнула что-то Коляну, и тот объявил:
– Танец «Вальс цветов». Исполняет Эдда Васильева.
Эдка передала ему свою грампластинку, и Колян, отстранив меня бесцеремонно, сам возложил её на суконку, подув предварительно, чтобы пылинки не остались. Он и ручку накрутил. Немного обиженный, я отошёл от табурета с патефоном и опустился на травку, на то место, где недавно сидела Мила.
Эдка, вытянув вперёд тощие руки, короткими перебежками семенила туда-сюда, после растопырила и стала медленно поднимать и опускать их, будто собиралась взлететь и одновременно мелко перебирала стопами, как маленькие дети, когда захотят пи-пи. Ну как тут было не рассмеяться! Я прыснул в ладони смехом, столь нелепым выглядели Эдкины движения и позы. Случайно увидел слева розовое пятно, оглянулся… Мила стояла в своей кухоньке и через раскрытое окно внимательно наблюдала, грызя свой ноготок, за танцующей Эдкой. Ей, наверное, очень хотелось оказаться на месте Васильевой – такое печальное у Милочки было лицо.
Не осмеливаясь пригласить её, я подошёл к тёте Тане, но раздумал к ней обращаться, а тронул тётю Аню за полную руку.
– Чево тебе, Егорка?
– Пусть Мила к нам идёт. Потанцует, – сказал я тихо.
Но тётя Таня услышала мою просьбу и повернула ко мне своё по-прежнему отчуждённое недоброе лицо.
– Не могёт она – беркулёз у её.
– Нет, – выпалил я, обескураженный.
Я знал, что от туберкулёза люди умирают. Дядя Ися Фридман приполз из тюрьмы с такой же болезнью. У него даже одно лёгкое там вырезали. Потому он такой кривобокий. А я и мысли допустить не мог, что подобное, страшное угрожает Миле.
– И отец иёный – беркулёзник. Потому Дарья Ликсандровна и разошлася с им, – жестоко и охотно сообщила Данилова о том, что всячески скрывали от окружающих тётя Даша и Мила. А тётя Таня вроде бы даже обрадовалась, рассказав о губительной милочкиной хвори.
«У Милы – туберкулёз? Да правда ли это? Несчастная Милочка! Вот почему она такая бледная и немощная… и на Миасс никогда не ходит купаться», – сетовал я про себя.
Беспощадное откровение тёти Тани меня оглушило, и я не хотел ему верить, а жаждал, чтобы Мила стала – обязательно! – здорова, чтобы никакие заразы не терзали её. Тем более в такой Праздник.
Я оглянулся в сторону дома, но в малковской кухоньке уже никого не увидел. Праздник… Он сразу померк, и мне стал неинтересен патефон и кипа пластинок, к которым только что испытывал неутолимое тяготение.
Наплясавшись вдосталь, Герасимовна уже плакала в широкий подол своего лоскутного сарафана, наверное по сыну Ивану.
– За грехи ево великая Бох наказал, за то, что ён энкавэдэшником штал и Богашевича шгубил в турме, – продолжала рыдать безутешно бабка. Разумеется, я ничего не понял – смысл произнесённых несчастной старухой слов дошёл до меня далеко не сразу.
Её успокаивали моя мама и тётя Мария. И это событие ещё добавило печали в так славно и светло начавшийся праздник.
А у меня кто погиб на войне? Неизвестно. Я даже родственников своих не знаю, ни маминых, ни отцовых. Кроме тёти Лизы, её родной сестры, живущей тоже на Урале, в далёком Кунгуре. По какой-то причине мама не рассказывает мне о себе, о своих родителях, о детстве своём, лишь упомянула как-то о бедствиях и голоде, которые терпела, учась в институте. Чуть не забыл – в Заречье, на берегу Миасса, в своём домишке, коротает одинокие дни отцова тётка. Славная старуха тётя Поля Ковязина. Сын её не попал на фронт. В больнице для умалишённых – бесконечно повторяет – за то, что сатирические куплеты сочинял и распевал, от голода умер в сорок третьем, о чём она и по сей день горюет и охает, постанывая, что убили его за те куплеты. Когда изредка приходит к нам в гости, то без конца говорит: убили, убили сыночка. Несчастная! Как много кругом несчастных людей! Почему? Наверное, во всём война виновата.
А ведь и у меня есть знакомый человек, которого убили фашисты. Как же это я о ней сразу не вспомнил?
Эту молодую учительницу-практикантку привела в конце сорок третьего в наш класс старая, ещё с дореволюционных времён, директриса школы Прасковья Ивановна, одетая по такому торжественному случаю в свой лучший костюм и с орденом Трудового Красного Знамени – большая редкость в то время – на лацкане жакета. Она представила нам новую «учителку».
Невысокого роста, круглолицая, с синими смешливыми глазами и певучим голосом, «учителка» нам понравилась, мне – в особенности. Не помню, чтобы она кого-нибудь из нас наказала несправедливо. Или сверх меры. Но недолго Нина Петровна занималась с нами. Месяца через три всех четверых практиканток мы на торжественной школьной линейке проводили на фронт – добровольцами. И вскоре в том же зале, на стене, я прочёл в школьном боевом листке, что «Нина Петровна Коваль [172]172
Имя, отчество и фамилию моей учительницы я запомнил, мне кажется, запомнил верно. Вечная ей память!
[Закрыть]пала смертью храбрых в неравном бою с врагами». Это известие выбило меня из привычного весёлого состояния. И я, преодолев робость, а может и страх, пошёл в учительскую, чтобы узнать от кого-нибудь подробности гибели Нины Петровны. Не верилось в написанное, хотя в углу боевого листка была наклеена фотография, вероятно из её личного дела, несомненно, изображавшая нашу уважаемую «учителку». Далеко не всякая преподавательница удостаивалась чести стать уважаемой пацанами (девочки и мальчики тогда учились в раздельных школах).
Строгая – её все боялись – Прасковья Ивановна вышла из своей квартиры, соединённой дверью с учительской, и, вникнув в мои вопросы, подтвердила: да, девушка погибла в партизанском отряде, куда была заброшена с рацией. Подробностей директриса не знала. Я их тут же, выйдя из учительской, воссоздал: аэроплан, парашют, лес, бородатые партизаны, Нина Петровна в белом полушубке и в ушанке, с рацией за плечами, фрицы в жабьего цвета шинелях и весёлый её голос: «За Родину! Ура! Ур-ра!» – подхватили оставшиеся в живых народные мстители – первый и последний её бой. Героический!
Коваль долго не забывалась. Её образ и воссозданную картину боя не смогли стереть ни фильмы, ни повседневные бытовые впечатления.
Сейчас я о Нине Петровне вспомнил и пожаловался оказавшейся в одиночестве бабке – мне требовалось её сочувствие.
– У нас учителку фашисты убили. В партизанском отряде.
– Вешная ей памить, – откликнулась тут же бабка, уже вдоволь наплакавшись и смиренная. – Не жабывай её никоды…
И перекрестилась.
– Героев не забывают, – уверенно ответил я.
– Молода ушительниша-те была?
– Наверно, семнадцать или восемнадцать. Из техникума. И к нам, в третью школу. Дуне из тридцатого сколько? Столько и Нине Петровне было.
– И-и, не ведаешь, што мелишь. Да ить Дунька ша Штюркой шовшем не девшонки, не шмотри, што ш ребёнками оне… Робёнков им шалдаты жделали на хронте. Жато шами бабы ушелели. Живёхоньки.
Две молоденькие квартирантки, их почему-то соседки называли «мамочками», поселились, вернее, их подселили прошлой зимой к одной малодетной семье в дом, где этажом ниже жил Юрка Бобылёв. Я впервые увидел их, когда на дворе уже установилось тепло, – они нянчились со своими грудными несмышлёнышами на терраске.
Конечно, я не обратил бы особого внимания на юных мамаш, если б не их частые громогласные раздоры из-за пелёнок, подгоревшей каши, молочной смеси и ещё из-за чего-то, ерунды какой-то. Но главное – одеты они были в одинаковые ладно пригнанные гимнастёрки и защитного же цвета юбки, обуты в сапожки. И осиные талии их стягивали кожаные ремни с латунными пряжками. Поначалу я принял их за родных сестёр. Ан нет. Дуня оказалась голосистой украинкой, в Стюра – русской. Дуня часто пела своему малышу колыбельную и разные другие песни. Я их охотно слушал внизу, под терраской. Из всех песен мне больше всего по душе пришлась «Реве та стогне Днипр широкий» и «На позицию девушка провожала бойца». А Стюра, к моему недоумению, никогда не пела своей крохе-крикунье, а только сильно трясла её, поворачивая то вправо, то влево, словно гимнастические упражнения выполняла.
– Ежли б робят им шолдаты не шделали, они бы где-мабудь в могилке обшей лежали… – простодушно поведала бабка, и я её совершенно не понял. Но уточнять не решился, чувствуя в самом вопросе что-то нескромное, не детское. Припомнился мне недавний случай: Толька Мироедов, поганец, дразнил Дуню, громко распевая песню, очень нравившуюся мне, – «Огонёк». Но слова кто-то, может сам Мироед, исковеркал, испохабил, и получилась не душевная песня, а насмешка.
Толька, придурковато кривляясь, гнусавил из-под терраски:
– На позицию – деушка,
А с позиции – мать.
На позицию – щесная,
А с позиции – блять.
Дуся не осталась в долгу и прошлась в адрес Мироеда крепкими словечками, отнюдь не из детсадовского лексикона. А после ещё и кипятком в Тольку шарахнула, да промахнулась.
Толька же, драпанув на безопасное расстояние, вовсе обнаглел: скинул штаны и повернулся к терраске оголёнными ягодицами.
– Видала? Пэпэжэ!
Задирать, заводить и обзывать других Толька очень любит. Особенно тех, кто не может дать ему сдачи.
– Я тебе покажу пэпэжэ! – разъярилась появившаяся на терраске Стюра. – Язык вырву и в жопу вставлю.
Я подбежал к забору, взлетел на него.
– Ты чего фронтовичек доводишь? Получишь сейчас по своей вонючей пэпэже пендаля, – подхватил я новенькое словечко.
Толька нарочито расхохотался, наставив на меня указательный палец. Эту дерзость я понял как вызов и перемахнул через заплот.
– Чего ты тянешь? – струхнул, видать, Толька, ведь рядом с ним никого из корешей не было, а биться один на один – не в его правилах. Если, тем более, перед ним не малыш.
– Ты знаешь, што такое пэпэжэ?
Я не знал, но догадывался: задница.
– Это же походно-полевая жена. Пожиже развести – на всю роту хватит. Или на полк. Их так сами фронтовики называют… – Мироед ткнул пальцем в сторону терраски.
– Не ври, – не поверил я. – Сам, небось, придумал гадость, а на фронтовиков спираешь… Вали отсюда!
– А ты чего в чужом дворе залупаешься? – вяньгал Толька, отступая к своему забору. – Подожди, брательник из кичмана [173]173
Кичман – тюрьма (блатная феня).
[Закрыть]выскочит – зарежет…
Лишь хвастается и запугивает своим братом-тюремщиком, а сам слюнтяй и бздила, как говорят о таких трепачах пацаны.
В общем, на этом наша стычка и закончилась тогда.
Закончился и победный пир. Толян Данилов успел унести к себе свои вещи и мебель.
…Пьяненькая и несчастная бабка, неуверенно ступая по земле, поплелась к себе домой, да и остальные незаметно разошлись.
Я тоже было загрустил – в ушах звучал «Весенний вальс» – я им не мог наслушаться. Хотя и ставил раз пять, не менее.
Меня словно током дёрнуло: в школу пора – ведь среда сегодня.
Я бегу, напевая «Васю Крючкина», по знакомым, тысячу раз преодолённым тротуаром, сколько раз разбивал на них ногти пальцев ног о расколотые кирпичи. Взрослые прохожие поздравляют друг друга, пожимают руки, обнимаются. У меня от их объятий настроение поднимается, – кажется, ещё чуть-чуть скорости прибавить – взлечу.
На двухэтажном здании трамвайного треста уже колышутся алые флаги.
Полыхает кумачом и улица Кирова – город спешно наряжается – и для него наступил невиданный и неслыханный долгожданный, очень жданный праздник.
Грохочет, аукаясь, развесёлая музыка из громкоговорителей, установленных на высоких столбах и на крыше табачной фабрики.
Будто и впрямь новое время началось. А если так, то и события должны происходить иные, такие, каких в войну и загадывать не додумаешься. И я настроился на эти грядущие события.
В школе царило столпотворение. Наш класс поздравила Нина Ивановна Абрамова, [174]174
Имя, отчество и фамилия точные. Как и у остальных персонажей моих рассказов, кроме тех, Ф.И.О. которых изменены по каким-либо веским основаниям.
[Закрыть]географичка. Она плакала, не стыдясь нас, и комкала в сухоньком кулачке кружевной, ещё, наверное, дореволюционный платочек.
Но это было ещё не то, я чувствовал – не то.
Неожиданно раздался резкий и продолжительный коридорный звонок, и мы высыпали, оглушительно галдя, из классов. Во двор, где состоится митинг! Там уже металась, распоряжаясь, какому классу куда вставать, завуч, вся в коричневом и с кружевным жабо, приколотым к плоской, как классная доска, груди. Гвалт ребячьих голосов стоял невообразимый, даже галки с высоченной каланчи полуразрушенной мечети встревоженно снялись и кружили над кишащим школьным двором.
Завуч вынесла настенный портрет Сталина и установила его на столе, прислонив к водруженной на стол же табуретке. Шум пошёл на убыль.
А когда директор школы историк Михаил Григорьевич Александрович поднял вверх вытянутую руку, гомон прекратился. Говорил директор красиво, складно, громко – всем было слышно.
– Победа над фашисткой Германией и её приспешниками была бы немыслима, – декламировал Александрович, – если бы во главе братских народов и непобедимой Красной Армии не стоял великий вождь и полководец всех времён и народов, наш мудрый учитель и отец, вдохновитель и организатор всех наших побед родной Иосиф Виссарионович Сталин…
Галки, усевшиеся было на минарет, куда много лет не ступала нога муллы, а только наши, испуганно взмыли ввысь от дикого ора – глоток мы не жалели. И кричали долго, в свое удовольствие.
Занятия в этот день, естественно, отменили. И всё же ни митинг и ни свобода от уроков должны были стать главным событием дня, этого особого дня всей моей, и всех других, жизней. А что же тогда? Может быть, всё-таки сообщение Левитана о капитуляции разбитой вдребезги Германии?
– Что дальше будет, как вы думаете? – спросил я друзей, когда мы собрались в штабе.
– Карточки отменят, – заявил Юрка уверенно. – Или пайку прибавят.
– Слыхали? Салют готовят, – поделился новостью Гарёшка. – На складе разнюхал… Где Сонька Каримова за хлеб солдатам даёт.
– Она им не там даёт – там запретная зона. А дома. За пайку хлеба. С каждого солдата. Дома Альку с Надькой выгоняет и даёт, – поправил Игорёшку я. – У неё туберкулёз, ей досыта надо есть. Вот она и даёт. И Надьку подкармливает.
Что конкретно Сонька солдатам «даёт», я, честно признаться, не представлял.
– Ладно. Не в этом дело. Мы должны увидеть Салют Победы. Это же Мировой салют, – заключил речь Игорь. – Второго такого в жизни не будет.
Салюты мы знали по сводкам Совинформбюро, кинохронике, слышали залпы «из ста двадцати четырёх орудий» по радио, но никто из нас этого чуда своими глазами не видел.
– Бежим на склад, – предложил я. – Или у Соньки спросим.
Нам были хорошо известны воинские склады во дворе последнего, углового, дома нашего квартала, одной стороной выходившего на улицу Труда. Каменное складское помещение, огороженное плотно сбитым забором с колючей проволокой на верху его, круглосуточно охранялось часовым с винтовкой. Поэтому склад давно привлёк наше внимание.
С крыш ближайших построек мы наблюдали, как солдаты заполняют ящиками крытые автомашины, и догадывались, что это за грузы. А когда мы примелькались кладовщикам и охранникам, нам, бывало, разрешали собирать с земли возле складов обломки «макарон» – порох в виде трубочек толщиной с карандаш. И мы на Острове-саде делали из них разноцветные ракеты, шнырявшие с шипением по земле. Однако нам никак не удавалось запустить хотя бы одну в воздух.
О складе боеприпасов мы никому из посторонних не рассказывали, как и о мастерских напротив здания школы, где собирали «Катюши». Их обычно выпускали из ворот затемно, закрытыми брезентовыми чехлами. «Катюши» тоже были нашим ребячьим крепким секретом.
К складу мы сейчас и устремились, прихватив с собой Стасика, который последнее время больше времени проводил со своими школьными друзьями-одногодками.
Не сразу удалось нам уговорить подвыпившего старшину, чтобы позволил собрать обломки пороха.
Свой салют мы устроили на острове – подбрасывали как можно выше разного цвета огнём горевшие обломки «макаронин» и орали «ура!». И этот фейерверк воскресил в памяти моей давнее посещение ёлки у отца в конторе, ещё до секретной командировки в тридцать седьмом году, и загипнотизировавшие меня ослепительные бенгальские огни. И опять мысли мои обратились к отцу. Я порадовался, что скоро-скоро увижу его.
Но вот весь порох сгорел, восторги наши иссякли, усталость мягко обнимала за плечи, тянула домой. И я подумал: «Грядущий салют наверняка то самое ожидаемое грандиозное и ни с чем не сравнимое – послепобедное, что нельзя пропускать».
– Бежим на салют зырить. Забыл, что ли? Пацаны уже состаились, – позвал я с собой Стасика, и мы рванули гурьбой по Свободе, расцвеченной флагами, свисавшими с домов и ворот. Перевести дух я остановился лишь на улице Кирова.
Ватага наша проследовала дальше, к площади Революции, а я задержался возле центрального универмага. Остановила меня мелодия, густо хлынувшая из раструба мощного громкоговорителя, висевшего высоко на фонарном столбе напротив трёхметровой фигуры улыбающегося, с поднятой в приветствии рукой, Кирова на угловом выступе почтамтовской террасы.
Свежая, нежная зелень сквера и яркая голубизна чистого неба, казалось, источали ту музыку, что пронзала меня. «С берёз, неслышен, невесом, слетает жёлтый лист… Сидят и слушают бойцы, товарищи мои… Под этот вальс весенним днём… в краю родном любили мы подруг… Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет…»
Не раз слышал я эту песню и раньше, но сейчас она заполнила меня, трепетала и вибрировала каждым звуком. В воображении я увидел себя среди бывалых солдат, моих боевых товарищей, на привале, у лесной опушки. И сам я, усталый, со скаткой за плечами, с винтовкой, снайперской, разумеется с оптическим прицелом, зажатой меж колен, кручу цыгарку и улыбаюсь: войне конец! отвоевались! Теперь все тяготы походов позади. Больше не разорвётся ни один снаряд, не бахнет ни одна бомба, не треснет ни один выстрел… Хорошо! Прекрасно!
В тот миг, когда я произнёс про себя «ни один выстрел», бухнул первый залп. Я повернул голову направо и увидел в слегка вечереющем небе, невысоко, жёлто-красно-зелёный с белыми огнями рассыпающийся букет с серыми дымовыми стеблями.
Моментально стряхнув с себя мечтательное оцепенение, рванул вслед за ребятами, но не настиг и не сразу разыскал их в густой шумной толпе, затопившей обширную площадь.
Солдаты, хорошо подвыпив, палили из ракетниц под восторженные выкрики окружавших их горожан. Мы хватали с земли горячие дымящиеся картонные патроны с медно-красными задниками и ярко-жёлтыми смятыми капсюлями. И – по карманам, за пазухи.
Это было здорово, когда в тёмно-голубом небе вспыхивал яркий белый, жёлтый, малиновый или зелёный цветок и повисал над нами, медленно приближаясь к земле, и мы напористо проталкивались к тому месту, куда по нашим предположениям мог упасть недогоревший заряд. Где-то в районе входа в горсад бухнула пушка, и не букет, а огромный волшебный фонтан многоцветных брызг рассыпался, захватив часть неба.
Толпа, запрудившая площадь, взорвалась тысячами голосов, среди которых выделились пронзительный женский тонкий и мужской густой бас. То тут, то там подбрасывали над головами людей в военной форме – такого беспредельного веселья мне не приходилось наблюдать нигде и никогда.
И мы кричали, что есть силы «ур-р-р-а!». И Стасик, и Гарёшка, и Бобынёк, и я, взявшись за руки, плясали вместе со всеми, притопывая босыми пятками.
– Бежим в горсад, где пушка шмаляет, – предложил я. Друзья тотчас со мной согласились.
Бывшим пустырём, теперь тоже заполненным прущими навстречу нам людьми, мы добрались до горсадовского забора, возле которого несколько солдат дрались с какими-то парнями. В одном из них я узнал свободского ворюгу по кличке Лёха Бздила. Он показушно держался за задний брючный карман и вопил, отступая от наседавших солдат:
– Отыди – перешмаляю! Всех перешмаляю! Начисто! Сукадлы!
И рыгал отборной тюремной матерной бранью.
Но мы не остановились, чтобы узнать, чем кончится драка и на чём попался Бздила, а перелезли через высокий забор и по берёзовой аллее жиманули к дому, где размещалась жуткая коллекция восковых органов человеческого тела, поражённых различными опухолями и язвами. Как туда, в горсадовский домик, предназначенный для служащих в нём, попала эта коллекция – до сих пор не могу сообразить. Но она существовала, и её показывали всем желающим за небольшую плату, дополнительную к входному билету, а их-то мы никогда не покупали. Зачем? Всё вокруг и так наше.
Чутьё нас не подвело, точнёхонько на площадке возле дома стояла, задрав ствол, пушка, из которой и жахали в небо «букетами» и «фонтанами». Но нас и близко к ней не подпустили солдаты.
Потолкавшись поодаль, мы решили возвратиться на площадь – там было веселее и могло перепасть что-нибудь – у меня за пазухой уже перекатывались четыре чёрные внутри от пороховой гари гильзы и одна, похожая на огарок толстой свечи, недогоревшая ракета. Как мы её потушили, не расскажу – секрет.
Побежали назад через платный вход. Кстати, билеты сегодня не продавали – свободно пропускали всех желающих. Да и сами контролёры отсутствовали – праздник!
…Ликование на площади продолжалось вовсю. Народ всё прибывал. Часть прилегавших к ней улиц имени Кирова и Цвиллинга тоже оказались закупоренными людскими пробками. Над обширнейшей территорией громыхал голосами дикторов и обрушивался Ниагарой мелодий мощнейший радиорепродуктор, не заглушаемый хлопками ракетниц и уханьем пушки.
Мы, ликуя, любовались красивейшим зрелищем – уже на тёмно-синем небе не виднелось ни тучки, и электрической яркости россыпи огней представляли собой совершенно фантастическую картину, повторяющуюся многократно, но не копировавшую в точности предшествовавшую, – каждый раз новая комбинация, и, казалось, конца не будет этому волшебству по имени Мировой салют.
– Эй, Резан, чего хлебальник разинул?
Рядом впритирку стоял Алька Жмот, за ним – с ехидной ухмылкой – Толька Мироедов. Неприятная встреча.
– Да пошёл ты от меня! – взъерошился я.
И тут из толпы штопором вывернулся Генка Гундосик, с замурзанной, давно не мытой мордашкой и в объёмистом, обвисшем на костлявых плечах щёгольском синем пиджаке, явно чужом. Гундосик вплотную приблизился к Альке и что-то вынул из под полы пиджака, как мне показалось, какой-то пакет. Алька сунул его за пазуху, озираясь вытаращенными глазами.
– На пропале [175]175
Пропаль – взять украденную вещь у вора, чтобы щипача (карманника) не задержали с поличным (воровская феня).
[Закрыть]будешь стоять? – спросил он меня и, оттопырив ворот рубашки, показал чёрный, с потёртым углом, кожаный бумажник, раздутый содержимым.
– Лёнчик щиплет, [176]176
Щипать – воровать, опустошать карманы, но так, чтобы потерпевший не «шуранулся» (не «щекотнулся»), то есть не обнаружил пропажу тут же, на месте (воровская феня).
[Закрыть]уже полтора куска [177]177
Кусок – тысяча рублей (феня).
[Закрыть]натаскал, – похвастался Генка.
– Какой Лёнчик? – спросил я.
– Залётный. Из Питера, – похвастал Генка. – Гастролёр…
Алька считал деньги, вынимая их горстями из-за ворота, и рассовывал по карманам. За его руками заворожённо следил полоротый Вовка-Бобка, старший брат шустрого Генки, которого и по имени-то никто не зовёт, а все кличут, словно беспризорного пса. Потому что считают его дураком, шизиком и дебилом.
А тут и сам залётный будто из-под земли вывинтился – в кепочке-восьмиклинке, надвинутой на глаза, в новой синей косоворотке.
– Сколько я у этого «галифэ» [178]178
Галифе – военнослужащий (феня).
[Закрыть]сдёрнул? – поинтересовался он у Генки.
– Полкуска с лихуем, – ответил за него Алька.
– Ништяк, – довольный, произнёс залётный и ухмыльнулся, обнажив фиксу. – Фартовый сёдня денёк…
В этот момент я узнал его, несмотря на то, что ряшку Лёнчик отъел и отмыл её перед «работой». Это был тот самый налётчик, сами себя они называли «штопорилами», что обшаривал меня в паровозном тендере в сорок третьем. Когда я на фронт пропеллер «ястребка» вёз. Негодяй!
– Скидывай бобочку, [179]179
Бобочка – рубашка (феня).
[Закрыть]– приказал он Альке. – Перелицеваться короче, а то «галифэ» засёк меня, когда я у него лопатник мацал. [180]180
Мацать – щупать, ощупывать (феня).
[Закрыть]
– Чичас, только лопатину [181]181
Лопатина (лопатник) – портмоне, бумажник (феня).
[Закрыть]спулю, [182]182
Спулить – сбагрить (феня).
[Закрыть]– засуетился Алька.
– Ну-ка ты, давай махнемся, [183]183
Махнуться – поменяться (феня).
[Закрыть]– тоном, отметающим возражения, приказал мне «залётный».
– Не дам, – отрезал я.
– Че-ево? Да я тебе… Ваш пацан? – спросил он Вовку-Бобку.
– Не-ка, – ответил Вовка. – Это Ризанов, домашняк… – и расплылся в улыбке ни с того ни с сего.
– Фраерюга! – презрительно произнёс залётный.
– На, – протянул Алька свою замызганную рубаху – он уже успел выбросить под ноги толпе бумажник и кошельки – пустые.
Лёнчик натянул на себя тесную Алькину рубашку, Генке кинул:
– Кустюм дай.
Набросив на плечи пиджак, кивнул Тольке:
– Хляй [184]184
Хлять – идти, следовать. Имеет и другие смыслы (феня).
[Закрыть]за мной… Масть сёдня прёт – одна «краснота».
– Я тоже, – пробубнил Вовка, порываясь вслед за Лёнчиком и Толькой.
– А ты тут стой, дурак, – быстро произнёс Лёнчик и нырнул в толпу вместе с Мироедом.
Вовка заплакал, размазывая слёзы по физиономии.
Вот так встреча! Ну и гад! В такой день, в такой великий праздник он по чужим карманам шарит! И они – с ним… И у кого украл! У защитника Родины. Фронтовика!
– Алька, вы что творите? – наступал я. – Кого обворовываете? Они же нас от фашистов защитили…
– Замозолчизи, – огрызнулся на тарабарском языке он, – аза тозо шнизифтызы Лезёнчизик вызырезежит.
– Чихал я на твоего Лёнчика, – распалился я, ещё не зная, чьи глаза меня в этот момент фотографируют, в какую неприятность попадаю, вернее – попал уже.
– Идём, – потянул меня за рукав Юрка. – Не связывайся…
– Славку надо найти. А то мама такую трёпку мне устроит…
Праздник, казалось, окончательно испортили последние события с Лёнчиком. Я никак не мог прогнать, вычеркнуть из памяти эту встречу.
– Всё равно их милиция поймает, – успокоил меня Гарёшка.
– Всё равно-то всё равно, – возразил я. – Но получается, что и мы как бы с ними заодно.
– Сказанул, тоже мне, – не согласился Юрка. – То – мы, а то – они…
«В общем-то да, – стал размышлять я про себя. – Мы тут ни при чём. Они крадут – пусть и отвечают. У каждого своя голова на плечах».
– Мож быть, домой пора? – спросил Гарёшка. – А то потеряют…
– Ещё немножко посмотрим, – неожиданно попросил нашедшийся Стасик. – Когда ещё такое поглядишь?! А что они стащили?
– Не видел, что ли?
– Не…
Я не стал ему ничего пояснять. И мы какое-то время толкались в поредевшей толпе, по-прежнему встречавшей каждые выстрел и залп радостными криками.
Каждый из нас знал, что давным-давно истекло наше время, уж и светлая тихая ночь незаметно сменила бурный вечер, а Стасик всё не мог насытиться салютом Победы и не желал возвращаться домой. Это меня беспокоило и раздражало. И я потащил его за собой.
По улице Цвиллинга мы скатились вниз. Преодолев усталость, вместе со всеми миновал скверик, свернул на улицу Карла Маркса, после – на свою родную – Свободы…
Необъятный, в моих ощущениях, раздувшийся, как воздушный шар-монгольфьер, день закончился. Я чаял его получить как дар, насыщенный сплошными радостями, увенчанными какой-то необыкновенной, самой-самой великой радостью. Похоже, все сбылось. В самый необыкновенный, самый счастливый день – девятое мая сорок пятого года.
Однако напрасно я подвёл итог событиям, необыкновенный день не завершился – дома ждало меня и Славика огорчение. Мама встретила нас очень встревоженной и сердитой.
– Почему так долго? А я бог знает что о вас подумала: где вы, что с вами? – упрекнула она меня в сердцах.
Всегда мне, как старшему, первому влетает.
Видно было, что в ней что-то, как она говаривала, закипало.
– Вас видели на площади с какой-то шайкой, – высказала мама строго. – Что вы там делали?
– Салют смотрели…
Меня больно обидел мамин пристрастный допрос, да ещё с явным недоверием. Она прямо-таки настаивала на признании в том, чего мы не совершали и не намеривались даже. Не помогли и «вещественные доказательства» – несколько картонных патронов, спаленных внутри дочерна, и огрызки «макаронин» – пороховых тонких трубочек, подобранных там же, на площади, и обгорелый остаток «ракеты».
Вдруг мама поспешно вышла из комнаты и какое-то время отсутствовала.
Я со Стасиком увлечённо разглядывал находки, когда мама прямо-таки ворвалась в квартиру. Глаза её блестели от возбуждения. Она сразу кинулась ко мне и больно ухватила за ухо, приговаривая:
– Лгун несчастный! Ты и Славку подговорил! Признавайся сейчас же: с кем из мальчишек по карманам лазил?
– Отпусти ухо – больно! – завопил я.
– Больно? Сейчас будет ещё больней!
Она подхватила, полагаю, заранее положенный на тумбочку кавказский ремешок с металлическими бляшками и что есть силы хлестнула меня по плечу и спине.
– За что?! – заорал я.
– Чтобы матери всегда правду говорил! Чтобы по чужим карманам не шарил! Чтобы с жульём не знался!
И продолжала хлестать меня, не в себе от ярости.
Я закрыл лицо ладонями, чтобы она не повредила его в раже. В конце концов она довела меня до слёз. Только тогда прекратила экзекуцию. Прошло несколько минут, пока я успокоился. И после этого твёрдо заявил:
– Тебе кто-то неправду о нас сказал. Ничего мы ни у кого не украли. И мне не в чем признаваться.
– Я не могу не поверить Дарье Александровне, она взрослый и здравомыслящий человек.
– Она тебе наврала, – дрожащим голосом сказал я.
– Не смей так о взрослых людях судить!
– Я правду говорю.
И направился в общий коридор, чтобы умыть заплаканные глаза.
Выйдя из дверей, я на звук шагов повернул голову налево и увидел поспешно удаляющуюся по коридору тётю Дашу – она подслушивала то, что происходило в нашей квартире! У меня возникло моментально желание окликнуть клеветницу и задать ей вопрос «как она посмела оболгать нас с братишкой?». Но соседка, хлопнув дверью, уже скрылась в своей кухоньке.
Умывшись, я вернулся в свою квартиру, хотя ноги готовы были унести меня куда угодно, только не к себе.
И опять начался допрос матери. Я, еле сдерживая слёзы, отвечал на них одно и тоже.








