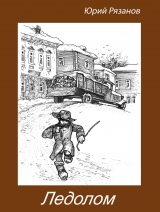
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 48 страниц)
– Ты нас не скинешь, дядька! Полный вперёд! Гонзалес, за мной, – обратился ко мне Вовка. – Качай мачту на абордаж!
Честно признаться, я не понимал до сей минуты, какую игру затеял Вовка, зачем устроил весь этот спектакль и дразнит мужика, видимо небезопасного для нас. Судя по его поведению. С каким-то удостоверением. Но Вовка продолжал усиленно раскачивать верхушку дерева, и я ему подыграл.
Человек, стоявший внизу, держался за ствол тополя, но не рисковал вскарабкаться на него – мог упасть и расшибиться, тем более такому упитанному мужику сверзиться запросто. Он продолжал твердить, чтобы мы спустились на землю, угрожая «поговорить» с нами «как следует».
Догадался, что под нами милиционер. Но зачем его дразнит начштаба?
Когда уцепился Вовка за ветку «моего» тополя, то шепнул:
– Рвём когти! Как только брошу саблю. Усёк? Я – в восемьдесят первый, ты – в семьдесят девятый. Встретимся у военкомата.
– Вы о чём там сговариваетесь? Сорванцы! – подал голос незнакомец и уцепился за нижний сук.
– Вам нужна наша сабля? Ловите её! – крикнул Вовка. – Мы из бочечного обруча сделаем другую. Ещё лучше! Только не мешайте нам играть в пиратов.
И швырнул клинок. Сверкая в солнечных лучах – солнышко как раз выглянуло, – сабля со звяканьем упала за забор нашего двора.
– Генка! Какой-то мужик саблю хочет отобрать – лови! – крикнул Вовка.
Незнакомец рывком бросился к забору и за ворота нашего двора, там, где-то под домом Бруков, росли высоченные репейники, – за саблей, а мы вмиг оказались на земле и что есть силы, не оглядываясь, задали стрекача через дорогу на противоположный тротуар и припустились через дворы в направлении цирка, влезая на крыши сараюшек и прыгая с них, не разбирая дороги, пока не оказались на параллельной Свободе улице Красноармейской. Я, задыхаясь, обежал здание военкомата и повалился в бурьян. Через минуту увидел и Вовку, бегущего в угол двора. У него тоже, наверное, не осталось сил перемахнуть через забор, и он упал под него в крапиву.
Отдышавшись, я окликнул друга и на дрожащих от перенапряжения ногах поплёлся к нему. И упал рядом. Начштаба лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Наконец, он очнулся.
Очухавшись, он пробормотал:
– Кажись, ушли. Теперь он нас не найдёт.
– А кто это был? Дядя-гадя?
– Факт, – подтвердил Вовка. – Тихушник.
– Какой тихушник? – не понял я.
– Не знаешь? Выслеживает всяких – и в Кресты. Втихую подкрадываются к человеку – и бац! А «оттуда возврата уж нету». У вас как тюрьма называется?
– Тюрьма. На улице Сталина. Рядом с баней. Наверно, тюрьма имени Сталина.
– Вот. Он оттуда. Ходит по городу и за всеми подглядывает. Хвать! И в Кресты. У вас, может быть, и имени Сталина. Хотя едва ли. Вождь всё-таки.
– Но мы с тобой ничего плохого не сделали. Играли.
– А сабля? Вдруг она какому-нибудь контрику принадлежала? За такие игры, знаешь, куда упекают? И песню про Сарочку пели.
– Ну и што? Её все поют. Вся Свобода. Что теперь? Леонид Утёсов даже воровские песни поёт. Сам у Сурата пластинку слышал… «С одесского кичмана бежали два уркана…»
– Запрещены такие песенки. Понимаешь? Нельзя их петь. И про бедного дядю Лёву – тоже нельзя. Они антисоветские. Нарушение закона.
– Какого закона?
– Не знаешь?
– Не-ка.
– Ну что ты, Юр, как будто вчера родился – ничего не знаешь. Не обижайся.
– Я и в натуре не понимаю ничегошеньки из того, что ты наговорил.
– Сколько людей за такие песенки в тюрьмах оказались – тыщи! А ты: «Не знаю!» Так что больше в жизни таких песенок не пой, понял?
– А почему же ты пел? И мне не сказал ничего.
– Бывает и на старуху проруха. Все поют, и я запел. Забыл, что надо всегда бдеть.
– Понял, Вовк. Саблю жалко. Я бы ни за что не отдал. Какая-то детская песенка – это смешно, Вовк. Саблю-то зачем бросать? Какому-то мужику чужому. Он, может, и не мильтон вовсе, а свистанул. А ты клюнул. Уши развесил.
– Твои слова: «Сабля тебе досталась»?
– Мои. Не отказываюсь от своих слов. Никогда.
– Вот и всё. На этом закончим разговор. Была сабля – и нет сабли. Мы с тобой всё равно друзья?
– Друзья. Навсегда.
– Вот и будем дружить. А сабля, даже булатная, – не главное в жизни. Дружба – вот что самое ценное. Мама мне как-то сказала: нипочём не попадай в милицию. Кого туда забирают – те конченные люди. Пропащие на всю жизнь. Как я могу одну маменьку оставить? Она без меня умрёт.
Возражать я не решился.
…По домам возвращались с оглядками – по Красноармейской, Труда и Пушкина.
Проходя по какому-то двору, Вовка снял чёрную пиратскую повязку с глаза, зашёл в туалет и вернулся без неё и ножен.
– С пиратством покончено, – заявил он. – Забудь.
Ещё долго с сожалением вспоминал я о клинке. Подобного предмета мне в дальнейшей жизни не привелось видеть. [28]28
В семидесятые годы случайно попалась мне книжица о златоустовском булате. Я и не ожидал, что она преподнесёт мне такой сюрприз. По всей видимости (я в этом уверен, правда не совсем), автором фрагмента найденной нами сабли мог быть великий оружейный мастер Бушуев.
[Закрыть]
И однажды опять вслух высказал – не удержался – своё недовольство поступком (в моём понимании – неразумным) Вовки: что он метнул куда-то в заросли репейника на поживу какому-то мужику драгоценный клинок – с ним вполне можно было смыться.
Выслушав меня, он сказал:
– Юр, ты любишь всяких животных. Даже скользких лягушек. А я их терпеть не могу. А ты читал об ящерицах? Они, когда им грозит опасность, сами оставляют свой хвост хищникам, напавшим на них. И спасаются, пожертвовав собственной частью тела. Ты у Брема поинтересуйся. Тебе не кажется, что мы тогда поступили, как ящерица?
Вопрос был настолько неожиданным, что я на него не ответил. Лишь удивился сообразительности Кудряшова. Хотя Альфреда Брема «Жизнь животных» я прочёл с увлечением все четыре имевшихся у меня тома, и в одном из них про ящериц, конечно же.
Мне вспомнился эпизод из моего детства – я был уверен, что оно уже давно прошло, – когда со старшей группой детсадовцев летом тридцать девятого года отдыхал в лагере посёлка Каштак (это был первый лагерь в моей жизни). Из любопытства я изловил на тёплой клубничной поляне небольшую ящерицу – не терпелось поближе рассмотреть её. Но серого цвета юркое животное вывернулось из моих ручонок, оставив в ладошке… свой шевелящийся хвост.
…Я не стал больше спорить с начштаба, но так до поры и не оценил, какая опасность нам, а более – нашим семьям, угрожала. Да и сабля принадлежала Вовке, и он вправе был поступить с ней как пожелает. И всё-таки долго не смог смириться с нашей потерей. Но запрещённых песен уже не пел никогда. Зато в другом концлагере – всего через восемь лет, когда стал рабсилой, то есть рабом, – до седьмого пота деревья рубил и пилил на лесоповале, добавляя свои к десяткам и сотням штабелей (рядом, на отработанных лесосеках), уже сгнивших и изъеденных мириадами рогатых жуков, – подневольный труд сонма зеков, получивших свои скудные пайки «черняшки» и порции баланды за изнурительные потопролития, угробившие здоровье и жизни миллионов советских рабов, чтобы воздвигнуть рукотворные памятники большевистскому идиотизму, называвшемуся «строительством коммунизма в отдельно взятой части земного шара».
И каждый раз, когда наши руки двухметровой, умело отточенной зубастой «кормилицей» с шумом и мощным ударом о землю роняли красивую тяжеленную золотистую столетнюю сосну, мне вспоминались отсекаемые бритвенной остроты осколоком сабли ветви захваченного нами «брига», якобы наполненного «золотом».
1975 год.Правка 1980 года
Шумел сурово брянский лес
Шумел сурово брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли,
Как шли на битву партизаны.
И грозной ночью на врагов,
На штаб фашистский, налетели,
И пули звонко меж стволов
В дубра…
В дубравах брянских засвистели.
Врагам в лесах спасенья нет…
Летят советские гранаты,
И командир кричит им вслед:
«Громи,
Громи захватчиков, ребята!»
Шумел сурово брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли,
Как шли с победой партизаны!
Замазка [29]29
Впервые рассказ опубликован в сборнике рассказов двух авторов – В.А. Блинова и Ю.М. Рязанова – «Хлебная карточка» (Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1986. С. 120–137).
[Закрыть]
1943 год, начало лета
В Челябинске на этом месте высится громадное многоэтажное здание. А в то время простиралась городская базарная площадь. Барахолка. Проходя мимо этого дома с высоким и просторным, как танцевальная площадка, крыльцом или поднимаясь на массивные, розового гранита, ступени, мне иногда вспоминается история, приключившаяся здесь в начале лета сорок третьего. Вернее – с нами. Спутником моим подвизался братишка Славик, ему пошёл седьмой год.
…Уходя на работу, мама оставила записку: «Юра, пойди и купи кусок мыла. Деньги завёрнуты в платок. Не потеряй». В узелке обнаруживаю сто пятьдесят рублей. Для нашей семьи это большие и очень нужные для самого необходимого деньги, месячный заработок мамы – восемьсот рублей. Тратить деньги приходилось очень экономно, и в основном – мне. Мамина получка вместе с продуктовыми карточками хранится в незапирающемся – ключи я растерял ещё в далёком детстве – старинном, от бабушки доставшемся, шкафу в пустой, матового стекла, сахарнице, задвинутой для безопасности в глубину верхней полки.
Ежедневная выкупка хлебного пайка и отоваривание продуктовых карточек в магазине, к которому мы прикреплены по месту жительства, – моя забота. Вся ответственность – на мне. И долг перед семьёй.
Маму со Славиком мы почти не видим неделями. Она уходит на завод – мы ещё не проснулись, а возвращается – мы уже в постели: набегавшись за день до изнеможения, спим.
Когда она отдыхает, не знаю. У меня уверенность – никогда. Потому что ночью успевает выстирать нашу одежонку, заштопать чулки и носки и хоть из чего-нибудь сварить, из того, что удалось раздобыть, из подпольных запасов, какую-то еду на следующий день. Или два. Как придётся.
По дому мы сами управляемся: моем пол в оставленной неведомым мне начальством нашей семье комнате, вторую, не до конца достроенную (не отштукатуренную), забрали как «излишки» метража. Стираем пыль с мебели: с венских скрипучих стульев, дубового, несдвигаемого – такой тяжеленный – стола, с огромного, в резной деревянной раме, зеркала – до потолка – с подзеркальником на точёных ножках-балясинах и настенных часов с «музыкой» – тоже от бабушки остались нам. Если б не бабушкина мебель, жили б мы в пустой комнате, так мне думалось. Зимой топим печь и выполняем простые, но важные мамины поручения. В магазинных очередях надо стоять терпеливо, иногда по многу часов, потому что неожиданно устраиваются коварные пересчёты и на ладонях переписываются химическим карандашом новые номера. Кого не оказалось на месте, тот выбывает из очереди. И никаких оправданий, никто тебя и слушать не будет.
Рос я пацаном очень подвижным: заиграешься с ребятами – вернёшься домой с пустыми руками. А на следующий день талоны почему-то объявляются продавцами «недействительными» – просрочены! А ведь хлеба на всех просто не хватало, мало привозили. Кто занимал место в хвосте очереди, тот был обречён. «Порядки!» Знавал я и эти великие огорчения. Забота же о хлебе – только моя обязанность. Славик – ещё малец. С него никакого спроса. Я уже взрослый. В мае исполнилось одиннадцать. И я обязан постоять за себя и братишку, если кто на нас «потянет». [30]30
«Тянуть» на кого-то – запугивать, провоцировать на драку, демонстрируя своё превосходство (уличное слово).
[Закрыть]Одним словом: старшо́й. Ответственный.
Базар тоже дело ответственное, не раз на нём бывал. В магазинах нужного ничего не купишь. Кроме «сен-сен» в аптеке. Везде всё можно достать лишь по блату, по знакомству, а на базаре, как в сказке, есть то, что пожелаешь. Спасибо старухе Герасимовне, согласилась выкупить и нашу хлебную пайку – упросил.
…На базар отправляюсь вместе с братишкой. Лето нынче палит как в Африке. По булыжникам и опасно выступающим острыми углами осколков кирпичей дореволюционных мостовых, их с тех пор никто не ремонтировал, бежим, взявшись за руки.
Радостное необъятное утро наполнено звонким щебетанием птиц – им-то что, воробьям продуктовые и хлебные карточки ни к чему – природа всем обеспечила.
День только начался, а тротуары успели раскалиться так, что жгут подошвы босых ног. Необыкновенно жарким, знойным выдалось лето сорок третьего.
…Вот он, базар, – бурлящий, бушующий мир, зрелище – интереснее не увидишь даже в цирке. Продираемся сквозь месиво толпы, сами не зная куда. Никакая волшебная сказка, – а я их вместо школьных учебников быстро прочитываю – книгу за книгой, без передышки, за год десятки, часто даже про уроки забывая, – ничто не может сравниться с тем, что здесь, на базаре, увидишь и услышишь.
– Папирёсы «Метро»! – кричит подросток-оборванец возле ворот. – Папирёсы «Метро»! По дешёвке отдаю! Три рубля – штука, пять – пара! Раз курнёшь – в рай попадёшь! Налетай – хватай!
От ворот вдоль забора сидят и стоят торговцы самосадом-крепачком. Пробираемся мимо них. Останавливаемся лишь возле старика – лешего, заросшего дикой серой бородищей настолько, что волосы, не умещаясь на лице, выпирают из ушей и ноздрей.
«Леший» – мастак расхваливать свой товар, от которого дыхание спирает даже у завзятых курильщиков.
– Самосад – ядрец, затянешься – слабаку пиздец! Красненькая всево за стакан! С походом на козью ножку даю! Самосад – што вотка, прочищает кишки и глотку лучче всяких лекарствов!
Понимаю, что употребляет он нехорошее, так называемое матерное слово. Его на улице и раньше слышать приходиось, но смысла не разумею.
Дед оглядывает нас, разинувших рты, жёлтыми прокуренными глазами и шикает:
– А ну, кыш отсюдова, мелюзга карапузая! Товар загораживаетя…
Мы перебегаем на другое место. Худющий и поэтому кажущийся ещё более высоким старик, неподвижный, с большим кадыком, почему-то напоминающим мне гирю настенных ходиков на стене квартиры Вовки Сапожкова, басом хрипло вещает:
– Личения риматизьмы и протчих болезней целительным лектротоком по методу хранцуза профессора Шарко. Пять рублёв сеанец. Палный курс – десять сеанцев. Анвалидам-хрантавикам – льготный тариф.
Слева от старика-«богомола» (вспоминается рисунок из третьего тома «Жизни насекомых» Фабра, ещё дореволюционного издания, купленного мною здесь же, на «развале», у лысого невысокого старичка, недорого, потому что уж очень истрёпанной выглядела книга. О приобретении до сих пор не сожалею – очень интересным оказалось). Но вернёмся к старику-«богомолу», рядом с которым возвышается привинченный к трёхногому штативу лакированный деревянный обшарпанный ящик с застеклённым экраном. Красная стрелка уткнулась остриём в большой чёрный ноль. Над цифрой не очень искусно нарисованная картина изображает богатыря с лихо закрученными усами и прилизанной, на пробор, причёской – невиданно важный господин. Дореволюционный. То ли это портрет француза Шарко, то ли, в молодости, самого владельца чудодейного аппарата, то ли таким может стать любой «анвалид», принявший курс лечения «лектротоком». Даже по «льготному тарифу». Не понимаю, что это за «тариф» такой? Однако спросить не решаюсь – всё это так захватывающе и таинственно. Глаза старика закрывают синие круглые, с пятачок величиной каждое стёклышко, очки в железной оправе. Они придают лицу лекаря непроницаемость и строгость.
Какой-то счастливчик, не очень старый – лет тридцати, деревенского облика, бросает целителю червонец. Сразу за пару сеансов. Как за морс с двойной порцией сахарина. [31]31
Сахарин – белое кристаллическое вещество, очень сладкое. Вероятно, химического происхождения. Выдавался по продуктовым карточкам вместо натурального сахара. В народе назывался «американским».
[Закрыть]Разувается и становится на подобие деревянных сандалий, обитых снаружи ярко начищенными пластинами жёлтой меди. В руки берёт из того же металла сияющие шары, соединённые, как и сандалии, проводами с нутром волшебного ящика. На боковой стенке аппарата – ручка, а на экране – полукруглая шкала с цифрами. Старик натужно вращает отполированную за десятилетия деревянную ручку. Стрелка пляшет, щекочет усатого Шарко. Толпа стискивает кольцо. Старик трубно изрекает:
– Осади! Аппарат заряженный!
Предупреждение действует. «Заряжен» – все понимают – опасное слово. Окружающие оживлённо обсуждают происходящее на их глазах чудо.
– Што ошушает пациэнт? – вопрошает старик с достоинством циркового конферансье, и кадык-поршень движется вверх-вниз, выталкивая скрипучие слова.
Пациент натужно улыбается и просит:
– Ничиво! Поддай ишшо, на весь червонец. Штобы без сдачи… Штоб до жопы достало!
Старик «поддаёт». У счастливчика испарина выступает на лбу, а глаза вытаращиваются. Но он терпит, твёрдо решив принять целебного «лектричества» на всю десятку – до копейки.
– Помогает? – спрашивают зрители пациента.
– Пр-р-робират, едри ево в корень, – выдавливает из себя пациент. – Аж яйца трясутся!
– А ты покажь! – предлагает кто-то из публики. – Здорово трясутся?
Все окружающие улыбаются или смеются, довольные зрелищем. И шуткой.
Сеанс окончен. Пациент вытирает лоснящуюся физиономию рукавом рубахи. Садится на пыльную землю, чтобы обуться. Осклабясь, сообщает:
– Ох, и пробрало! Аж в жопе свербит!
Все гогочут, ублажённые «остроумием» «вылеченного пациента».
Лишь владелец чудесного аппарата сохраняет невозмутимую торжественность. Он обеими руками ощупывает врученную следующим пациентом пятёрку и засовывает её за пазуху. Да он слепой! Ну и ну… И лечит! Сам слепой, а других лечит… Ништяк! [32]32
Ништяк – ничего себе, вот здорово. Имеет и другие смыслы (уличная феня).
[Закрыть]
Вот если б у меня, мечтаю, вдруг разыгрался жуткий ревматизм или «протчие» болезни! Исцеление – вещь несомненно полезная. Было бы о чём корешам [33]33
Кореш – друг (уличная феня).
[Закрыть]рассказать. Меня озадачивает другое: старик одет в порыжевший суконный сюртук, в латаные брюки и в… валенки. Видать, от ревматизма пимы помогают слепому другу профессора Шарко куда лучше, чем волшебный аппарат.
И всё-таки электрический ящик заманчиво интересен. Исследовать бы, что там внутри, в чём лечебное электричество хранится. Я бы живо этот ящик разобрал и развинтил, опыт у меня богатый, – да жаль не мне принадлежит – чужой. Однако есть на базаре кое-что более привлекательное. Книги! Вообще-то я беру их читать в детской библиотеке. Или «глотаю» в читальном зале, вместо того чтобы пойти на занятия в школу. Но здесь такое можно увидеть, чего в библиотеке днём с огнём не сыщешь. Например, тоненькие книжечки приключений знаменитого сыщика Ната Пинкертона, безумно интересные журналы «Всемирного следопыта» с фантастической повестью Беляева «Продавец воздуха», с рассказами о загадке века – Тунгусском метеорите и много-много других драгоценностей, желанней которых нет ничего на свете. Торговцы, видя намётанным взглядом несостоятельность пацана, жадно разглядывающего книги и журналы, сердито приказывают:
– Положи на место! И не лапай… Гро́шей не хватит купить.
– Хватит, – хорохорюсь [34]34
Хорохориться – делать вид, храбриться напоказ (уличное слово).
[Закрыть]я.
– В твоём кармане вошь на аркане, – подзадоривает один из торгашей.
Так и подмывает развязать платок и показать зарвавшемуся хамюге аж сто пятьдесят рубчиков! Чтобы не скулил, [35]35
Скулить – одно из значений этого слова – «подначивать, вызывать на откровенность, на скандал или драку» (уличное слово).
[Закрыть]коли не знает. Да нельзя. Кругом шныряют хапалы – вмиг из рук деньги вырвут и нырнут в толпу – ищи-свищи их днём с фонарём.
Да сейчас нам и не до книг. Хотя и мелькнул в людском водовороте знакомый, небольшого ростика, лысый старичок – торговец «беллетристикой» – он не такой злой, как остальные. И не вор. Просто спекулянт. И книголюб. Знаток! Я у него кое-что приобрёл. Мелочь в основном. Брошюрки.
Очень много повсюду встречается стариков, старичков и старикашек. Реже – стариканов. До войны их было значительно меньше. Старух, конечно, тоже хватает. Особенно – в магазинных очередях. Сплошь неугомонная говорливая старушня. Десятки, сотни… Ещё дореволюционные – настолько древние. Война! Все, или почти все, кто может сражаться с фашистами, отправлены на фронт. Он находится где-то не так уж далеко. Мы это живо ощущаем здесь, на Южном Урале. О фронте напоминают школьные подвалы – бомбоубежища, крестообразно наклеенные на оконных стёклах бумажные полосы, заросшие лопухами обезлюдевшие дворы, фанерные или жестяные звёздочки на многих воротах и домах тихих улиц, словно прислушивающихся к чему-то, настороженных, ожидающих. Особенно врезался мне в память на улице Могильниковского, напротив нашей школы номер три, деревянный одноэтажный домик с могильным холмом и памятником-тумбочкой перед окнами. Кто там похоронен? Фронтовик? Или расстрелянный революционер? Храбрости не хватает постучать в калитку и спросить. Да и кого спрашивать – ни разу никого не видел даже во дворе или рядом с домом, окружённым забором из высокого штакетника.
Мальчишескую фантазию подстёгивают и трофейные фляжки, котелки, даже кастрюли, сделанные лудильщиком дядей Яшей из немецких рогатых касок. Видел я у везучих ребят и настоящие фашистские военные ордена – кресты с чёрным нутром, в светлой металлической оправе, сорванные с битых оккупантов под Москвой и Сталинградом. У пацанов много чего диковинного есть!
Не только ежедневные сводки Совинформбюро мужественным голосом Левитана звучат из чёрного круглого «Рекорда», висящего на стенке нашей комнаты. О войне, о всех нас, о моих сверстниках, всенародное ощущение огромной беды, навалившейся на страну, приносит и народная молва – свои, особые, сведения о происходящем на фронте. Совершенно серьёзно я тоже собираюсь на передовую, где день и ночь ведутся решающие сражения, где падают, подкошенные меткими пулями наших снайперов, ненавистные немцы. Точно такие, как на плакатах «Окон ТАСС», – безобразные гориллы с паукастой свастикой на закатанном рукаве, не очень-то и страшные, если разобраться толково, с пониманием. Больше – смешные, нелепые, противные, мерзкие.
О своём заветном намерении братишке я не проговорился ни разу, хотя он тоже собирается на фронт. Я-то понимаю, что его задумка – детская фантазия. Он и автомат не поднимет, слабак. Уж не говорю о «Максиме» – пулемёте, любимом по кинофильму «Чапаев» и, по-моему, самом грозном нашем оружии. Побольше бы таких пулемётов и гаду Гитлеру давно бы пришёл капут! Не успели мы «Максимов» понаделать их столько, чтобы у каждого красноармейца имелся свой пулемёт, – вот в чём беда. Но ничего – всё равно победим. И без Славика обойдёмся. Вырастет, тогда и пойдёт воевать. А пока…
На брата я надеюсь в другом, очень важном деле. Он должен заменить меня дома. Конечно, ему не нравится, когда я заставляю его носить воду из колонки в вёдрах на коромысле. Понемногу. По полведра. Поливать огородные грядки, мыть пол и посуду. Нудное стояние в магазинных очередях тоже необходимо. Не понимает он ещё этой истины. Много им из-за этого непонимания пролито слёз. Но Славка – последний мужчина в нашей семье. Маме без его помощи, понятно, не справиться. Поэтому-то и приучаю его к самостоятельности, готовлю – срочно! – замену себе.
На фронт мы задумали сбежать вдвоём с корешем из соседнего двора.
…Мы прочёсываем базар вдоль и поперёк, однако мыла не находим. Без Славки я шустрее всё обежал бы, да не бросишь братишку. Так и буравим густую толпу: впереди я, он – следом, с зажатой в моей ладонью. В другой крепко держу платочек с тремя синими пятидесятирублёвками. Чтобы не отняли, не вырвали.
Неожиданно оказываемся возле павильона вблизи от выхода на улицу Елькина. В нём продаётся дорогая снедь: топлёное молоко в бутылках разного роста – от чекушек до четвертей. Топлёное молоко жёлтым маслом застыло у горлышка, шоколадными пенками манит варенец, румянятся пирожки с ливером; глаз не отведёшь от ноздреватого – натурального! – пшеничного хлеба, крупных буханок и нарезанного на куски; молочные конфеты-тянучки и божественного вкуса маковники – этакие белые и серые валики с палец толщиной, по пятнадцать рублей пара… Так и тянет хотя бы по одной купить и насладиться. Но отвожу глаза. Усилием воли. Должен же мужчина быть волевым!
Появляться возле павильона – в народе его нарекли «Обжоркой» – со Славкой нежелательно. Он сразу же начинает канючить, клянча купить ему что-нибудь. То бутерброд вдруг приглянется с настоящим жёлтым сливочным маслом (не серым искусственным маргарином), то разварной картофель в крынке, укутанный в старую телогрейку, чтобы не остывал, то американская консервированная колбаса, нарезанная тонкими пластиками, до того солонущая, что после от водонапорной колонки хоть не отходи, – покупатели говорили – сам слышал; то морсу с сахарином, видите ли, он попил бы – не учитывает человек, что деньги можно тратить лишь на самое-самое необходимое, на вязанку дров например. Или на керосин, который продаётся, как молоко, бутылками, заткнутыми жирными газетными пробками. Керосин по молодости лет его не интересует. Ему даже забавнее, когда мы вечерами для освещения жжём лучины над тазом с водой. Электричество у нас давно отключили. Оно необходимо заводам. На них делают снаряды и танки. Самое важное, без чего не добиться победы над врагом.
Возле «Обжорки», чего я и опасался, Славик упёрся и заревел горючими слезами, когда увидел прилавки, заставленные и заваленные яствами и питиями, о которых можно лишь мечтать. Ничего не могу с ним поделать. Упёрся – и всё. Уговоры не действуют. Рыдает: бутерброд с колбасой хочу! Человеку почти семь лет исполнилось, скоро в школу топать. Совсем взрослый! А несознательный.
Вдруг раздаётся истошный вопль. Женский. Толпа тяжело переваливает к месту происшествия. И мы туда же. Не до бутербродов! Интересно же! Что там случилось?
– Украли! Лови падлу! – пронзительно орёт испуганная, полнощёкая молодая баба с выпученными глазами.
Одной рукой она закрепощённо держит небольшую корзину с пончиками, другой вцепилась в лохмотья заросшего грязной щетиной, наголо остриженного, неимоверно исхудавшего молодого мужчины, который и не пытается сбежать, – чего ловить-то его? Что орать на весь базар?!
Он закрыл лицо ладонями, но тут же в изнеможении обессилено роняет руки, а торговка, не спуская глаз с корзины, повизгивая, бьёт его по голове и плечам, и я вижу – он что-то пытается запихнуть в рот.
Впалые глаза у стриженого мужчины неподвижны и словно остекленели. Невидящие. Его бьют желающие развлечься, а он продолжает жевать.
Из толпы выскочил парень в надвинутой на глаза кепочке и одним ухарским ударом поверг незадачливого вора наземь. И, пиная его, приговаривает: «Ух! Ух!»
А лежащий всё равно жуёт, давясь, хрипя и кашляя. И не может проглотить. Задыхается.
Славка заплакал, увидя эту отвратительную сцену.
– Дяденька, не надо! – кричу я что есть силы, а Славик, держась за меня обеими руками, ревёт ещё пуще – от испуга. Хоть видно, как он повзрослел за год, но остался ласковым, дружелюбным, тихим, домашним мальчиком и не переносит подобного зверства. Придёт из садика и сидит в уличной канаве, из песка домики лепит. Даже драться не умеет! Совсем не уличный пацан.
…Избивающий застывает с воздетым кулаком и повёртывается ко мне. У меня от неожиданности подкосились ноги – он улыбается! Во рту его блестит стальная коронка. Или хищная слюна. По внешнему виду – хулиган из Колупаевки. Есть у нас в городе районный – с таким смешным названием, – пользующийся дурной славой гнойник. С колупаевскими почти никто из свободских пацанов не связывается, говорят, они с ножами ходят. И запороть могут ни за что. Потехи ради.
– Ах ты, цуцик! – негромко произносит фиксатый [36]36
Фикса – зубная коронка из стали, меди или золота (уличный жаргон).
[Закрыть]и замахивается на меня. Руки мои сами собой инстинктивно взметнулись над головой, а глаза зажмурились. Славка с воплем рванулся в сторону и повис на ком-то, это я ещё успел увидеть, – страшно!
Но удара не последовало. Когда я разомкнул веки, то передо мной предстала такая сцена: руку улыбчивого истязателя сжимает другая рука, в белёсом обшлаге гимнастёрки.
Мой спаситель стиснул запястье колупаевского ухаря с такой силой, что кулак окрасился в лиловый цвет.
Человек в солдатской гимнастёрке цедит, не разжимая зубов:
– Не тронь детей, мерзавец. Детей и стариков истязают только изверги, фашисты.
– Ты чево, чево? Отпусти! В натуре! Пусти, чево вчепилса? – растерянно повторяет обидчик, оглядываясь. – Псих, што ли? Невменяемый, да? Контуженный, чо ли?
И неожиданно тонким голосом верещит:
– С мотылём набздюм, да? Из одной кодлы, [37]37
Кодла – шайка преступников (воровская феня).
[Закрыть]да? – и показывает свободной рукой на лежащего, который корчится в пыли то ли от побоев, то ли от рвоты. Не пошёл ему впрок торговкин пончик.
У меня тоже возникает тошнотное состояние. От увиденного.
– Заткнись, паук тыловой, – побледнев, произносит человек в выцветшей гимнастёрке и с отвращением сильно отталкивает парня. Он, не удержавшись, падает. Под общий смех зевак. Быстро вскакивает, но не скрывается в толпе.
В левой руке невысокого плечистого человека, моего защитника, вижу трость, на которую он опирается. Трость очень красивая – в глазах рябит, набранная из разноцветных полированных колечек оргстекла. Выглядит она весьма увесистой. Обидчик мой от того, несчастного, злобно матерясь, пятится, призывает толпу помочь расправиться с человеком в солдатской форме. Раздаются угрожающие выкрики – откуда-то из-за спин. Но вперёд выступает ещё один человек, одетый в такие же видавшие виды гимнастёрку, галифе и ботинки с обмотками.
– Кому контуженный понадобился? Я контуженный, – заявляет он. В руке у него пара новых байковых портянок и пачка махорки с надписью «Смерть фашистам».
Что есть, тот тем и торгует. На горбушку ржаного, наверное. Вид у этого человека довольно воинственный.
На гимнастёрке ещё одного нашего заступника, слева, нашиты цветные матерчатые узкие полоски – две красные и одна жёлтая. И медаль белого цвета.
– Раненые, раненые, – слышится шепоток из толпы, из-за спин. И громче: —Фронтовики… Смываемся, братва! Их до хера!
– Что тут происходит, браток? – спрашивает продавец портянок владельца разноцветной трости.
– Какой-то подонок самосуд учинил, – отвечает он, и я вижу, что на его гимнастёрке помимо новенькой медали тоже желтеет полосочка.
Я уже обнимаю за плечи зашедшегося плачем братишку. Мы оба изрядно испуганы. Я – не столь угрозой хулигана, как враждебностью толпы: на нас столько пялилось свирепых морд и зыркало волчьих глаз – испугаешься! Стая! Толпа и есть толпа: опасна для жизни – растерзают.
Колупаевец исчез, будто его слямзили. [38]38
Слямзить – украсть (уличное слово).
[Закрыть]Но продолжает громко кудахтать торговка пончиками, прикрыв на всякий случай корзину широким подолом длинного цветастого платья. Она зло поносит человека с тростью. Требует «уплотить» за пончик.
Но хромой не обращает внимания на наглые приставания и хулу. Сильно припадая на левую ногу, он подходит к лежащему на земле, тормошит его. Окликает. Тот не встаёт. Наверное, у него просто нет сил подняться. Да жив ли он? Пола серого цвета куртки задралась, обнажив шелудивое тело с рёбрами, напоминающими прутья разодранной корзины. Глаза по-прежнему невидящие, остекленелые. Только лицо мокрое – в каплях влаги. Пот или слёзы. Колошматили ведь кому не лень. Пинали! Всю накопившуюся злобу на него обрушили, беззащитного.
Мне становится нестерпимо. Не выношу кровавых расправ, драк. Душа отвергает. Будто не кого-то другого, а меня терзают. Больно! Мне больно становится. Поэтому и драться не люблю. Только вынужденно. В ответку. Когда защититься надо от нападающего.
Схватив Славика за непослушную дёргающуюся руку, устремляюсь почему-то к дальним воротам, выходящим на улицу Кирова.








