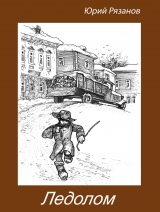
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 48 страниц)
Тётя Мотя, добрая душа, быстрёхонько скипятила на электроплитке большую алюминиевую кружку воды, и я, обжигаясь, принялся маленькими глотками опорожнять её – отогреваться.
Гардеробщица охала и пыталась разузнать, как такое несчастье со мной стряслось: «весь до нитки промок».
Грешник, я соврал, хотя не раз клялся себе, что буду всегда правдивым, но опять не сдержался: дескать, меня окатила проезжавшая мимо грузовая автомашина – «трёхтоннка».
– Господь тебя уберёг, што не попал под её, – посочувствовала мне, безвольному вруну, старушка. – Гонят, как самошедчии. Прямо на детишак.
И мне стало так противно за себя, что на кого-то наклеветал.
– Нет, она по дороге ехала. Это я оплошал, – поправился я.
– Сугрев-то дошёл до нутра? – спросила она. – Тада от батареи-то отодвинься, я твои вещички развешу, пущай подсохнут.
И зачем только я соврал тёте Моте? И во мне возникла жалость к ней. И недовольство собой.
Вот это человек так человек! – подумал я. – Хоть и вид у неё зачуханный. Зато завуч Александрушка разве напоила бы меня кипятком? Да ни в жизнь! Потому что произошла она от злой крысы, а не от доброй обезьяны, как некоторые люди. И ещё в дневник накрапала, чтобы отец «принял действенные меры» для моего «исправления». [243]243
Несколько десятилетий спустя я осознал, что нас, советских людей («совков»), всю жизнь – от рождения до смерти – беспрестанно «воспитывают» и «перевоспитывают», стараясь превратить в рабов государственной системы – карательной системы. Мне стало понятно: в основу её заложены чудовищные ложь и насилие. Тех же, кто не поддаётся такому воспитанию, умерщвляют в тюрьмах и концлагерях. Безумный большевистский геноцид народов СССР на протяжении более семидесяти лет (он и сейчас продолжается, мутируя, как инфекционная зараза) унёс преждевременно в могилу десятки миллионов жизней самых плодотворных, способных людей, тюремизировав население страны.
[Закрыть]Она постоянно предлагала такое «воспитательное средство», наверняка зная, что родители меня накажут. И каким способом – причинив боль.
Я подозревал, что она злорадствовала и наслаждалась, рисуя в своём мстительном воображении эти «действенные меры». Какие гипотенузы и катеты с «А» и «Б», которые сидели на трубе, могли возникнуть в моей голове после того, как она кровавыми чернилами в очередной раз образцово-показательным, безукоризненным почерком строчила донос в мой дневник – всякую чепуху и глупости? И я испытывал к этой отутюженной, внешне симпатичной, ещё довольно молодой женщине самые недобрые чувства. И, вероятно, не умел скрыть их. Она видела всё в моих глазах. И мстила. Как могла. А возможностями уязвлять она располагала неограниченными. И это меня угнетало, доводя до отчаянья. И верно двигало вон из школы – к исключению.
…В класс я заявился в конце смены, после того как отогрелся и пришёл в себя. И завуч, сухопарая, плоскогрудая, с одеревеневшим смазливым кукольным лицом, даже не спросив меня ни о чём, брезгливо потребовала дневник и ненавистным тоном спросила:
– Что это такое, Рязанов? Это не дневник, а каша. Ты это нарочно сделал? В канаве, что ли, его размочил?
Я не выдержал, произнёс когда-то слышанную фразу:
– Каждый судит о других в меру своих пороков!
Эти слова вырвались у меня сами собой. И вдруг лицо завуча побагровело, и она заорала, да, именно заорала:
– Вон из школы! И чтобы твоего духу здесь не было! Хулиган!
Всё моё поведение в школе, вернее в родном классе, в котором пребывал всего несколько минут, было оценено хуже некуда – как хулиганство. Для меня стало ясно: суровая расплата неминуема. За случайно вырвавшуюся фразу.
Она столь же брезгливо отшвырнула волглый дневник и процедила сквозь зубы, не взглянув на меня:
– Отец пусть завтра же придёт!
Она столь разгневалась на меня, что даже не вызвала к доске для объяснений.
Вечером мною была выдержана «атака» мамы. Но беспощадного, молчаливого хлестанья ремнём с латунной пряжкой с выпуклой пятиконечной звездой, оставлявшей многочисленные, но уже розового цвета отпечатки на моих тощих ягодицах, не состоялось. Маме я правдиво рассказал обо всём, что произошло со мной на мосту и в школе.
Папаша всегда так называемые экзекуции совершал безмолвно. Под мои стоны. Сегодня я заранее решил предотвратить эти издевательства. Хватит! Я уже взрослый человек – четырнадцатый год скоро минет!
Уже давно я думал о себе как о вполне самостоятельном человеке. Сегодня же, после признания в своих проступках, я заявил родителям, что больше не потерплю никаких физических наказаний – тут же уйду из дому. Навсегда.
Папаша не выполнил свой «отцовский долг», пожалуй единственный, который он оставил за собой в деле воспитания сына и молча, устроившись на диване, закинув ногу на ногу, смолил, как всегда, «беломорканалину», стряхивая пепел в стеклянную продолговатую пепельницу с бортиками и изображениями трёх вогнутых с тыльной стороны лошадиных морд с уздечками. Я же под присмотром плачущей мамы, во время «экзекуций» обычно уходившей на кухню, сейчас читал за одним концом старинного дубового, с раздвижной столешницей, фундаментального, на века сработанного стола, вернее, в который раз перечитывал «Как закалялась сталь» вместо домашних заданий (другой был отведён Стасику и занят им), и ничего не мог сообразить, обуреваемый волнением, – всё во мне бурлило. Накопилось!
В моё воображение обидой выталкивались то побои отца, о которых он уже, наверное, давно забыл, то врывалась, бушуя, речная сумасшедшая стихия ледохода.
Мама, прибегая с общей кухни, где постоянно готовила что-либо съестное или кипятила в эмалированном тазу грязное бельё к грядущей стирке, то и дело заглядывала в открытую книгу, надеясь, что я передумал и взялся за уроки. Но я решил не отступать. Ни за что!
Отец же время от времени, не отрываясь от свежего номера газеты «Челябинский рабочий», ограничивался краткими и равнодушными замечаниями в мой адрес, слышанными мною и раньше множество раз:
– Балда! Дворником [244]244
Дворником в усадьбе деда Алексея служил подобранный на панели полуживой от голода завшивленный придурковатый мальчишка – нищий неизвестного происхождения по имени Гаврюша (Гавриил). Дед, купец, торговавший лошадьми, человек состоятельный, пригрел мальчонку. За свой труд, как шутил отец, Гаврюша получал полный пансион и не выпускал метлы с утра до вечера. В тридцать седьмом году Гавриил случайно встретил отца на улице, вцепился и передал «органам» как барчука. От смерти отца спас А. Авдеев – бывший комендант пленённой царской семьи. Расстрелян как «враг народа» в тридцать восьмом году. О нём упоминается в других моих рассказах.
[Закрыть]будешь. Улицы подметать. Ямы будешь копать. Балда!
Да, я готов был стать и дворником. Даже землекопом. Даже ассенизатором! Кем угодно, лишь бы не сносить подобных постоянных унижений. От ужина я отказался, несмотря на упрашивания мамы, – не мог проглотить и ложки овсяной каши. Будто горло сдавило.
Часы пробили одиннадцать, я улёгся на свою железную кровать (Славкина стояла рядом, тоже вдоль стены пристроя, превращённого во вторую, «детскую», комнату) и закрыл глаза. В моей памяти опять возникли грандиозные сцены ледолома. Они вытеснили позорные «экзекуции» и Крысу-Александрушку.
«Какое же это красивое, даже прекрасное и одновременно страшное, грозное природное действо!» – опять про себя восхитился я. И вдруг ни с того ни с сего даванула мысль: из дома придётся всё-таки уйти. Не знаю куда, но придётся. Пусть они и родители мне, но сколько можно терпеть унижения? Они образованные, грамотные, а не понимают, да и не в состоянии понять, а может, не хотят, какими интересами я живу, к чему стремлюсь, что могу, а чего – не могу. Я для них всё ещё несмышлёный ребёнок и предназначен, чтобы беспрекословно выполнять их приказания. И для битья. Мальчик для битья. Виноват не виноват – получай ремня! Всё. Для них школа важнее самого меня. Фетишь! А я – ничто. Для отца же ещё и обуза. Которая тяготит. Мешает ему жить в спокойствии и довольстве. А мама? Ну что – мама? Она его рабыня.
Вон, во время войны наравне со взрослыми вовсю трудились на заводах и других производствах даже двенадцатилетние пацаны. Фронту помогали. И их за это уважали. Правда, война завершилась. И я давно из этого возраста вышел. Повзрослел. Так неужели не смогу найти и освоить рабочую специальность? И содержать себя. Учиться можно и в ШРМ. Не во всех же школах прогрызли стены «крысы»? В ШРМ лучше, чем в обычной общеобразовательной, – пацаны рассказывали. Вот только ещё бы и крышу над головой найти. В этом насущная цель. Тогда я стал бы абсолютно самостоятельным. И независимым.
Я им докажу, что не маленький мальчик для битья. Хотя и маленьким тоже нельзя устраивать «воспитательные экзекуции». Откуда только отец это словечко выкопал, из какого дореволюционного замшелого жестокого прошлого? Это же издевательство над человеческим достоинством! А я человек! Уже давно – человек! А не ребёночек.
Ни мама, ни отец ни разу не удосужились со мной поговорить как со взрослым. Мама, правда, при всяком удобном случае читает мне длинные морали. В них всё правильно. Они придуманы на все времена. А вот, чтобы со мной, со своим сыном, поговорить по душам, посочувствовать, вникнуть в мою суть, – редко. И получаются все её вечные истины – безжизненными. Теоретическими. Истинами вообще. И толку от них – мало. Хотя, конечно, я их придерживаюсь. Даже соблюдаю такие незыблемые правила, как: не укради, будь справедлив ко всем, не обижай слабого… А вот кое-какие правила у меня не исполняются, не получаются. Например, не лги.
Бывает, обманываю. И не то что хочу кого-то надуть или сознательно исказить истину, а так получается. Само собой. Помимо желания моего. По обстоятельствам. Ну и обижаю (и обижал) незаслуженно братишку. Зачем, спрашивается? Потому что, наверное, старший, и хочется, чтобы он во всём мне подчинялся. Сам не люблю насилия, а Славку заставляю. Виноват перед ним, конечно, что и говорить.
И у меня возникла такая жгучая жаль к Стасику, такая, что встал бы, обнял его, прижался и сказал бы самые хорошие, самые добрые слова. Но он давно потихоньку сопит. Да и все эти обнимания и прижимания происходили только в моём воображении. Завтра с ним душевно потолкую и подарю что-нибудь из своих заветных предметов.
К этому моменту у меня на отца с мамой и обида прошла – долго серчать на кого-то не умею. Особенно на маму. В отце же я заметил и отметил кое-какие несоответствия в поведении. Он мнит себя культурным, интеллигентным и знающим человеком, весь вечер слушает репродуктор, а читает лишь одну газету. И держится перед всеми важно, недоступно, будто возле него не такие же люди, а какая-то мелюзга. А загляни он в четырехтомный словарь Ушакова, купленный на деньги, заплаченные мне им же за чистку дворовой общественной уборной и подметание территории вокруг нашего дома и дорожки до уличной калитки (по расписанию, составленному домкомом тётей Таней, наступила его, как квартиросъемщика, очередь, но разве папаша возьмёт в руки лом или метлу!), то узнал бы, кто такие балда и дворник, которыми он, негодуя, обзывал меня. Неужели я и впрямь настолько незнающий и недалёкий, глупый человек? Так я даже Вовку Сапожкова не называл, чтобы не обидеть, хотя все были наслышаны о его слабоумии и многие пацаны дразнили. А Вовка в ответ лишь громко и надрывно плакал – он воспринимал свою болезнь как незаслуженно обрушившуюся на него беду. Неужели и я в понимании отца выгляжу таким же недоумком? Я должен, обязан доказать, что вовсе не балда. И отцу – в первую очередь.
Как только напряжение рассуждений стихло и почти прошло вовсе, цель дальнейших моих действий совершенно определилась. Про себя-то я знал, уверен был, что вовсе никакой не балда, и не обалдуй, и способен совершать хорошие дела, достойные настоящего человека. И это осознание укрепило веру в себя, кто бы что обо мне не сказал.
Я окончательно понял, что мешаю отцу. Отягощаю его спокойную, удачно налаженную им жизнь. Личную жизнь. Вот почему он всегда безразличен ко мне. И не скрывает, что я для него не существую, в упор не видит меня.
Раньше мне почему-то представлялось, что мы живём единой дружной жизнью, упроченной навсегда названием «семья». Однако месяца три-четыре назад мне пришлось убедиться, что это вовсе не так. Помог понять случай.
…Почему они не услышали скрипа снега под моими валенками и звука открываемой калитки слишком, наверное, увлеклись?
Когда я приблизился к крылечку нашего тамбура, широченная отцовская спина приоткрыла того, с кем он разговаривал.
Беседу, вернее окончание спора, я запомнил: мама, удерживая отца за рукав кожаного, на меху, чёрного модного пальто, убеждала:
– Не хватает, как ты не можешь понять, Миша?
– Ты их нарожала, вот и корми. И одевай, – отвечал отец жестко, спокойно, однако не очень трезвым голосом. Опять, наверное, заявился из ресторана «Арктика», что на улице Кирова, – с юности его любимое времяпрепровождение в нём.
Мама увидела меня, спохватилась:
– Юра вернулся. Идёмте в квартиру, чего мы здесь на морозе стоим…
Я догадался обо всём. И меня это ошарашило.
Достав из-под половичка на приступке ключ, я открыл дверь тамбура, после взялся за винтовой квартирный запор – пятимиллиметровая полоска железа со спичечный коробок шириной – по наследству от Гудиловны достался – и боковым зрением наблюдал, как отец щёткой тщательно очищает белые фетровые бурки, оголовлённые коричневым хромом, – дяди Лёвы Фридмана прекрасная работа.
Пока возился с запором, меня точил услышанный обрывок разговора родителей, он оглушил меня словно дубиной по голове – такое осталось ощущение.
Мне и раньше, в дни получек отца, когда он заявлялся обычно под хмельком, приходилось нечаянно слышать просьбы мамы дать денег на прожитьё. Но глава семьи то ли шутя, то ли серьёзно (он сразу после возвращения с фронта переписал квартирный ордер на себя, а мы все попали в разряд «квартирантов» и «иждивенцев») на все вопросы, просьбы и требования мамы помогать содержать семью отвечал односложно:
– Я уплатил за квартиру и электричество.
Эта фраза означала, что долг свой он выполнил. Остальные заботы – мамины. И мои со Славкой. Например, пилка и колка дров, водоснабжение и другое.
Мне странным казалось, что получки отца, а оклад у него был немаленький, рублей сто пятьдесят, да ещё всякие непонятные премиальные, которые начальство распределяло между собой, нашей семье хватает всего лишь на оплату коммунальных услуг. Но дальше удивления про себя я не смел задавать никаких вопросов – в дела взрослых нам, детям, не дозволялось соваться.
Хоть поздно, однако до меня дошло, что в семье нашей не всё столь благополучно и справедливо, а я в ней – обуза. По крайней мере, для отца. Может быть, поэтому он и лупит меня с таким ожесточением. Вымещает на моих рёбрах и ягодицах своё недовольство за недопитое вино и пиво в «Арктике», иногда отдавая матери выпрошенные ею рубли.
Выходит, моё решение верно: надо уходить из семьи, где тебя не любят, обижают, презрительно не замечают, считая дармоедом, недоумком. Ведь я мешаю отцу спокойно пропивать в возлюбленном ресторане в своё удовольствие то, что предназначено для весёлой, вольготной и безмятежной его жизни. И чем дальше, тем больше неприятностей я доставлял ему. Какой же я недотёпа!
Теперь всё встало на свои места. Я лишний рот! «Ты их нарожала, ты и корми!»
Вероятно, я и в самом деле – тягость для семьи. Уйду, и мама перестанет выбиваться из сил. С одним-то Стасиком меньше хлопот. Хоть ей облегчу жизнь. А то продыха нет несчастной моей маме, мантулит, словно каторжная. Всю войну и сейчас. И до войны, помнится, то же было. Только я этого не мог уразуметь. Пацанишка. Лишь игры на уме.
И мне стало так жалко мою несчастную маму, что слёзы навернулись на глаза. Но сдержался, не заплакал. Лишь в горле ком стоял.
В этот миг совсем некстати в памяти с фотографической точностью снова возник ледоход и чей-то движущийся накренившийся нужник, покрашенный в ядовито-зелёный цвет.
Я убрал это сооружение с экрана внутреннего видения и пошарил в памяти, но ничего, кроме льдин, несущихся к Саду-острову, где мы, пацаны, летом любили загорать на травке под высоченными вековыми тополями, ничего интересного не нашёл.
«Лишь бы Сад-остров не снесло», – успел ещё подумать я. И уснул, хотя до того меня иногда продолжала сотрясать внутренняя дрожь.
В полутьме раннего утра меня осторожно разбудила мама, она смотрела на меня лихорадочно поблёскивавшими чёрными глазами и тихо произнесла:
– Тихо! Не разбуди Славу. Юра, я не спала всю ночь, всё думала о тебе. Я тебя прошу: не убегай из дому. И прости нас за наши несправедливости. Отец устроит тебя учеником плотника в ремстройучасток. Если ты не выполнишь этой просьбы, мне будет очень плохо, очень… Запомни это, сынок.
Сынком она меня никогда не называла, вероятно полагая излишней нежностью.
Спросонья я не сообразил, что ответить на её слова. А мне хотелось сказать, что люблю её. Потому что она моя мама. И она заботится обо мне, как и о братишке, переживает. Но через секунду мне подумалось, что всё это мне снится. Я повернулся на другой бок и словно провалился во что-то вязкое и горячее.
…Утром перед большущим бабушкиным зеркалом, вглядываясь в своё отражение, я обнаружил на губах светлые водянистые волдыри. Но ничуть не пожалел, что простыл, стоя промокшим на временами срывающемся с фундамента мосту и устремляющемся к Саду-острову с головокружительной скоростью. Где и когда ещё удастся увидеть подобное зрелище, склонившись над бушующей пропастью, и ощутить всю неимоверную жуть, красоту и мощь природы? Ведь частица её, я это безобманно почувствовал, вселилась, проникла в суть мою, стала частью меня. С этого мига я увидел и воспринял себя другим. Свободным!
1966–1985 годы
Васильки
Всё васильки, васильки,
Сколько мелькает их в поле,
Часто у самой реки
Мы собирали для Оли.
Оля сорвёт василёк,
Низко головку наклонит:
«Милый, смотри, василёк
Мой поплывёт и утонет».
Оля любила реку,
Ночью она не боялась,
Даже всю ночь напролёт
С милым на лодке каталась.
До ночи он просидел
И пригласил кататься,
Оля согласна была
В лодке ночной покататься.
Плыли они далеко,
Лодка сама так и плы́ла,
Тихо всё было кругом,
Оле опасность грозила.
Он её на руки брал,
В очи смотрел голубые
И без конца целовал
Бледные губы худые.
Олечка венчик нашла,
Синий венок васильковый.
Милый смотрел ей в глаза,
Взгляд его был невеселый.
Вынул он острый кинжал,
Низко над Олей склонился.
Оля закрыла глаза —
Венок из рук повалился.
Олечку он погубил,
Оля навеки скончалась.
Тихо всё было кругом,
Олю на волнах качало.
Утром пришли рыбаки,
Олю на волнах качало,
Надпись была на груди:
«Олю любовь погубила».
Мила [245]245
Впервые опубликован в сборнике повестей и рассказов В.А. Блинова и Ю.М. Рязанова «Хлебная карточка» (Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1986. С. 180–207).
[Закрыть]
1946 год
…Я решил стать сильным, выносливым и смелым. Наверное, к этому меня подвигнуло, кроме героев книг о путешествиях и приключениях, и то, что потребовалась реальная, а не в мечтах, защита общественного огорода.
Какой-то злодей повадился по ночам подкапывать картофельные кусты. Действовал хитро: вроде бы всё на месте, а наиболее крупные клубни умыкнуты. Иногда, в спешке, вор вырывал куст, обдирал, а ботву втыкал в лунку, торопливо заваливая её землёй. Растения, конечно же, засыхали.
Обнаружение следов ворюги взбудоражило население нашего дома. Женщины дружно жалели пострадавших, проклинали неизвестного грабителя. Пуще других неистовствовала тётя Таня. Все понимали, что без запасов картофеля ей с сыном не прозимовать. Тётя Таня клялась, что никаких на продажу ценных «вишшей» у них нет, а тётя Аня, сестра, их не прокормит – у самой две девки, два рта (дед Семён умер ещё в позапрошлом году от великого огорчения). Данилова работала – как упоминалось выше – в банной парикмахерской уборщицей и не раз с горечью всем повторяла, что «окромя тьмы-тмушшей вшей» да мизерной зарплаты «пликмахтерская» ей не даёт ничего. Толька учился в девятом классе, никакого приварка к хлебным пайкам они не имели, это точно, потому что Иван Данилов «пропал без вести» в первые дни войны, и перебивались единственно варённой «в мундире» картошкой. Часто без соли. Да и для всех остальных, исключая тётю Дашу Малкову, завмага, потеря даже одного клубня становилась ощутимой для семьи.
Кто же он, этот лиходей, которого за глаза я прозвал «колорадским жуком»? [246]246
В народе говаривали, что этого жука-вредителя завезли с продпомощью из Америки.
[Закрыть]Все бились над неразрешимой загадкой, предполагали, даже называли фамилии подозреваемых, но…
Бабка Герасимовна высказала мнение, что нашу картошку «жрут хвашишты, што ш хронту утекли». К бабкиным догадками едва ли кто отнёсся серьёзно. Однако все сходились в мнении, что пакостничает чужой, кто-то не из нашего двора – сколько кругом голодных людей! Тётя Таня сгоряча даже назвала имя похитителя – старуху Каримовну. Но и в это нельзя было поверить – дряхлая и почти совсем слепая, Каримовна и днём-то не смогла бы выкопать своими негнущимися, с опухшими суставами, пальцами даже один клубень.
Изловить! – решили все соседи. А как? Герасимовна посоветовала поставить на супостата «волший капкан». Но где его достать, этот капкан? И тогда тётя Лиза Богацевич, одинокая бессловесная женщина, обитавшая в крохотной комнатёнке, похожей на стенной шкаф, – дореволюционной прохожей из кухоньки Малковых в комнату тёти Марии Герасимовой и её детей, – предложила наладить ночные сменные дежурства – поочерёдно.
Мне соображение умной тёти Лизы сразу понравилось. И я опередил всех:
– Готов дежурить как тимуровец хоть каждую ночь. Пока не захвачу врага в плен.
– Милай шын, – расчувствовалась бабка Герасимовна, – Боженька тобе поможет ижловить идолишшу поганого, шивоглота эдакого. Што б у ево, вражины, руки отшохли…
С согласия мамы, на зависть Стасику, я перебрался жить в сарай.
Ну и вольница! Никакого за тобой досмотра, ни указаний – сам себе хозяин! Тем более с утра до обеда я работал учеником плотника в ремстройконторе КЭЧ УралВО, вечером имел право вздремнуть – и всю ночь свободен!
Половину всей площади дровяника заняла широченная поломанная «варшавская» кровать с облупленными, когда-то никелированными шарами, ещё дедовская (я намеревался разобрать её и сдать на металлолом за ненадобностью). Но хорошо, что не успел осуществить своего замысла – пригодилась.
Под самодельной подушкой у меня хранится бесценное сокровище – наушник, которым завладел в результате сложного обмена изготовленных мною удилищ и других рыболовных снастей с крольчонком породы шиншилла в придачу. Теперь без помех можно слушать радиопередачи допоздна. Проводов хватило… На свалке трамвайного управления разыскал.
Казалось, беспричинно во мне ещё летними днями сорок пятого всё чаще возникали и прокатывались бурные волны радости: хотелось громко петь, скакать на одной ноге, карабкаться на высоченные деревья и крыши домов, где много простора, неба, ветра, солнечного света, различных звучаний, которые не услышишь на земле.
Живя в сарайке, я наконец-то осознал себя не только равноправным со взрослыми, но и самостоятельным человеком. Не удивительно, что именно мне доверили столь ответственное дело – охрану общественного огорода.
В дощатой стене сарая обломком ножовочного полотна выпилил окошечко, сам застеклил его – отсюда отлично просматривается бо́льшая часть грядок – до остатков заборов, недоломанных на топку, отделявших наш двор от соседних.
Приладив один конец обрезка водопроводной трубы между досок стенки сарайки Богацевичей, другой вставил в щель стенки соседнего, Малковых, сарая – получился турник. На нём можно подтягиваться и раскачиваться на руках или висеть вниз головой на согнутых коленях. Тут же, рядом с турником, лежат пузатые гири – ещё одно моё богатство. Я не ленюсь поднимать их помногу раз – до изнеможения. Каждодневные обмеры бицепсов обрывком портняжного метра, однако, не показывали желанных результатов. Нетерпение же стать сильным было велико. И я снова и снова поднимал до боли в мышцах чугунные гири с названиями «1/2 пуда», «10 фунтовъ». Тяжеленную пудовую гирю я еле-еле выжимал над головой обеими, дрожащими от напряжения руками. Видимо, поэтому меня пуще всего и тянуло к ней. Я тягался с ней, как с противником.
С воспитанием храбрости получилось проще. Самое главное, рассуждал я, надо научиться ничего и никого не бояться. Никого! И я не уступал в стычках с пацанами даже заведомо более сильному противнику, предпочитая синяки позорному званию труса. Но у меня была одна «слабина». О ней никто, кроме мамы, не знал – боязнь полной темноты. Её-то, эту боязнь, мне и предстояло побороть до конца.
Для начала я в потёмках полез на чердак Вовкиного дома, где находился штаб нашего тимуровского отряда. В кромешной темнотище, вытянув вперёд руки, обошёл, спотыкаясь о балки, все чердачные закоулки. Сердце колотилось сильно, но ровно. Не знаю, что со мной стряслось бы, наткнись я на кого-нибудь. Но я не отступил, не повернул к выходу, когда над головой вдруг что-то громко захлопало, со свистом и клёкотом. Через мгновение до меня дошло, что это вспугнутые со стропил голуби-новосёлы, и лишь тогда очнулся от оцепенения.
Ночью заставлял себя лазать в густых зарослях сирени. Признаюсь – тоже было жутковато. Да и ночёвки в сарае оказались отнюдь не безмятежными – подчас явственно слышались чьи-то шаги, то чёткие и уверенные, то лёгкие, крадущиеся. Желание укрыться одеялом с головой преодолевалось тяжким усилием воли. Ещё труднее оказывалось встать и выглянуть в окошечко или, отодвинув деревянную задвижку, отворить дверь и выйти во двор. Но я выходил, подавляя страхи, порождённые неизвестностью: что тебя ожидает?
Днём – другое дело: за огородом мог присматривать даже Стасик. Когда же сумерки прижимались к грядкам, требовался отважный сторож. Нужно было время от времени обходить по межам все участки. Но вот мрак заливал всё вокруг, и только силуэты домов и деревьев различались на свеженаписанном тёмно-синем небе, мерцали крупные, если приглядеться пристально, россыпи пылевидных бесчисленных звёзд. Это зрелище меня завораживало, и я подолгу не мог от него оторваться. По тоненькой книжечке Воронцова-Вельяминова мне нравилось отыскивать созвездия со сказочными названиями: Стрелец, Водолей, Дева. Особенно я полюбил «черпаки» Большой и Малой Медведиц. А самым заветным светилом почему-то выбрал большую голубую, а временами почему-то зеленоватую звезду, висевшую над нашим домом. Прищурь глаза – и от светящегося кристалла во все стороны вытянутся лучики-иглы, до самой земли. Но иногда, чем дольше я смотрел на голубую звезду, хотя по книжке она значилась планетой по имени Венера, тем более одиноким сам себе казался. И тем чаще думал о Миле.
В ту пору мне вдруг начали нравиться некоторые, в основном соседские, девчонки – я испытывал неясное влечение к ним. Этому притяжению что-то противоборствовало во мне. Наверное, застенчивость. Рядом же с Милой мне было хорошо и спокойно. Непоседа и сорванец, я, оказывается, мог часами разглядывать вместе с Милой большущий том «Истории гражданской войны» в ярко-красном матерчатом рубчатом переплете. Не без Милиного участия я ещё больше пристрастился к чтению. Книги, которые она давала мне, оказывались необыкновенно интересными. За «Серебряными коньками» и «Маленьким оборвышем» я проводил, перечитывая, дни напролёт.
Милу нельзя было назвать красивой девочкой – из-за худобы бледное лицо её выглядело несколько длинноносым и костистым, а тонкая шея неестественно вытянутой. Но дружбу с этой доброй и тихой девочкой я не променял бы ни на чью, будь то даже сказочная королева или бывшая соседка, похожая на красивую куклу, гордячка Нинка Мальцева. Мила обладала негромким голосом, но каким! С затаённым удовольствием я впитывал каждое произнесённое ею слово, каждый оттенок его, оставаясь молчаливым и робким, что никак не вязалось с повседневным моим беспокойным, шебутливым [247]247
Шебутиться – суетиться (просторечие).
[Закрыть]поведением.
О нашей дружбе я никому из знакомых ребят даже не заикался, понимая, что откровенный рассказ вызовет лишь непонимание и насмешки. Да и язык не повернулся бы кому-то о своих необыкновенных переживаниях поведать. Это была самая большая моя тайна от всех. Даже от мамы. И едва ли ей удалось бы вынудить из меня признание в чувствованиях к Миле.
Чего никогда не бывало раньше, я стал иногда рассматривать своё отражение в бабушкином старинном большущем зеркале и расчёсывать маминой костяной гребёнкой непокорные густые вихры.
И впервые не пожелал постричься к лету наголо, «под нулёвку».
Моей гордостью и постоянной заботой стали подшивание свежих воротничков, глаженье углевым утюгом полученных мамой в госпитале за ударный безвозмездный труд солдатской гимнастёрки и галифе. Неновая, простреленная в нескольких местах, разорванная осколками металла и аккуратно заштопанная и перешитая в аккурат под мой небольшой рост тётей Клавой, старшей сестрой отца, настоящая фронтовая форма наполняла меня гордостью и придавала уверенности. Некоторые знакомые ребята завидовали мне. В военной форме я себя чувствовал совсем другим человеком – способным совершить нечто героическое. «Настоящее».
Однако в последнее время стеснялся попадаться в этой форме на глаза Миле, потому что обувь – старые, растоптанные, не раз ремонтированные дядей Лёвой сандалии – ну никак не шли к галифе и доблестной гимнастёрке, затянутой в поясе отданным мне (подаренным отцом за ненадобностью) кожаным брезентовым ремнём с сияющей латунной бляхой, на которой рельефно выделялся государственный герб, не то венгерский, не то болгарский. А о кирзовых сапогах я и мечтать пока не смел. На базаре они стоили баснословно дорого – не хватило бы целиком маминой получки. Огород же я стерёг только во фронтовой форме.
Захватив, как всегда, большой ивовый лук и колчан с оперёнными стрелами, трижды за вечер обошёл весь огород вдоль забора, до зуда нажалив крапивой ступни ног. Убедившись, что на доверенных мне участках полный порядок и всё вокруг спит, отправился со спокойной совестью в дровяник. Уснуть долго не давали обожжённые до волдырей ноги. Забылся я только под утро, обернув ступни холодными листьями лопухов.
Приснился мне интереснейший, как кино, сон. Бегу будто бы я босиком по проезжей части нашей улицы, к своему дому, легко бегу, плавно и как-то невероятно медленно, отталкиваясь от раскалённых булыжников. И вдруг, распластав руки, оторвался от земли и… полетел. Чтобы поддерживать парение, достаточно лишь ненатужного движения рук, как при плавании «по-моряцки». Ликование наполняет всего меня, распирает грудь. Разгребая впереди себя тугой воздух, поднимаюсь выше и выше. Внизу проплывают крыши знакомых домов. Трамвай оранжевой гусеницей ползёт справа, по улице имени Карла Маркса. Люди, размером с букашек, движутся туда-сюда по канавкам, разделяющим кварталы строений. А там, слева, на Саде-острове, зеленеют купы карликовых тополей и блестит под солнцем серебряная лента реки.
Упоённый высотой, неоглядным простором и способностью свободно плавать в воздухе, зажмуриваю глаза от солнышка, пикирую вниз, на свой двор. Дух захватывает, как на качелях. Эх, взять бы Милу за руку, взмыть под облака и ещё раз увидеть эту красотищу – вместе. Вот здо́рово было бы!
А в ушах поёт ветер, и даже не ветер, – звучат оркестром небо и земля. Звуки сплетаются в чудесную, не слышанную никогда музыку. Раскрываю глаза: меня ослепляет солнечный луч, пробившийся в щель стены.
Но разбудил меня не только яркий свет – из чёрной эбонитовой коробочки наушника льётся сказочной красоты музыка, такая же радостная и светлая, как само утро.
Из оркестровой мелодии плавно пророс и расцвёл синим колокольцем женский грудной голос, голубым мягким светом устремился ввысь, загрустил, жёлтым тёплым дождём ниспадая на землю, с трогательной откровенностью рассказывая о ком-то дорогом, кого нет рядом, но долгожданная встреча с кем непременно произойдет. Лишь только пройдёт осень и зима пролетит. Но зима уже давно и безвозвратно прошла, и меня ждёт что-то такое грандиозное, чего ещё не возникало в жизни моей.








