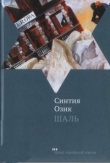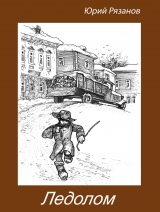
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 48 страниц)
Серёга произнёс:
– Ну, давайте, дружбаны, по последней на дорожку чекалдыкнем и разбежимся. А то чичас Валя за Витькой прибегит.
– Надоела она мне, – поморщившись, с пренебрежением произнёс Витька. – Во!
Виталька жил в соседнем двухэтажном, плотнонаселённом доме, окнами смотревшем на улицу (только не Витькиной квартиры), а два входа вели в него со двора. Один коридор – или веранда – нижнего этажа давным-давно переоборудовали в квартиру, длинную и узкую, опоясывавшую дворовую часть г-образной стороны дома. Тётя Валя не заставила себя ждать и вскоре, как я улёгся на полати, постучала в сенную дверь. Она выглядела немного испуганной. Ласково называя сына Виталиком и «радостью моею», она помогла ему одеться, но тот упирался, капризничал, хамил, словом – «выступал».
– Я тоже пойду, – вымолвил я заплетающимся языком.
– Такой бухой? Да ты, Рязан, на костылях [533]533
Костыли – ноги. В местах заключения так называют пайку (феня).
[Закрыть]еле стоишь. Завалишься в канаву. А помацай [534]534
Мацать – щупать, ощупывать, трогать рукой (феня).
[Закрыть]печку – какой Ташкент! – увещевал Серёга. – Утречком опохмелимся по капелюшке – и как новые ботинки на резиновом ходу…
Это Серёга так шутил. Вся свободская уличная пацанва горланила, пищала и сипела знаменитую частушку про ботинки на резиновом ходу и слова из неё употребляла, как поговорки. Похабщина – липкая, пристанет – не отдерёшь. Будет, как испорченная пластинка, долго крутиться в голове.
– Помацай, кака печка горяча. Сичас на лежанку забуримся с тобой. Утром – как зелёный огурец. Тебе чево дома-то в жопу нада? Один хипеш: где был, што делал, где кирнул? [535]535
Кир – пьянка, то же – кирять – напиться (феня).
[Закрыть]Короче: кончай со своим домом пиздеть – вота твой дом.
– Из еды кое-что подкупить: хлеба, маргарина, если повезёт… – бормотал я.
И тут как раз отец Кимки закончил свою «молитву» о «золотых кадрах» и увёл его с собой. Вскоре прибежала тётя Валя, и ей удалось выманить хамившего ей сына из избушки Воложаниных – она умолила Витьку последовать за ней. Тётя Валя постоянно боготворила своего единственного сыночка-красавчика. Кто был его отцом, лишь одной ей было ведомо, где он находился, Витька никогда не заикался, у уличных же пацанов не было принято дознаваться о родителях, если пацаны сами не рассказывали о своих «предках». [536]536
Предки – родители (уличное слово).
[Закрыть]Во время «визита» тёти Вали, хотя мне было очень муторно, я подумал: «Это она внушила сыну, что он самый красивый и умный, и поэтому Виталька с таким презрением относится к другим. И с ехидством».
Вдвоём мы устроились на тёплых полатях. Я сильно захмелел. Меня, когда я закрыл глаза, мотало и мутило. Кружение не сразу, но вроде замедлилось. А то всё казалось, что через голову переворачиваюсь. Странное ощущение. И постоянно подкатывал ком к горлу. Последними моими словами, обращёнными к Серёге, были:
– А куда мама твоя ляжет? Надо подвинуться теснее…
– Не бзди, Гоша. Она спит на кровати.
Успокоенный таким ответом, я всё равно ещё долго не мог уснуть. Уморился под утро. Сильный вкус махорки обжигал желудок. Наверное, её добавляли в зелье для крепости. Смышлёна голытьба на выдумки! Раскаялся, что пил эту мутную бурду, – не посмел отказаться. Да и возможно ли было такое? Уверен, никто меня «не понял» бы, не поддержал. Но зато, забегая вперёд, призна́юсь, что несколько лет не прикасался к спиртному, хотя были моменты, когда мог напиться, – отказывался. Помнил «банкет».
Всё – к Серёге больше ни единой ногой. Иначе он меня поработит. Втянет. Во что? Разумеется, в свою компанию. И придётся мне бегать от него, как зайцу.
Так я рассуждал, уже продвигаясь к нашему дому. Каким уютным и желанным виделся он мне мысленно в сравнении с деревенской избёнкой Воложаниных, в которой мне всё сейчас казалось чуждым. И сами её обитатели с хищными глазами лесных зверей.
Зайдя во двор, передумал передохнуть дома – лишь заскочу на минуту, положу на стол удостоверение, полученное вчера, пусть мама увидит, вернувшись вечером с работы. Хотя сегодня воскресенье, и, вернее всего, она дома. Как же я покажусь ей в таком похмельном виде? Но я постараюсь не задерживаться долго, скажу, что спешу, оказался в Челябе по случаю. Отдам удостоверение – только лишь. И на завод, в отряд. Надолго. Больше меня на аркане к Воложаниным не заманишь. Всё. Крест. На этом наша «дружба» закончилась.
Головная боль ослабела. Пройдёт! Но всё же – какая гадость!
О Миле старался не думать, может быть потому, что чувствовал себя отвратительно. И виноватым. И старался забыть вчерашний вечер: всё с ним связанное, что его касается, – забыть! Вспоминать даже противно. Хотя независимо от моих волевых усилий, в воображении как на экране кино, прокручивались обрывки «банкета», возникали рысьи глаза Серёги и его мамаши, – сумасшедшая пьянка (мне ещё ни разу не приходилось так «накачаться», разве что тогда, по глупости, в третьем классе) с нелепо сладким закусоном. Наверное, день-два эти кошмары будут меня преследовать, а потом работа и заботы вытеснят их. Про себя я осуждал своё безволие и глупость и, переступив-таки порог нашей калитки, пошукал ключ, оставляемый под половичком, лежащим на ступеньке.
Двери оказались незапертыми, и неудивительно – воскресенье, вся семья в полном сборе. Только я и предположить не мог, что вижу их всех вместе в последний раз в жизни.
Не надо
Раз вечернею порою мы гуляли с тобою
По аллеям заросшего сада,
И хотел я прижаться к груди молодой,
Они тихо шептала: «Не надо, не надо».
Сад давно опустел, разошёлся народ,
И снова ночная прохлада.
Я тебя целовал, тебя бросило в жар,
И ты мне лишь шептала: «Не надо, не надо».
Я старался коснуться своею рукой
Под роскошное платье наряда.
Ты прижалась ко мне, не владея собой,
И всё же шептала: «Не надо, не надо».
Твоё платье поднял я рукой
И коснулся ценнейшего клада.
Всё помялось в жаре этой тихой порой,
И я больше не слышал: «Не надо, не надо».
Капкан
26 февраля 1950 года
Нет, этого я ещё не осознавал. Не мог признать… Вычеркнул!
Всё происходило как всегда, казалось, по навсегда завёденному порядку: мама кипятила на кухне в тазу бельё и одновременно готовила воскресный обед, Слава выполянл уроки на завтра, отец находился на своём «служебном» месте…
Выслушав от мамы полученное количество упрёков, сказался больным – чувствовал себя и в самом деле скверно – и прилёг на свою койку. Объявлять себя хворым было весьма опасно – мама приняла бы решительные меры для моего выздоровления. Поэтому пришлось пояснить, что я просто устал и малось отдохну.
Лишь вечером, вздремнув, но всё ещё не поборов похмельного отравления, перед поздним обедом продемонстрировал удостоверение слесаря четвёртого разряда, на которое отец даже не взглянул, а мама задала несколько десятков вопросов. Отвечать на каждый приходилось, еле сдерживая раздражение, всё ещё сказывалось похмелье. Этого не могла не заметить мама, и пришлось признаться, что вчера мы «немного выпили» – «обмывали» удостоверение. Солгал.
Опять пришлось говорить неправду, от которой меня уже почти тошнило. «До каких пор?» – спрашивал себя. И почему лгу, словно какой-нибудь неразумный пацанишка? Стыдно перед теми, кого обманываю, и перед собой.
Вторично сославшись на недомогание (ох это пойло, настоянное на махорке!), лёг на кровать и закрыл глаза. На моём мысленном экране возникли эпизоды вчерашнего «банкета», отвратительного, которого лучше бы вообще не было. Но он был! И халва, которую я ел, хотя где-то в сознании всё чётче признавался: она не могла быть неукраденной. И так погано становилось от содеянного. Хоть вой!
Ко мне подошёл братишка и рассказал о своих успехах. Мало того, что он хорошо учился в школе, на городских соревнованиях ему присвоили третий разряд по греко-римской борьбе. Я увидел, насколько он повзрослел и окреп. В свои четырнадцать лет он выглядел намного мужественнее. Молодец! Не то что я… Безвольная мямля.
Утром, перед уходом на работу, меня разбудила мама и, тревожась, спросила, внимательно поглядев в глаза, не захворал ли? Не лучше ли пойти в поликлинику, к терапевту? Погода такая опасная – весна. Мне удалось убедить её, что со мной всё в порядке. В общем, здоров. И работоспособен.
К открытию книжного магазина на конечной трамвайной остановке ЧГРЭС я выкупил последний (первый) том «Жизни животных» и, немного повеселев, вернулся домой. Что-то мне подсказало пройти соседним двором – от догляда тёти Тани – перелезть через штакетник, открыть калитку и войти в свою квартиру, чтобы положить на место том. Но через стену Данилова либо её гости расслышали какие-то подозрительные звуки в комнате, в которой, по всем предположениям, никого не должно находиться: тётя Таня точно знала, в какое время, куда и зачем ушли соседи или кто когда появился. Либо может вернуться.
Когда я принялся запирать дверь, «гости» тёти Тани убедились, что в соседней квартире что-то происходит – в ней кто-то есть. Я успел лишь разогнуться, прикрыв ключ половиком, как в этот миг калитка от сильного рывка распахнулась, и в проёме её появились две высокие и весьма плотные мужские фигуры в штатской одежде. Один из них, похожий внешне на цыгана, быстро приблизился ко мне почти вплотную и немного хриплым голосом произнёс:
– Милиция!
И показал мне раскрытое, но зажатое толстыми пальцами какое-то удостоверение, с которого на меня глянула вроде бы фотография того же цыганистого верзилы.
Ещё при первой встрече, лишь обменявшись взглядами, я безошибочно угадал, что это милиционеры и пришли они за мной, чтобы выяснить, какой халвой вчера мы угощались у Серёги. Никаких сомнений у меня не осталось, что день рождения Рыжего, если это были именины, а не просто пьянка-буска, [537]537
Пьянка-буска – пьянство без повода (уличное выражение).
[Закрыть]подслащены краденой халвой. Странно, что первыми милиционеры пожаловали ко мне, а не к Воложаниным. Впрочем, мне так лишь показалось. Ещё одна группа в эти минуты могла «работать» у Воложаниных, третья – у Витьки. Но как они разнюхали обо мне, кто указал наш адрес?
– Оружие есть? – нахраписто спросил «цыган» и без лишних объяснений принялся сноровисто обыскивать, выворачивая мои карманы. Заставил распахнуть бушлат и общупал его и всего меня. Второй, такой же здоровяк, вероятно, подстраховывал напарника, находясь рядом. И, только взглянув на напарника, цыганистого милиционера (фамилию его я не успел прочесть, настолько быстро сыщик, щёлкнув крышками, спрятал его во внутренний карман «москвички», а второй мне вообще никакого документа не предъявил), я увидел тётю Таню – она с любопытством выглядывала из-за спин стражей порядка.
Меня удивила её сияющая безмерным счастьем, растянутая в блаженнейшей улыбке физиономия. Она торжествовала. Ни до ни после я ни разу не видел её такой ликующей.
Забегая на много лет вперёд (а соседство наше оказалось длинным), проговорюсь, что мне искренне жаль эту несчастную женщину, потерявшую сына Анатолия, так и не дождавшуюся сгинувшего в плавильне войны, в её страшном, адском пламени, будучи отправленным в числе первых на фронт, мужа Ивана, верность которому хранила и после окончания Великой Отечественной ещё долгие годы, «не сходясь» ни с кем, – надеялась (даже после гибели сына) на чудо – приход «с хронту» её любимого Вани.
Последний раз я встречался и беседовал с тётей Таней в семидесятых годах: она к этому моменту почти полностью ослепла – «выплакала глаза от горя», сожитель покинул её. И навещала несчастную сморщенную старушку лишь племянница Эдда Васильева. Слушать мне жалобы одинокой, беззащитной женщины, почти инвалида, было до слёз больно, а помочь ничем не мог – обзавёлся собственной семьей, вдобавок систематические преследования партийных людоедов постоянно держали меня «на мушке», и я вынужден был сбежать из Челябинска в Свердловск, где меня и тут не забыли чиновники из «передового отряда строителей счастливого общества на всём земном шаре», но это уже другой рассказ.
А сейчас давайте вернёмся в двадцать шестое февраля пятидесятого года, сенным ступенькам, ведущим в родной дом. Двое громил, обыскивающих меня к небывалой радости тёти Тани со сверкающими глазами: отомстила за стрелу, настигшую её во время подкапывания картофеля в грядке Дарьи Александровны Малковой. Повторюсь: такой ликующей за все почти сорок лет соседства я Татьяну Данилову не видел ни разу. Она выскочила из квартиры вслед за милиционерами, чтобы не пропустить самое интересное, – даже не замечала, что может простудиться, – в стареньком-то бязевом халатике – её самая заветная мечта наконец-то осуществилась! Да будь она совершенно обнажённой, уверен, на снегу стояла б – такое зрелище! Наслаждение!
– Фамилия, имя, отчество! – потребовал цыганистый.
Я ответил, хотя в руках сыщика уже оказалось моё свидетельство о присвоении мне разряда слесаря.
– Правильно! – подтвердила тётя Таня, не прекращая блаженно улыбаться. – Этто ён самый.
– Открывай квартиру. Будем производить обыск.
– По какому поводу? – заартачился я. – Не имеете права.
– Открывай, тебе говорят! По-хорошему.
– У меня нет ключа. Вы же меня обыскали.
«Не дай бог Данилова знает, где он лежит», – подумал я, – они в комнатах всё перероют – вот «подарочек» я маме преподнесу. За всё доброе.
Но, к счастью, ни тётя Таня, ни кто другой из посторонних не знали, куда мы прячем ключ от сенной двери.
– Где он? – настырничал цыганистый сыщик.
– У родителей. Я ведь не здесь живу – в общежитии. Заводском.
– Ён на заводе робит. Там жа и в обчежитии, видать, и прописан. Сюды редко приежжат. Завод-де-то далёко, на каком-то озере аль за озером.
Тётя Таня торопилась дорассказать обо мне всё, что ей было известно. Её словно лихорадило. Сейчас я догадался, почему цыганистый сыщик искал у меня оружие: несколько лет назад, играя в «войну», многие свободские пацаны понаделали «поджиги» и жахали из них, напихав в медные трубки серу, соскобленную со спичек, что пугало тётю Таню. И она кляла меня почём зря. Было такое «оружие» и у меня, было…
– Когда родители придут? – дожимал меня сыщик.
– Оне позжее возвернутся. Часов в восемь, аль в девять. У ево брат ишшо есть. Тот тожа запозна приходит: в сексии учицца. На борса.
Цыганистый взглянул на свои ручные часы.
– Ты считаешься задержанным. Пойдёшь с нами в седьмой районный отдел милиции. Бывал там или нет? Ну мы тебя доведём.
– Вы мне так и не сказали о поводе задержания.
– Ты подозреваешься в хищении. Там тебе всё разъяснят.
– Каком хищении? Чего? – настаивал я.
– Пошли! Там разберутся.
Второй милиционер зашёл сзади, цыганистый здоровяк вывалился из калитки, я последовал за ним.
А тётя Таня всё ещё горела радостным нетерпением разнюхать что-нибудь для сплетен, но милиционеры были лаконичны. Нет, не могла она простить мне ни подкопанной ею картошки с чужих грядок, ни стрелы, вонзившейся в её бедро, ни позора, которого тогда нахлебалась на домовом собрании. Теперь наступил сладостный миг отмщения. Теперь она чиста. А я опозорен.
Ещё раз убеждённо решил: то, что происходит со мной, наверняка связано с «банкетом». И мараковал: как мне вести себя там, куда меня ведут? Отрицать, что был вчера у Воложаниных? Ничего не знаю, никого не видел? Или честно признаться в «банкетном» веселии? А что я, собственно, такого противозаконного совершил? Ну съел кусок халвы на дне рождения знакомого. И всё. Откуда мне знать, что она краденая (хотя в этом сейчас я уже ничуть не сомневался). Очевидно, что попал в пакостную заварушку. Но если о халве расскажу, какие ещё могут быть ко мне вопросы? Я и в самом деле ничего не знаю о Серёгиных делах и происхождении халвы.
И я отважился рассказать правду. Если меня этой проклятой халвой прижмут.
Ну а тётя Таня здорово меня подловила. Эти двое громил сидели – выжидали у неё, пока я появлюсь. Даже это выведали. Почему-то Данилова не доложила милиционерам, что иногда возвращаюсь соседними дворами, перелезая через заборы или протискаваясь в их проломы. В этот раз кто мог знать о моём посещении дома? Только у Воложаниных я повторял, что направляюсь домой. Восвояси! Но как менты об этом узнали? Неудивительно, что сыщики оказались у тёти Тани. Всем давно известно, что к ней по вечерам регулярно наведывается наш участковый оперуполномоченный. Ясно, зачем. Ему она докладывала обо всём, о чём успела разнюхать или придумать о соседях. Ненапрасно мама предупреждала меня, чтобы с Даниловой ни о чём не откровенничал, – всё переврёт. Удивительно, как она умела искажать факты и сочинять небылицы или столь же фантастично пересказывать сплетню. Её и председателем домового комитета назначили, надо полагать, затем, чтобы следить за всеми нами и «докладывать куда следует».
Как она ликовала, когда, завернув ловко руки назад, меня обыскивал напарник цыганистого, а после и сам «цыган», пытаясь обнаружить огнестрельное оружие.
– Вы не имеете права, – прохрипел я.
– Мы на всё имеем право, – пробасил цыганистый, обшаривая карманы, и даже половой член пощупал.
Шагая за цыганистым, я мечтал лишь о том, чтобы нам навстречу не попалась Мила. Или не увидела всю эту позорную сцену из окна.
– Стой! – скомандовал старший (я почему-то решил, что он главный) и повернулся ко мне.
Я повиновался.
– Иди высрись и поссы. В отделе с тобой некогда будет валандаться, – приказал он.
– Чтобы не обоссался в камере, – ухмыльнувшись, добавил напарник. – А то ещё уделаешься…
Вот почему они остановили меня напротив сортира.
– Значит, долго будут держать, – подумал я, заходя в одну из двух кабин. – Предусмотрительные…
– Дверь не закрывай! – крикнул «старший», но я уже накинул крючок.
Почти в тот же миг сильный рывок широко распахнул дощатую дверь.
– Сказано тебе: не закрывайся! Садись, штоб нам видно было, чем ты занимашься. Римень выдерни совсем! Дай ево сюды!
«Олухи какие-то деревенские, – негодовал я про себя. – Обращаются, как со скотиной…»
– Снимай-снимай! Што ты, как невинная девица, – насмешничал напарник «старшо́го».
– Ну, чево ломасся? – угрожающе прикрикнул сам «старшой».
Меня удивило сходство хамского тона и самих выражений этих представителей закона и вчерашних Серёгиных уговоров.
– Отдайте! Мне его отец подарил, когда с фронта пришёл. Я и так никуда не убегу…
– Не разговаривать! Делай, што говорят, – рассвирепел «старшой». – Садись срать!
Я выпрыгнул из кабины, но меня сразу схватили за руки, и штаны, вернее суконные «трофейные» отцовские галифе, которые упали ниже колен. Должно быть, вся эта сцена возле сортира выглядела со стороны очень комично: двое здоровенных мужиков стиснули парня со спущенными галифе. Ох и хохотала, наверное, тётя Таня, уткнувшись в окно и наблюдая за нами.
– Отпустите! – орал я, дёргаясь в железных объятиях сыщиков.
– Садись! Мы скажем, когда тебе с толчка [538]538
Толчок – отверстие для отправления большой и малой нужды в общественных уборных.
[Закрыть]встать, – уже не столь грозно приказал напарник цыганистого.
– Чего вы ко мне пристали? Что вам от меня нужно? – почти закричал я.
И в этот момент, именно в это мгновение, случилось самое постыдное событие в моей жизни. Чего пуще всего боялся: по тропинке шла Мила…
Я попытался запахнуться в чёрный фэзэушный бушлат. Хотя она не посмотрела в нашу сторону, глядя себе под ноги, но мне подумалось, уверен был, что она видит, может видеть меня боковым зрением. Провалиться бы в выгребную яму и утонуть в ней, умереть, исчезнуть, но только не предстать перед ней в подобном виде!
Словно молния пронзила меня от макушки до пяток. Наверное, я потерял бы сознание, если б не упёрся свободной рукой в стенку, падая в объятия моих «ангелов-хранителей». Со мной творилось что-то ранее не происходившее…
– Чиво с тобой? С похмелья, што ли, на ногах не держисся? – обратил внимание «старшой».
«Гады! Гады! Они издеваются надо мной!» – сверлила меня единственная мысль. Обида переполнила всё моё существо.
Броситься на этого чернявого изувера, пусть лучше пристрелят! Чем терпеть такое кощунство! Позор на всю жизнь! Как после этого жить? Людям в глаза смотреть? Но я осознал: и сдвинуться не смогу с места.
– Отдайте, пожалуйста, мой ремень! Без него галифе не держатся. Что ж вы меня перед всеми позорите?
Слёзы заполнили мои глаза. Голос срывался.
– Рассапливился! Бушлат расстигни и штаны хватай обоими руками. За ошкур. Понял?
Более изощрённого издевательства за всю мою жизнь я не испытывал никогда.
Подкатило к горлу. Этого лишь не хватало!
– Холодно ведь… – вымолвил я срывающимся дрожащим голосом. – Отдайте ремень! – отчаянно выкрикнул я.
– Не думай совершить побег! Я стреляю без промахов. Холодна? В отделе милиции тебя «согреем». У нас тама жарка, – насмешливо поддержал предполагаемого мною «старшого» напарник.
А цыганистый, туго свернув офицерский трофейный широкий ремень с двумя рядами «язычков» жёлтой меди и такого же металла бляхой с неизвестным мне гербом, любовно гладил его по толстой коже, оставлявшей когда-то синяки и вмятины на моём теле – оценки школьных «успехов» и прочего.
Ремень явно нравился милиционеру, вероятно, не попадались такие раньше.
А у меня слёзы стояли в глазах. Нет, не отцовский подарок жалел – оскорбления, насмешки, хулиганское обращение – вот что довело меня до такого состояния.
– Я никуда не убегу, – сглатывая слёзы, унижаясь, выпрашивал я свой ремень, подтянув галифе и поддерживая их одной рукой. – Не бойтесь.
– Не убежишь… Знаем мы вас. Не первый год ловим, – отрезал отмеченный мною как «старшой». – Нам бояться тебя нечево. Ты бойся нас.
– Шагай за ним, – кивнул он на напарника. – Я следом пойду. Предупреждаю, стреляю без промахов: десять из десяти – в «яблочко». Понял?
Пошли «гуськом». У ворот я обернулся.
– Ты – чево? – зло и настороженно спросил меня «старшой». – Учти: я не шутю. Побегишь – стреляю без предупреждения.
А я остановился, чтобы, может быть, в последний раз взглянуть на Голубую звезду. Её не было видно.
– Шагай, не останавливайса. И не оглядывайса.
Я всё же посмотрел на небо, туда, где обычно висела она над Милиной комнатой и кухонькой.
– Каво высматривашь? Шагай вперёд и направо, тебе говорят, – повторил цыганистый, не вынимая руки из правого кармана «москвички».
Небо серело облаками, грязноватыми и рваными. Да и рано ещё – день. Она появится без меня… Чуяло моё сердце: не отпустят меня из милиции подобру. Ни сегодня, ни завтра…
…Когда мы зашли в знакомое мне, но переделанное внутри седьмое отделение милиции, цыганистый верзила, диктуя в дежурной комнате напарнику перечень изъятых у меня вещей (записная книжка, автоматическая ручка, носовой платок, удостоверение, немного денег мелочью), засунул в верхний ящик своего (возможно, и другого сотрудника) стола мой поясной ремень и сказал напарнику (он, наверное, пограмотней был):
– Ево фиксировать не надо. И книжку. В ей блатные слова. Пригодятся.
Тот понимающе кивнул головой и подсунул мне листок с напутствием:
– Подпиши, што подтверждаишь.
– А почему вы мой ремень забираете? Как я без него буду обходиться? И записную книжку?
– Не положено. Понял? Или тебе на кулаках растолковать, непонятливому? – угрожающе спросил «старшой». И так свирепо взглянул на меня, что я начертал свою фамилию, слабак.
– Число, число проставь. И месиц. Как положено. Неграмотнай, што ли? А то мы тебя быстра научим…
Я трясущейся от нервного напряжения рукой коряво вывел: «27 февраля 1950 года».
Явился в комнату, вероятно по звонку, дежурный милиционер.
– В камеру ево, – распорядился «старшой».
Когда я выходил из «дежурки», то услышал за спиной голос «старшо́го» и загадочную фразу:
– Этот парень… Как ево? Ризанов? Готов. Сдаю иво лейтенанту. Пушшай разрабатывают.
У меня эти слова вызвали недоумение. К чему я готов? Что они собираются у меня «разрабатывать»… Что за «разработка»? Это напутствие явно ко мне относится.
Что они со мной намереваются делать? Смутная тревога овладела мною, но мне тут же удалось успокоить себя: я же невиновный, чего опасаться?
Насколько же я был наивен тогда!
1967–2007 Годы
Куплеты Гоп со смыком
С водкой я родился и умру
И не дам покоя сатане.
Дрын дубовый я достану
И чертей калечить стану:
Почему нет водки на Луне?
А если на работу мы пойдём,
От костра на шаг не отойдём,
Побросаем рукавицы,
Перебьём друг друга лицы,
На костре все валенки пожгём.
Пускай поржавеют все ёлки,
В буфете немало грязи,
Но, если я выпью бутылку,
Не станет никто возражать.
Летят перелётные птицы —
Опять наступила весна,
Кто холост, ещё не женился,
Поверьте, жена не нужна.