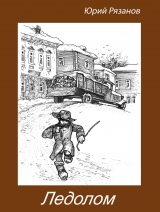
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 48 страниц)
– Дай подержать, – попросил я.
– Держи! Убедился? Всякое дело надо доводить до конца, Гера. Тогда добьёшься успеха.
И он вручил мне рукоять с полукруглой, литой, из потемневшей меди, крупной сеткой, почерневшей от времени, лишь остатки золота уцелели в углублениях металла.
Я онемел в восхищении. Такого мне в жизни не приходилось видеть. Держать в руках – тем более. А повидал, как мне думалось, я всякого немало.
– Вовк, у одного пацана – на Ленина, тридцать шесть живёт – видел книжку старинную, корочки у неё внутри обклеены белой бумагой с зигзагами, узорами изнутри, как откроешь. Узоры очень похожи на эти, на металле. Только металл какой-то невиданный – синий. И не рубчатый, как на той старинной книжке, а полированный. Ну и штука, Вовк! Хоть и я эту саблю нашёл, но она должна принадлежать тебе. Лично. Без тебя она так бы и осталась пылиться. И найти её могли, когда сундук этот рассыпался бы. А он ещё тыщу лет простоит.
Вовка не скрывал, что польщён столь щедрым подарком и довольно улыбался. Если б не он, никакой находки не состоялось, – это правда.
– А может, по очереди будем носить? Неделю – ты, неделю – я. Без тебя я её не разыскал бы. Логично?
– Ну, в общем-то… И без тебя тоже ничего я не откопал бы.
– Справедливо. А сейчас приступим к поиску обломка. Лады?
Предложение оказалось неожиданным, и во мне опять возникла тревога и сильное нежелание продолжать поиск.
Не раздумывая, решительно выпалил:
– Забирай её себе целиком. Но я искать здесь больше ничего не буду. Ни за какие коврижки.
– Юр, прикинь! Мы с тобой почти у цели. Он где-то здесь – нутром чую, обломок этот.
– Всё. Точка. Спускаюсь первым. Сабля – твоя. Я тебе ничего не должен.
– Значит, мне придётся вернуться сюда одному. Если не передумаешь.
– Вовка, ты же «Логику» изучал. Как найти обломок сабли в тоннах шлака и грязи? Год каторжного труда. Если обломок вообще существует. И находится здесь.
– А ты знаешь, как руду ищут? Берётся ивовый прутик. С расщепом. И над каждым сантиметром земли им туда-сюда водят. Где металл, там расщеп чуть сближается, сужается. Так раньше простой деревянной рогулькой железорудные месторождения открывали. В натуре! Я об этом в одном журнале по геологии вычитал из отцовской библиотеки. Ещё до войны.
– Всё. Спускаюсь, – решительно повторил я и поставил на покатый жестяной выступ ногу, присел на корточки, испытал, крепко ли закреплена бельевая верёвка.
Начштаба молча подстраховывал меня вторым концом верёвки.
Когда я коснулся земли пальцами ног, друг возвестил:
– Держи!
Сверкающий обломок сабли упал, даже не звякнув, в траву рядом с забором.
Я поднял драгоценную находку и при солнечном свете разглядел, что слом тоже синеватый, а металл имеет извилистый рисунок. Удивило меня и лезвие, острое, как бритва. И никаких следов ржавчины. Выходит, уже и тогда, давным-давно, умели делать оружие из нержавеющей стали! И ещё я разглядел: маленькая, чёрными штрихами выполненная крылатая лошадка – у самого эфеса.
– Спускаюсь! – послышался сверху голос Вовки. – Держи страховку!
– Дверцу на вертушку запри!
– Знаю, – ответил он.
Вовка, опустившись на корточки и вцепившись кончиками пальцев в щели дощатого фронтона, отвёрткой пытался крутануть вертушку. Не сразу ему это удалось. После он бросил отвёртку и, вцепившись руками в верёвки, пальцами ног нащупывал выпуклости каменной кладки, на которые можно было ступить. Опускаясь всё ниже, он развязывал узлы верёвки, накинутые на охваты водосточной трубы.
Через несколько минут Вовка, больше похожий на чернокожего, стоял рядом со мной. Цел и невредим.
– Юр, нам, наверное, не отмыться. Ты весь чернущий, как паровозный кочегар.
– Ты бы на себя посмотрел. Тоже не узнал бы.
Я сматывал верёвку в клубок, а друг любовался находкой. Нашлась и отвёртка.
Свои соображения о сабле высказал первым Вовке:
– Она, никак, из нержавейки откована. Разве до революции делали нержавейку?
– Вроде бы это изобретение советских учёных. А впрочем, не уверен.
– И на изломе – металл синий и волнистый, первый раз такой вижу. Странная сабля. Надо бы о ней побольше разнюхать. Но у кого?
– У деда Семёна Васильева, – спохватился я. – Тамарки и Эдки отца. Ему девяносто четыре года. Раньше, до войны, он вечерами часто на скамейке возле калитки сиживал. Бывший фельдфебель. Сорок лет в царской армии отслужил. Красных командиров поджидал, чтобы честь отдать и отрапортовать. А последнее время что-то не показывается на улицу. Даже летом. Дома сидит. В пимах.
– Ты короче давай: он холодное оружие знает?
– Фельдфебель царской армии! Я ж тебе сказал. Он всё знает. С японцами воевал. Ранили его в ногу в четвертом году – до сих пор хромает. С палочкой ходит.
– Да что ты мне про то да про сё? В саблях он толк понимает?
– Ещё бы! Сам подумай – фельд-фе-бель! Это вроде как генерал. По ранению из армии его уволили. У них корова есть. Жена его – Анна Степановна. Тётя Аня.
– Меня его биография не интересует. И корова – тоже. Лишь бы в оружии сёк.
– Не сомневайся. Двадцать пять лет только фельдфебелем отслужил. У него даже какие-то есть медали – старинные. Кресты всякие – за храбрость. Тётя Аня их в коробочке хранит. Из перламутра. Японская. Трофейная, видать. Показала мне. Одевать-то их нельзя. Царские. Но и не отнимают.
Дед Семён меня давно интересовал. И я к нему часто с разными вопросами приставал. Про войну. Интересно!
– Если он белый герой, почему же его в Чека не расстреляли? – задал коварный вопрос Вовка.
– Он против красных не воевал. Когда его ранили, тогда ещё советской власти не было. К тому же он за большевиков. За что его расстреливать? И вообще хороший старик. Заслушаешься, как про войну рассказывает, – сам лично воевал.
– Если он не контра, покажем ему. Разматывай верёвку.
– Зачем?
– Ты хочешь, чтобы я с саблей наголо по улице Пушкина проскакал? Да нас первый попавшийся дядя-гадя сцапает и в отделение упрёт.
– Да, как я этого не предусмотрел?
Вовка аккуратно укутал верёвкой весь клинок, вернее его обломок, и мы, возбуждённые и счастливые, направились восвояси – в штаб отряда. И лишь после – на Миасс – мыться.
При встрече редких прохожих мне очень хотелось задать им один вопрос:
– А вам известно, какое сокровище мы несём? Настоящую саблю!
Но никто из них и догадаться не смог бы о необыкновенной, невероятной нашей находке. И это придавало мне ещё больше гордости. Правда, на нас поглядывали, на чумазых с затылка до пяток мальчуганов. Но меня это не волновало, переполненного восторгом.
Пересилив желание немедленно предстать перед дедом Семёном, мы сбегали на Миасс, искупались, потёрлись песочком, верёвку, как смогли, пожулькали и лишь после, не дожидаясь, когда просохнут трусишки, побежали к старому фельдфебелю.
Тётя Аня заохала и заахала, увидев наши грязные мордашки, их мы почему-то не удосужились промыть, но к деду Семёну пропустила. Он лежал на кровати – недужил. Увидев нашу драгоценную находку, оживился, и мы вручили ему обломок клинка.
– Ба! – воскликнул сипло слабым голосом старик. – Да это же булат!
– А чья она? Небось, генерала царского – Булатова? – почему-то высказал такую догадку я.
– Возможно, хлопчики, и генерала. Сталь такую делали в России в прошлом веке. В Златоусте клинки из булата ковал великий оружейный мастер. Фамилию его дай бог вспомнить. О нём все нынче забыли. А в наше время булатными клинками награждал героев сам батюшка-император. Самых отважных. За подвиги и личную беспримерную храбрость. Взгляни, Юра: на лезвии ни одной зазубрины. А она не раз побывала в деле – вон на эфесе следы ударов. Мастер, что разгадал секрет булатной стали, помер и с собой секрет унёс в могилу. Булатным клинком можно с единого маху железную подкову перерубить, как бублик, а на лезвии даже чатинки [23]23
Чатинка – в данном случае – зазубринка (просторечие).
[Закрыть]не останется. Где это, хлопцы, вы её раздобыли? Как вам удалось сломать клинок? Это невозможно!
– Мы его не ломали, – пояснил Вовка. – Такой нашли. На чердаке одного старинного дома.
– Смотри, какие чудеса в решете! – подивился дед Семён. – Ржа её не берёт – как новенькая, – произнёс дед Семён, очень внимательно разглядывая рисунки на плоскости клинка. – Не многие высшие чины имели такое оружие. Верно, наследственная вещь. Мне не приходилось видывать, да вот сподобился. Кому-то подарена была за особые заслуги перед Отечеством.
Деду Семёну явно не хотелось расставаться с нашей находкой. Но Вовка поторопил, сказал, что нам ещё предстоит помыться в бане.
– Вот. А ты упрямился, – упрекнул меня Вовка. – Никогда дело не бросай неоконченным. Так мне и отец неоднократно повторял: взялся за дело – кончай смело!
Начштаба полез на чердак, а я натянул между двумя столбами мокрую верёвку, на своё место под нашими окнами. После мы побежали на Миасс, на сей раз прихватив обмылок, – чтобы моя мама ничего не заметила. Припустили по щербатым тротуарам, ещё до революции выложенным кирпичом. Теперь на нашем пути торчали только его опасные осколки.
…Как часто бывает в жизни, тем более ребячьей, радость быстро сменяется огорчением.
На сей раз это горе выразилось в довольно долгой и болезненной вздрючке, устроенной мамой, от внимательного взгляда которой не могла ускользнуть (хотя и просохшая и висящая на своём месте) серая бельевая верёвка. Ею она меня и отхлестала весьма болезненно, а после долго отбеливала на кухне в кипятке с каустической содой. И я подумал, что у мамы какое-то помешательство на чистоте, – днём и ночью она всё вокруг мыла, протирала, стирала… Нет чтобы интересные книжки читать. Да вот ещё и меня наказывает. Воспитывает!
Не сразу мне удалось прийти в себя.
Славик, наверное, всё ещё играет в своё удовольствие с малышнёй на тротуаре или в ливневой канаве напротив ворот. Он любит строить дворцы из серого мелкого песка. Это было и моим увлечением в далёкой молодости, лет пять-шесть назад.
Время… В последние дни я стал замечать, что тянется оно очень и очень медленно. Особенно, когда нечем заняться. Мучительными становились не только часы, но даже минуты перед возвращением мамы с работы зимними тоскливыми вечерами: мною овладевало сильное беспокойство. Я куксился и даже иногда рыдал, будто со мной произошло великое несчастье. И Славик подвывал мне. Случалось такое с нами, наверное, от усталости до изнеможения.
Обычно, заслышав плач, бабушка Герасимовна увещевала нас с обратной стороны двери, из коридора, успокаивала. И я, устроившись в углу дивана, обняв братишку, засыпал вместе с ним. Приход мамы и пробуждение становились маленьким праздником – наше гнетущее одиночество моментально покидало нас. И тоска прекращала терзать меня.
После того как кем-то была сделана попытка (только в апреле пятидесятого в тюрьме я узнал, кто был этот злодей) влезть к нам в квартиру, выставив стекло из окна, мама стала закрывать нас на ключ и, вероятно, уносила его с собой. На работу. А когда Славика удалось устроить в детсад на «продлёнку» (мама выхлопотала-таки у начальства какие-то справки, которые разрешали братишке оставаться в нём и поздно вечером), мне пришлось ещё труднее, ещё тоскливее, и я плакал и плакал, захлёбываясь от великой этой тоски и одиночества. И вот вдруг со щелканьем поворачивается в скважине ключ, я бегу к двери, утирая слёзы, а мама и Славик оказываются рядом. Какое счастье! Она вернулась! Мы опять – вместе!
Она ставила на огромный, с раздвижной столешницей, дубовый стол (от бабушкиной мебели остался) алюминиевый судок с сытным, на мясном бульоне, супом и картофельным пюре с настоящим свиным или говяжьим гуляшом – мамин «стахановский» обед, а на самом деле – наш со Славиком ужин.
– Ну, будет, будет тебе, – не всегда дружелюбно успокаивала меня она. Маме почти постоянно было не до нас – её в любое время ожидало множество домашних дел. А я скучал по ней, мечтал о её ласках, которые выражались в поглаживании по голове, о добрых словах, её тёплых шершавых ладонях, хотелось и её пожалеть – она так много работает, чтобы прокормить нас, одеть-обуть, обиходить…
Однако чаще всего я тут же получал шлепки за несделанное то и то, забытое это… Для меня такие минуты становились непонятной обидой: я так ждал, хотел сказать столько хороших слов, что люблю её, высказаться о своих делах, обнять, прижаться…
После наказания за какие-нибудь проступки, часто неосмысленные, мелочные или ни за что – под горячую руку попался, или кто-то что-то дурное обо мне сказал. Из соседей, например. Давно знакомый привычный ком обиды подкатывал к горлу и душил, выжимая слёзы, которые, повзрослев, старался сдержать, скрыть, – ведь на маму нельзя обижаться.
Но сегодня чудесный обломок сабли, а он вертелся в моём воображении, не пропустил давящий ком обиды, и я наслаждался красотой клинка, как бы вновь разглядывая фигурки толстозадых лошадей и воинов в золотых кирасах и киверах с плюмажами. У бравых воинов выделялись лихо закрученные усы. Наверное, все они были героями, отчаянными рубаками. Над войском кучились круглые облака, а под ними, очень далеко, угадывались бугристые горки с ёлочками на них. В общем, гравированная картина произвела на меня сильное впечатление. Вот только, куда оно мчалось, это сказочное воинство, не совсем мне понятно, ведь часть рисунка осталась на отломленном куске клинка.
– Сы́на, – как ни в чём не бывало обратилась ко мне мама. – Принеси из колонки пару вёдер воды, только не полные. Не надсажайся.
Обиду мою как ветром сдувает. Я хватаю гремучие цинковые десятилитровые вёдра и, поспешая, направляюсь к уличной колонке.
Славик, я угадал, сидит в широкой канаве, разделившей тротуар от проезжей части (дороги), и, отбиваясь от комаров, упорно продолжает строительство сказочного песочного дворца…
Опять вспомнилось о сабле. Посожалел, что она принадлежит не мне, а Вовке. Но это справедливо. А справедливость дороже всего. Не только сабли для друга не жалко, но даже пулемёта «Максим». Да вообще – всего. И видение клинка исчезло из моего воображения, уступив место Павке Корчагину с его подвигами. Вот с кем я помчался бы в атаку.
…Утром просыпаюсь рано, Славик ещё посапывает в своей половине кровати у стенки. Сразу звонок начштаба. Примчавшись к лестнице, ведшей на чердак в штаб, вижу Вовкину русую, стриженную наголо голову – в проёме чердачной дверцы.
– Што? – встревожено спрашиваю я.
– В пиратов играть будешь?
– А как же? Что за вопрос! Давно мечтаю.
– Я флибустьер Флинт. Захватываем двухмачтовый торговый парусник с золотом. Мачты кораблей выберем на пару. Нападение – в полдень. Проверь по своим бабушкиным часам. Жду. С боем курантов.
Вот у кого мне следует учиться! Чего хочешь, может добиться! И надо взять его правило – не отступать! Только вперёд! Сокрушать все преграды на пути! Ведь главная жизненная цель – Правда. Правда, справедливость – это всё! Ради них и надо жить!
Не знаю каким образом, но утром уже этого дня все, или почти все знакомые пацаны квартала, были кем-то оповещены о нашей фантастической находке. Под лестницей собралось около десятка огольцов. [24]24
Оголец – пацан, парень (просторечное, уличное слово).
[Закрыть]В штаб вход разрешался лишь тимуровцам нашего отряда. Вовка не позволил проникнуть в свой двор не только приблатнённым соплякам из воровских семей, у которых в тюрьмах и концлагерях отбывают наказание братья или отцы, – мы хорошо знаем, на какие пакости способны их младшие сынки или братишки. Не пустили в Вовкин двор и Тольку Мироеда, и однорукого бывшего вора и солдата-штрафника Лёньку по кличке Бульончик, уверенные, что их старшие «кирюхи» (а Мироед и сам мог) попытаются отнять («казачнуть») нашу находку. Это шакальё частенько грабит младших ребят, особенно тех, за кого некому заступиться, ведь мы, свободская пацанва, хорошо знаем друг друга, кто из нас на что способен, о семьях, в которых живут эти полубеспризорные и всегда голодные ребята. [25]25
Почти все они в будущем пошли по стопам своих родителей, братьев и сестёр в тюрьмы и концлагеря. Мало кому из них улыбнулось счастье зажить, как большинству людей, на свободе.
[Закрыть]
…Наконец, гурьбой мы укрылись в зарослях жёлтой акации, окружавшей большой дом знаменитой в округе заслуженной учительницы, кстати, замечу: горошины (открытие Вовки), вышелушенные из стручков и разваренные, превращались в отличную, вполне съедобную кашу. В отличие от многих, владелица разрешала нам лакомиться и сладкими цветами этих деревьев, и их плодами. Но это занятие не для нетерпеливых – уж очень муторное. О вышелушивании говорю стручков акации.
В густых зарослях деревьев демонстрация клинка выглядела захватывающе таинственно! Начштаба выхватил из куста саблю, куда заранее её припрятал, и она засверкала в пробившихся сквозь листву солнечных лучах.
Восклики необузданной радости и ликования раздались почти одновременно. Все столпились тесно в кучу. Каждому не терпелось прикоснуться или подержаться за настоящуюсаблю, боевое оружие, несомненно неоднократно побывавшее в смертельных схватках с врагами. Об этом авторитетно заявил дед Семён Васильев.
Но вот начштаба лихо перекинул клинок в правую руку и с маху рубанул по железной трансформаторной пластине и рассёк её надвое. И тут же показал всем лезвие оружия – на нём не осталось и малейшей зазубринки.
– Зырьте [26]26
Зырить – смотреть (уличное слово).
[Закрыть]сами. Это не простая сабля – булатная!
Второй восклик восхищения вырвался из зарослей акации.
– Вот это да! Ништяк! А што это – булатная?
– Давай ещё руби, я проволки притащу.
– А броню́ фашистского танка – слабо? – спросил кто-то из восхищённых пацанов.
– Запросто! Жжах! И – башня на Земле! – сфантазировал Вовка. Возможно, он действительно верил в то, что сказал.
Гордый и довольный, наискосок полоснул по стволу деревца, и оно сползло по срубу, как по маслу, свалившись на зазевавшегося Бобынька – Вовку Бобылёва со Свободы, двадцать восемь.
Наше сборище не осталось незамеченным, и вышедшая из дома учительница поинтересовалась, чем мы занимаемся, – ведь акациями была окружена детская игровая площадка с брусом, качелями и песочницей. Для малышей, живших в округе.
– Играем в сыщиков-разбойников, – бессовестно соврал Вовка.
Кое-кто из пацанов, тех, что потрусливее, смылись сразу, не дожидаясь финала.
– Играйте на здоровье, ребята. Но зачем деревья губить? Они для вас посажены. И такими же школьниками, как вы.
Да, действительно, нехорошо получилось. Погорячился начштаба.
Пришлось оставшимся расходиться по своим дворам. Лишь Вовка да я остались, приблизившись к нашему забору из штакетника.
– Мы посадим новое дерево, честное тимуровское, – пообещал Вовка пожилой женщине. И слово, данное соседке, он выполнил: с крыши баньки Каримовны он пересадил кривую березку. Рядом с пеньком, оставшимся от акации.
Лишь когда все пацаны разбежались, мы поднялись в штаб и там спрятали клинок под балку, присыпав её шлаком с помётом голубей, давным-давно изловленных Вовкой и сваренных в консервной банке на карбидной самодельной горелке. Даже электроплитку в кудряшовских хоромах негде было установить – сортир и есть сортир, хоть и с убранным унитазом. А в трубу с помощью слесаря, обслуживавшего контору, недавно ввинтили раздобытый где-то Вовкой водопроводный кран, чтобы на уличную колонку зимой не бегать. Другой жилплощади Кудряшовым, как я уже упоминал, не нашлось в огромном доме. И за это «жилище» Вовкина мама долго благодарила начальство, ведь на первом этаже остался всего один туалет на всех. И это не всем жильцам нравилось – из-за очередей по утрам.
– Капитаном Флинтом я завтра себя назначу, – решил Вовка. – В полдень. Сегодня маме надо помочь. Не здоровится ей что-то.
На том и условились.
– Завтра же пиратский бриг возьмёт купеческое судно. На абордаж. Чёрную повязку я поищу в маминых тряпках. От шитья всякие лоскутки остаются. Вообще-то мама хочет из них лёгкое лоскутное одеяло сшить. То, что вы нам подарили, – тяжёлое для лета.
С разрешения мамы я отдал им старый матрац и ватное одеяло – от деда в сарае остались и лежали без пользы на жестяной односпальной кровати. Как нельзя кстати оказались для Кудряшовых эти старые вещи.
– Наверняка ещё дореволюционное, – высказал догадку я.
– Она его обчехлила. Из лоскутьев же. Что от заказчиц остались. Конторские ничего не умеют. Ножны для сабли надо успеть смастерить. Это уже моя забота. Ну, покедова! До утра, дружище!
И мы расстались.
Не знали, не предполагали, что нас ожидает в предстоящий день, бесконечно длинной, как мне представлялось, жизни. Какое заблуждение!
Долгожданное утро выдалось необычно светлым, радостным и не обещающим ничего огорчительного. Именно такими утрами меня наполняло необъяснимое чувство грядущего счастья – всё кругом выглядело прекрасным, солнце просвечивало каждую травинку, любой древесный листок. И это огромное изумрудное богатство и всё кругом принадлежало мне! И я осознавал себя частью его. Я, десятилетний пацан, чувствовал себя не только абсолютно свободным от чего бы то ни было, но присутствующим во всём, что окружало меня. Странное загадочное ощущение. Будто я присутствовал во всём окружающем – одушевлённом и неодушевлённом. Всё было живое. И я – часть его. Даже воздуха! Ведь я и дышу! И я в нём. И такое состояние накатывало на меня довольно часто, но кратковременно. Сильнее всего это состояние я ощутил, стоя на крыше храма на Алом поле, обуваемый теплыми, животворными ветрами.
В этом восторженном настроении я и встретился с оповещением начштаба – наш «телеграф» работал безотказно, без сбоев. Вовка ждал меня у первой ступени лестницы, ведшей на ставший родным, будто своя квартира, чердачище бывшего неведомого райсуда.
Начштаба стоял в картинной позе, разумеется, с саблей в специально сооруженном дерматиновом мешочке-ножнах (на их изготовление пошла обивка судейского старого стула), чтобы не привлекать взгляды посторонних. Висели ножны на ремешке из того же материала на левом бедре, как и полагается воину. Голову наискось прикрывала шёлковая чёрная лента – перевязь через левый глаз начштаба, по совместительству – грозного пирата капитана Флинта.
– Ну что? Вперёд, на бриг! – басовито спросил меня новоиспечённый капитан, он же старый морской волк. – С песней!
Маршируя, мы вышли на улицу и свернули направо, горланя:
– Гром гремит, земля трясётся,
Поп на курице несётся,
Попадья идёт пешком,
Чешет жопу гребешком.
Без перерыва:
– Дальневосточная! Смелее в бой!
Краснознамённая! Даёшь отпор!
С последней (лихой!) песней, которую мы слышали почти каждый вечер, когда по дороге проводили взводами новобранцев, будущих бойцов, обучавшихся в огромном округлом здании цирка, мы промаршировали к высоким тополям.
Я, иногда уложенный мамой в постель, летними вечерами слышал сквозь затянутое марлей (от комаров) окно «Дальневосточную», мне хотелось спрыгнуть с кровати и помчаться вслед за колонной красноармейцев и орать вместе с ними в своё великое удовольствие марш непобедимой Красной армии…
В те блаженные минуты я страстно мечтал завтра же стать взрослым и вместе с новобранцами гордо прошагать по родной улице с чудесным названием – нигде в городе второй такой не могло существовать (вероятно, и в других населённых пунктах тоже). [27]27
Я ошибался. В некоторых других городах СССР имелись улицы с таким названием.
[Закрыть]Оно мне так нравилось, это слово, – «Свобода»! Всем знакомым пацанам утром следующего дня увидеть бы, каким бравым стал Юра Рязанов! И очень сожалел, что старый солдат, побывавший во многих сражениях и даже где-то под неведомым Мукденом получивший ранение вражеской пулей, награждённый медалью за храбрость, не заметит меня среди шагающих по родной улице, потому что хворает от немощи и огорчений. В своём воображении я тут же увидел деда Семёна на скамейке возле калитки. А вот он уже вытянулся по стойке «смирно!» и отдаёт мне честь!
Но мираж этот растворился, когда мы с начштаба подошли к пустой скамье. Видать, дед Семён вовсе разболелся.
Начштаба, а сейчас ещё и капитан Флинт, выбрал два самых подходящих тополя: один рос как раз напротив скамейки, которую все называли почему-то лавочкой, а другой – рядом, почти напротив окна дома Бруков, где в малюсенькой угловой комнатёшке (в неё уместились лишь пианино и нарядная, ухоженная, пышная кровать с никелированными шарами на всех четырёх столбиках). Это была «келья» знаменитой челябинской пианистки Матильды Берх, родственницы Бруков. Афиши о её выступлениях я неоднократно видел расклеенными по всему городу. Часто, завороженный живыми звуками, исторгаемыми из инструмента с непонятной иностранной золотой надписью на поднятой крышке, стоял я возле открытого окна и наслаждался волшебными мелодиями, льющимися из-под тонких быстрых пальцев молодой и красивой пианистки. Я даже немного влюбился в артистку, хотя возрастом она, пожалуй, не уступала маме. А выглядела намного младше её. Но звуки, звуки! Они будоражили меня, проникая в закрытые дотоле каналы чувств, в которые сейчас бешено врывались, а иногда тихо и нежно просачивались, заставляя то бурно радоваться чему-то, то грустить неизвестно о чём.
Пианистка разрешила мне даже не только стоять перед окном, но и положить руки на подоконник, а на них – голову. Звуки, резонируя в тесной комнатке, проходили через подоконник, мои ладони и отзывались в голове совершенно непохожими на те, что извлекались из инструмента. Доброжелание пианистки удивляло меня. Не зная, как выразить благодарность, я молчал. Стеснялся. Наверное, я был самым молчаливым поклонником Матильды Берх. Но и самым преданным – не мог пройти мимо открытого окна её «кельи».
Сейчас окно было закрыто, и я с сожалением посмотрел на него – вот увидела бы она нас с Вовкой, как мы будем брать на абордаж чужое «судно».
Потом, слушая музыку из весь день работающего в нашей комнате репродуктора «Рекорд» – круглого, чёрного воронкообразного устройства из плотной бумаги, окольцованного мягкой жестью, с механизмом позади, я часто узнавал знакомые мелодии, слышанные у Матильды Берх, и радовался. Дикторы называли и композиторов: Бетховен, Шопен, Григ, Чайковский, Мусоргский…
А сейчас, когда мы с капитаном Флинтом-Вовкой готовились к штурму, мне не терпелось, чтобы она непременно увидела: мальчишка, частенько торчащий под её окном, – герой, а не какой-то босоногий скромняга. Храбрец! Кровь, казалось, бурлила во мне, вскипая перед схваткой.
…Выбрали мы эти два дерева не просто так, не с кондачка – они ближе всех стояли друг к другу и вытянулись выше других. Чтобы раскачать и сблизить мачты-тополя, желательно выбрать наименьшее расстояние между ними и соответственно приложить минимум усилий. Куском старой толстой верёвки мы намеревались связать обе верхушки – это и означало победу, дерзкий захват «чужеземного судна», нагруженного золотом. Хотя золото для меня лично имело смутное значение – блестящий предмет. И всего лишь.
По-обезьяньи быстро и ловко достигнув прогнувшихся макушек, мы их принялись раскачивать. Напевая весёлую детскую смешную песенку, под которую и начали свой боевой поход:
– Как по нашей улице
Мчится поп на курице,
Попадья идёт пешком,
Чешет жопу гребешком.
Мы горланили этот куплет и от души хохотали, не осознавая, что похабничаем. Обломись верхушки деревьев, нам не поздоровилось бы: шмякнуться на булыжную дорогу с четырёх или даже пяти метров – не на пуховую перину, как у Даниловых (приданое тёти Тани), завалиться. Но разве мы думали об этом? Вовка в раже выдернул из ножен булатный клинок, и он засверкал, хотя солнце скрылось за облачками.
Мы забазлали песенку, которую распевали все уличные свободские пацаны от мала до велика, и в такт мелодии раскачивали гибкие верхушки тополей – на сближение.
Песенка эта казалась нам ещё забавней, и мы не жалели своих глоток:
– Сарочка одна
Дорожку перешла,
Навстречу ей бежит милицанер:
– Свисток вы слушали,
Закон нарушили,
Платите, Сарочка,
Штраф три рубля!
– А-а-а-а!
Ах, што ты, милый мой,
Я спешу домой,
Сиводня мой Абраша выходной.
Купила курочку,
Сметанку, булочку,
Сметанку, булочку
И бутенброт.
Вот-от-от-от!
Я никому не дам,
Всё скушает Абрам,
И будет он толстенный, как кабан.
Ам-ам-ам-ам!
С воодушевлением закончив последний куплет, мы услышали: нас окликает кто-то:
– Эй, певуны из погорелого театра! Кто вас научил петь эту песню? Слезайте немедленно, паршивцы, вниз! Я с вами побеседую.
На тротуаре, напротив нашего «корвета», на котором раскачивался Вовка, стоял по стойке смирно какой-то незнакомый человек. Не очень старый – лет тридцати или сорока. В хромовых начищенных сапогах и заправленных в голенища синих брюках. Заметил я и кожаный широкий ремень с металлической надраенной пряжкой. Застёгнутая у горла рубашка тоже была голубого цвета. По Свободе в «хромачах» обычно щеголяли блатные, но этот не был похож на них.
– А вы кто такой? – крикнул Вовка, не переставая раскачиваться.
– После узнаете. Слезайте немедленно! – приказал незнакомец.
– Я капитан пиратского брига Флинт и плевал на приказания штатских людишек!
– Я тебе покажу, как плеваться на штатских людишек, капитан Флинт! – пригрозил незнакомец, вплотную приблизившись к тополю и задрав голову.
Я разглядел, что подстрижен он под полубокс. Кто это привязался к нам? Этого человека на своей улице я раньше никогда не встречал.
– Где проживаете? Улица, дом, квартира. Фамилии ваши. Как звать? Быстро отвечать!
– Пираты, мои друзья флифустьеры, обитают на Карибских островах, дяденька, – дерзко ответил капитан-начштаба и, к моему удивлению, не вставил в ножны саблю, а взмахнул ею и сразу отсёк две крупные ветки. Они, шурша, упали к ногам незнакомца.
– Что это у тебя? – с опаской и угрозой спросил голуборубашечник.
– Не видите, што ли? Ослепли? – опять почему-то сгрубил Вовка. – Это сабля из булата. Слыхали? Позолоченная! С рисунками баталий. Вот глядите!
И Вовка легко отрубил ещё один толстенный сук.
– Где взяли? – допекал нас настойчивыми вопросами прилипчивый мужик. – Отвечайте! Немедленно! Это холодное оружие! Где взяли, спрашиваю?
– Где взяли? – переспросил Вовка. – Где взяли, там её уже нет. И зачем вам, дядя, об этом знать? Ишь какой любопытный! Шагай себе домой, а мы займёмся своими пиратскими делами.
Тогда незнакомец расстегнул пуговичку на рубашечном нагрудном кармашке и поспешно достал какую-то вишнёвого цвета книжечку. Развернув её и держа в ладони, показал Вовке.
– Видишь? – грозно спросил он.
– Не-ка, – ответил, раскачиваясь, Вовка, и влез почти на самую верхушку, которая уже касалась моего тополя. – У меня слабое зрение. Булатную саблю вижу отлично. А вашу шпаргалку – нет.
– Слезайте сейчас же, а то я сам к вам залезу и стащу за шиворот.
– А это видел? – выкрикнул Вовка. – Она подковы пополам разрубает как кусок сливочного масла.
«Как же он нас стащит за шиворот, если на нас даже маек нет – одни трусишки?» – подумал я.
– Слезайте, прохвосты, или я вас скину! – зло произнёс незнакомец и стал оглядываться: кого бы позвать на помощь.
– Дело плохо, – почувствовал я. – Мы, кажись, попались.
Не знаю, кому и за что, но, похоже, влипли. Наверное, за отрубленные ветки. Деревья нельзя портить. Тем более я в тридцать шестом или тридцать седьмом годах принимал участие в их посадке. В тридцать шестом – точно. Вся улица с тех пор преобразилась – позеленела. А Вовка крушит эти наши деревья. Зачем? Глупость какая. Вот уж чего не ожидал от начштаба.








