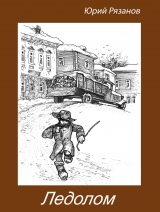
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 48 страниц)
Прекрасная, плавная мелодия перерастает в призыв, то умоляя о чём-то, то наполняется грустью. И грусть эта сладко щемит сердце. Ласка, томление, надежда, ожидание чего-то очень желанного, сокровенного, неведомого радугой светились в этой музыке, в чарующем голосе певицы.
Я не шелохнулся до тех пор, пока последний звук, тонкий и нежный, не растаял вовсе. В эти дивные мгновения я видел своими душевными очами прозрачное лицо Милы с всегдашней лёгкой улыбкой в уголках губ. И мне впервые так неодолимо захотелось увидеть её – немедленно! Непременно! Меня ничуть не охладил резкий, металлический голос диктора, сообщивший, что была исполнена «Песня Сольвейг» из музыки норвежского композитора Эдварда Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт». В моей домашней библиотечке имелась тонкая книжка из дореволюционного полного собрания сочинений какого-то Генриха Ибсена, в которую я не успел заглянуть. Её оттесняли те, от которых я не мог оторваться. Сейчас я решил: должен прочесть, хотя это был какой-то промежуточный текст с какой-то сто седьмой, кажется, страницы. Я уже отбросил одеяло и опустил ноги на земляной пол, когда послышались частые шаги, громкий стук в дверь и пронзительный голос тёти Тани:
– Эй, охранник хренов, тута ли?
Я откликнулся. С недоумением. Почему такая грубость?
– Подь-ка сюды. Быстрея. Чево чешишша?
Последнюю фразу соседка произнесла с такой недоброй интонацией, что неприятное предчувствие слегка сдавило грудь. Вскоре оно неумолимо оправдалось. Тётя Таня позвала меня к грядке Герасимовны. Старуха, разгневанная, с мокрыми от слёз и потому, наверное, ещё более сморщенными щеками, набросилась на меня, укоряя и стыдя:
– Ах ты варнак такой-шакой! Шпун нешшашный! Так-то ты наше добро штережёшь! Швоё-то, небошь, шелое, у-у! Лешов шын…
И понесла, и понесла… Тётя Таня ловко заполняла паузы, кляла меня на чём свет стоит и требовала немедленно выгнать из сторожей «поганой метлой». Ошарашенный, я молчал – стыд жёг уши. Да и всякие нелестные эпитеты в мой адрес не радовали.
– Своих шесть кустов отдашь, – вынесла приговор тётя Таня. – Так матери и передай. Што обчество эдак решило.
Я едва не заплакал от обиды – какое несчастье для нас! Шесть кустов! Нет, я поймаю этого гада, хватит!
Весь день я лишь размышлял о поимке вора. И придумал. Когда стемнело, я соорудил в дальнем углу двора шалашик из бодылья подсолнухов и травы и залёг в нём, вооружившись многократно испытанным луком и стрелами с острыми наконечниками из жести, вырезанными из консервной банки и залитыми свинцом. Такая стрела с десяти шагов насквозь пробивала консервную же банку!
Ночь – это вовсе не тишина. Пространство вокруг сплошь пронизано звуками: нудно пищат комары, поскрипывает сверчок, ветер вдруг неожиданно и мягко зашуршит картофельной ботвой, всколыхнет её. Сыплющиеся шорохи и шелест доносятся даже от уличных тополей. Или вдруг лениво забрешет – где-то на дальней улице – тоже недремлющая собака.
Наш дом, кажущийся в потёмках громоздким и массивным, словно бы распухшим, затих, лишь одно окно освещено. Сквозь прозрачные занавески вижу неподвижно склонившуюся над столом Милу. Она читает книгу, подперев подбородок ладонями. Учение для неё – серьёзный и напряжённый труд. Мне становится совестно за себя, за своё отношение к школьным делам. Непутёво веду себя и поделать с собой ничего не могу. Надо идти в школу, отлично это понимаю, а ноги ведут в детскую библиотеку. И так – уже несколько лет. Знаю, что надо продолжать учёбу, но, как вспомню о школе, о завуче, – всё во мне противится…
…С громко стучащим от волнения сердцем, сознавая, что совершаю нечто постыдное – подсматривать нехорошо! – выбираюсь из шалашика и ложусь в борозду напротив Милиного окна.
Как же это отрадно: видеть, пусть издалека, Милочку. Я испытываю к ней благодарность за неизменную доброту и внимательность ко мне. И часто досада гложет, что нельзя быть вместе с ней всегда. И что-то волнами бродит во мне, распирающее, не объяснимое словами, притягивая к этой нескладной, немного сутулой девочке, что, впрочем, не отмечаю как недостаток, – мне вся она нравится, заставляя часто думать о ней.
Лучшего и не пожелаешь, чем это: хорошо было бы жить нашим семьям в одной большой, огромной воображаемой комнате. Тогда хоть целыми днями смотри на Милу. Больше мне ничего не надо. Но я-то знаю – моя мечта неосуществима. Безнадёжность порождает печаль. Почти скорбь.
Мила встаёт из-за стола, затворяет окно, скидывает платьишко, оставаясь в маечке и трусиках, и выключает лампу под апельсиновым шёлковым абажуром. Да, счастье долго не может длиться. Миг – и пролетело.
…Я один-одинёшенек. От меня, лежащего на спине в борозде, и до зеленоватого сегодня, но все равно голубого, как у Милы, глаза-звезды – холодная пустота. Там ничего нет, ни одного живого существа – ледяное пространство. Мне становится очень неуютно и зябко. Даже – тоскливо. Рыхлая земля дышит сыростью. От неё веет многочисленными – земляными – запахами. Снова всматриваюсь в черноту Милиного окна, надеясь, что в нём опять вспыхнет свет. Тщетно надеяться, но я всё же чего-то жду.
Мне думается: если бы не Мила, я остался бы совсем, ну совершенно одиноким. Леденящее чувство неприкаянности постепенно растворяется, в воображении возникает спящий братишка, озабоченное лицо мамы. Очень хочется в согретую постель, устроиться поудобнее и замереть в блаженном ожидании завтрашнего радостного пробуждения – новый день, сулящий что-то интересное, неизведанное ещё… Но нельзя подняться и уйти. И я снова разглядываю звёзды и слушаю ночь. Как кстати: она тоже не спит, шурша и нашёптывая своё, непонятное и таинственное.
Но что это? Или мне побластилось? [248]248
Побластиться – показаться, померещиться (местное слово).
[Закрыть]В привычные звуки вмешались посторонние, незнакомые! Я насторожился и прислушался внимательнее. Да, это шебуршание. Оно слышится всё отчётливее, оно приближается! Время, отмеряемое ударами сердца, тянется бесконечно долго – еле сдерживаю нетерпение ускорить ход надвигающегося «чего-то». Отжимаюсь ладонями от земли, вытягиваю шею, но ничего подозрительного не вижу. Лунные блики матово мерцают на картофельной листве. А шорохи множатся, по капле заполняя меня страхом неизвестности происходящего «там», где-то впереди. Терпение кончилось. Я вскакиваю и, быстро «зарядив» стрелу, отчаянно натягиваю тетиву. Одновременно вижу – справа резко качнулась ботва, и это не ветер. Там кто-то есть, затаился, замер…
– Кто здесь? – выкрикиваю срывающимся, похожим на петушиный голосом. – Стрелять буду!
В ответ – тишина. Но что-то, какая-то серая масса, всё же просматривается смутно сквозь листву на грядке. Делаю шаг, другой в направлении загадочного и поэтому жутковатого «чего-то». Пальцы на тетиве онемели, не чувствуют зажатую меж ними стрелу.
Я вздрогнул, словно пальцы в электророзетку сунул, и напрягся всем телом, когда раздался испуганный женский голос:
– Хто-й то?! – послышался негромкий вроде бы знакомый голос.
В трёх шагах передо мной вдруг кто-то невысокий быстро вскочил и, пригибаясь, запетлял к дому.
– Неужели она! – наконец-то осознал я, уже вскинув лук вслед удаляющейся фигуре. И, натянув до отказа, отпустил тетиву.
– Неужели это она? Не может быть такого! Невероятно!
Пока в растерянности решал, она ли это в самом деле и что мне далее делать, резко хлопнула парадная дверь. Я запоздало бросился к дому. Дверь уже закрючили. На стук в окно тётя Таня не отвечала, за стеклом густо темнела вязкая тишина. Мне стало не по себе: не привиделось ли всё это? Кошмар какой-то!
Нет, всё-таки это её голос. И кто дверь мог за собой закрыть?
Остатки ночи провёл в сарае. Мутный страх не покидал меня. Однако домой не пошёл, удержал себя как ни рвался внутренне. Едва рассвело, я убедился: ночной гостьей была, несомненно, тётя Таня. И никто другой. В мокрой от росы ботве лежала брошенная синяя, с чёрными выщербинами, эмалированная круглая посудина, рядом валялось несколько розовых картофелин. Чашку эту я множество раз видел на столе у Тольки, и вчера днём – тоже. Свою стрелу, всё обыскал, нигде не нашёл. Куда делась? Попала в цель?
В этот раз пострадала посадка Малковых, и мне не терпелось побыстрее возвратить им мой «трофей». К тёте Тане я не испытал той злости, какую возбудил во мне наш ещё вчера неведомый разоритель. Вор! Меня терзал мучительный вопрос: как она посмела, как смогла? Разве не она, брызгая слюной и размахивая короткими руками, клеймила ворюгу, нагло обкрадывавшего, лишавшего нас пищи? Мне никак не удавалось соединить в своём сознании ту яростную тётю Таню и трусливо убегавшую согбенную фигуру.
Первой о ночном происшествии я взахлёб рассказал маме и, конечно, показал миску с картофелинами. Мама выслушала меня с досадой и недоверием:
– Гера, – сказала она раздражённо, – такого быть не может.
– Может, – упорствовал я. – Сам видел.
– В темноте ты вполне мог ошибиться.
– А голос? Голос-то – её.
– Гера, есть очень похожие голоса. А такое на человека напрасно возвести… Ты не представляешь, какой это непростимый поступок. – И вдруг решительно продолжила: – Идём!
– Таня, ты ночью, случаем, не выходила в огород? – смущённо спросила она, когда мы зашли к Даниловым в комнату.
– А што мне тама иделать? Ночью-то?
Она вперилась в меня маленькими светлыми глазками в белёсых ресницах с такой ненавистью, что я отпрянул к двери, и вдруг напустилась:
– Этто почему у тебя наша миска? Пошто чужие вешши хваташь? Поклади чичас жа на место в колидор, на ларь. Где была.
– Отдай, – облегчённо вздохнув, сказала мама. – Слышал? Тётя Таня ночью никуда не выходила.
А я усиленно соображал, как же так получается: значит, я взял без спроса чужую вещь, а не подобрал её на грядке? А вчера вечером миска ещё находилась здесь, в комнате, я это хорошо помню.
Тётя Таня рванула из моей руки посудину и просипела:
– Я тебе покажу, обормот ты этакий, как на меня клепать. Сказано тебе: никуда не выходила. Обознался ты.
– Не выходила, а выползала! И картошку подкапывала у Малковых, – неожиданно для себя произнёс я громко, уверенно, воинственно.
– Покажи соседкам своё место ниже спины, куда моя стрела попала. И всем станет ясно, кто выходил ночью из нашего парадного тамбура, а после трусливо убежал и закрыл его на крюк…
– Замолчи! – закричала мама и ударила меня ладонью по щеке. – Замолчи сейчас же! Извини, Таня, он сам не понимает, что говорит. Прости его – несмышлёныш ещё. Я за него прощения прошу.
– До чево жа дерзкай! – мстительно, сквозь зубы процедила тётя Таня. – Мало его понужаешь, Надя. Чаще лупцуй, быстрея поумнет. Вон мой Толькя и рот не раззявит при людях. Потому что колочу его как сидорову козу кажиннай раз.
Выбежав от соседей, я помчался в сарай и закрылся в нём на засов-деревяшку. И только тогда слёзы хлынули неудержимо. Я рыдал от захлестнувшей меня обиды. Стыдно было за мамину пощёчину. Более того, жгла мысль, что я не виноват, а прав. Я правду всем говорил!
«Ты сама мне всё время повторяешь, – мысленно обращался я к маме, – чтобы никогда не лгал. Почему ж тогда мне не веришь? Да ещё наказываешь! Оскорбляешь! За что?»
«Почему ей верят, а мне нет? – размышлял я, утерев кулаком слёзы. – Потому что я – пацан, а она – взрослая? Это несправедливо! И глупо».
Вскоре под дверью сарая объявилась тётя Таня и всячески стала поносить меня, обещала уши надрать и чуб вырвать.
– Ишь, отрастил! Волосы-те длинны, а ума нету!
Тут Толька заглянул в окошечко и прошептал:
– Только выйди – морду разобью, стор-рож… Ты мне за стрелу ответишь! Забудешь навсегда, как в людей стрелять.
Так, значит, не промахнулся! Толькины слова тому подтверждение.
И я вышел. Хотя и боязно было, пересилил себя, чтобы Толька видел, что не страшусь его. Боязнь сразу улетучилась, как только Ржавец – так дразнил Тольку за рыжеватые волосы и красные обильные веснушки по всему лицу – саданул мне кулаком в грудь.
– Значит, стрела попала? – Выкрикнул я. – Сам проговорился!
Толька вымахал на две головы выше меня, и руки у него выросли длиннющие. Хлестал зло и больно. Однако я, распалившись, ловко сдавал сдачи, иногда уворачиваясь от ударов. Несомненно, Толька крепко поколотил бы меня, но мне удалось расквасить ему нос. Он зажал его пальцами и, пригрозив расправится после, убежал к себе – Ржавец страдал малокровием. Я забрался на крышу дровяника в ожидании возвращения Тольки, когда у него перестанет сочиться кровь. Но явилась тётя Таня. Она безудержно ругала меня и, не принимая во внимание то, что её сынок, а не я, учинил потасовку, грозила милицией. Это меня возмутило ещё сильнее, и я крикнул:
– Это ты украла картошку! Воровка! Я обо всём мильтонам расскажу. Пусть они на твою задницу посмотрят и увидят, что ты воровала картошку у Малковых.
Никогда прежде я не смел заявить такое взрослым. И столь грубо разговаривать с ними. Не сдержался, выпалил.
Тётя Таня испуганно оглянулась – не слышал ли кто из соседей – и тихонечко, еле слышным голосом, – хотя он был у неё пронзительным, когда она обличала кого-то, – пристращала:
– Ты ишшо меня попомнишь…
(Впоследствии, несколько лет спустя, она сдержала свой посул.)
Тётя Таня, а её никто за язык не тянул, всем соседям жаловалась на меня, уверяя, что ночью никуда из дому ни на «один сикунд» не отлучалась. Даже по нужде. В поганое ведро мочилась. Я же придумал, будто она картошку подкапывала, – по злу напраслину возвёл. Соседки ей верили. Такой вывод с удивлением я сделал, потому что отношение многих ко мне заметно изменилось к худшему. Однако самым тягостным получился разговор с Милой. Она остановилась при встрече во дворе, на дорожке, поздоровалась и, укоризненно глядя на меня, произнесла:
– Гера, зачем ты так обидел тётю Таню? Она даже плакала… Нехорошо поступил. Мне стыдно за тебя.
– Да я… ничего, – пролепетал я. – Я вовсе не хотел…
– Ты должен перед ней извиниться, – тихо, но настойчиво потребовала она.
– Нет, – отрезал я. – Нет, Мила.
– Если ты этого не сделаешь, я не смогу с тобой… дружить…
Я не произнёс в ответ ничего – не нашлось подходящих слов. Лишь отошёл в сторону с тропки, пропустил Милу к воротам, с трепетом глядя ей вслед. Муторно мне стало, ох муторно!
Любую, но только не такую беседу мог предположить с Милочкой. Конечно, чувства к ней, которые я питал, не померкли враз, но закралось какое-то сомнение, что она мне не верит.
Однако я и мысли не допускал, что заставлю себя извиниться перед тётей Таней – ни за что! После этой короткой беседы Мила действительно прекратила со мной здороваться и заговаривать, что сильно уязвило меня и расстроило. Наверное, удобнее для меня было бы извиниться, признав свою ошибку, но ведь я солгал бы! Нет, пусть будет так, как есть, – правда! Поддержал меня лишь верный друг Юрка Бобылёв, но и тот упрекнул:
– Почему в тулаво не стрелял? Всадил бы ей по самое перо в спину, пускай попробовала бы отпереться. Стрелу не так легко из мяса выдернуть. В больницу пришлось бы тащиться. Эх, слабак…
Не знал и не догадывался Юрка, что не мог я пустить боевую стрелу в тётю Таню, да еще – в спину. Это подло. Рука моя не повиновалась бы. В ногу – другое дело. Впрочем, я ведь не видел, куда направлена моя стрела, – темнынь… Мог и…
О своих переживаниях после крушения дружбы с Милой я никому не обмолвился, даже Юрке. И от великого горя вдруг начал сочинять стихи. Однажды вечером на ум пришли две немудрящие рифмованные строчки. За ними, к удивлению, последовали и другие. Вскоре на листе оказалось написанным целое «стихотворение». Конечно же, обращённое к Миле. В этом и других, похожих на первое, стихах от первого лица искренне мною воспевалась тоска о том, что никто не способен понять терзаний автора, и поэтому роковая любовь навеки останется неразделённой – такова печальная судьба «поэта». Из-за безответной любви, утверждалось в одном из посланий «К М…», жизнь стала тягостно скучной и бесцельной, и тщетно в ней что-то искать, не на что надеяться… Все испытано, прожито, всё прошло… Навсегда.
Удивительно быстро, недели за две, стихи заполнили толстую тетрадь в клеточку, предназначенную для алгебры и геометрии. У всех рифмованных излияний имелся адресат, но вручить тетрадь в клеёнчатом переплёте или даже вырванный листок с одним «произведением поэта» решимости не хватило. К тому же для меня настали ещё более тяжёлые дни. На себе я ощущал не только постоянно враждебное отношение тёти Тани; неожиданные, из-за угла, чувствительные тычки и оплеухи Тольки Ржавца (не мог же я жаловаться маме – стыдно), но и отчуждённость и недружелюбие других соседей. С Милой мы не общались, и я не искал примирения. Хотя меня по-прежнему неодолимо влекло к ней. Во время случайных и выискиваемых мною встреч, когда можно было объясниться, во мне всё сжималось и дыхание спирало. И я молчал. Правда, через некоторое время Мила первой сказала мне здравствуй, я с радостным удивлением моментально ответил на приветствие. Однако не отважился остановить, заговорить о чём-либо. Честно признаться, я робел перед нею, как ни перед кем. Глубже и глубже влюбляясь в Милочку, я становился сам не свой.
К себе в сарай я непременно выбирал такой маршрут, чтобы пройти мимо Милиного окна, ведь мы жили в противоположных частях коммуналки, и всегда, каждый раз, чувствовал себя счастливым, особенно если удавалось увидеть её, как тогда мною воспринималось, прекрасное лицо этой чудесной девушки (она была годом старше, с тридцать первого, но какое это могло иметь значение для меня?). Наверное, она и выглядела серьёзнее, старше. И это несоответствие придавало мне ещё более робости.
Когда темнело, я вдоль забора пробирался тайком к месту, откуда достаточно просматривалась комната Малковых, и блаженное время летело стремглав – и час, и два, и больше… Это происходило в дни моих дежурств по охране огорода. Часто я сам предлагал побдеть за других, например за бабушку Герасимовну, – она плохо видела.
Мама, наверное, заметила изменившееся в чём-то моё поведение и несколько раз допытывалась, что со мной происходит. Я ничего не мог ответить. Мучаясь сознанием, что опять унизился до лжи, всё же скрывал от мамы свои чувствования и переживания. В одном был уверен, что искренне и безответно люблю Милу. Чем чаще думал о ней, тем невероятнее казалась мысль, что у меня хватит решимости признаться в этом кому бы то ни было, и уж, что вовсе несбыточно, самой девушке. Это была очередная, но самая сокровенная моя, трепещущая тайна. Вернее, от сознания которой мною овладевал трепет.
Прижавшись спиной к заплоту, [249]249
Заплот – забор (местное (?) слово).
[Закрыть]подолгу простаивал, любуясь Милой, пока в их комнате не гас свет. Удивительно, что никто из соседей не застал меня за этим странным для всех «бдением». Впрочем, тётя Лиза однажды полюбопытствовала, что я делаю столь поздно во дворе. Смутившись, я всё же нашёлся:
– Огород стерегу. Ведь не только за себя приходится.
Ответ выглядел убедительным: после памятного ночного происшествия с эмалированной чашкой и улетевшей в никуда стрелой уже никто не покушался на наш общий урожай. Может быть, это совпадение и заставило кое-кого из соседей задуматься над тем, что же в действительности произошло в ту ночь? Герасимовна, ковыляя с клюкой, как всегда в бесконечную и вечную магазинную очередь, мимоходом похвалила:
– Молодеш, Егорка. Не побоялша шупротив пойти, дай Бог тебе шаштья.
Бабкина похвала натолкнула меня на догадку, что она верит мне, а не тёте Тане. Прямо об этом сказать не пожелала, побоялась ядовитого тёти-Таниного языка, но в меня уверенность вдохнула! Как же я обрадовался тогда!
Мама ни единым словом больше не напоминала о прежнем грубом отношении ко мне, и я улавливал что-то похожее на скрываемую ею жалость. Или сочувствие. Может быть, безошибочным материнским чутьем осозновала себя виноватой? Однажды она неожиданно прижала меня к груди и, обхватив мою голову, долго гладила волосы, а после, глядя мне в глаза, сказала:
– Прости, сынок, если ненароком обидела. Ты у меня – хороший, я знаю. Я в тебя верю.
Мне подумалось, что она хочет, чтобы я её простил за ту незаслуженную пощёчину в комнате Даниловых, и слёзы неудержимо хлынули на мамино плечо. А она меня гладила и повторяла:
– Ты у меня хороший, хороший… Будь всегда таким честным. И твёрдым.
Нечасто в мальчишеские годы выпадали мне похвалы взрослых, материнские – тоже. Чаще приходилось слышать нудные назидания, понукания и слова осуждения: то сделал не так, это упустил, там напроказничал, не послушался и тому подобное. Подобное пристрастное и недоброе отношение отталкивало меня от взрослых, и мне всё чаще приходилось самостоятельно, по своему пониманию, решать возникающие бытовые задачи.
Разумеется, – и довольно часто – я ошибался. И снова повторялось то же самое – но уже лишь обвинения, а не наказания. К ним тоже не мог привыкнуть и часто не соглашался. Не хотел ни в какую. Особенно – с явно незаслуженными упрёками. Хотя мне мама продолжала внушать: то, что говорят и делают взрослые, – всё правильно, и сомневаться в этом детям нельзя. Эти «правильности» иногда доводили до слёз, которых с недавних пор я стал стыдиться, и последние года два плакал довольно редко – крепился. Терпел. Понимал: терпением следует запасаться и на будущее. Но не всегда у меня это получалось, ибо горячился. И высказывал то, о чём думал, напропалую.
Уединившись в сарайке, на сей раз я дал волю слезам – ведь признала мою правоту и даже похвалила ни кто-нибудь, а сама мама. Значит, и ей стало ясно, что хлестанула напрасно тогда, в присутствии тёти Тани и Толяна. «Экзекуция» при посторонних ранила меня особенно глубоко, тем более несправедливая. [250]250
К сожалению, экзекуционный образ нашего существования преследует меня (уверен, и других тоже) многие и многие десятилетия, передаваясь, как эстафета, из поколения в поколение, поощряемый государственным устройством, в данном случае – социалистическо-коммунистическим режимом.
[Закрыть]
Постепенно успокоился, почувствовав в себе новые силы, и снова поверил, что способен совершить что-то очень хорошее, чем окружающие восхитятся и скажут:
– А Юрка-то Рязанов, смотрите какой… Напрасно мы о нём худо думали…
Больше всего хотелось, чтобы в этом убедилась Мила. Но что именно совершить? Война закончилась, и бесполезно представлять себя храбро сражающимся с фашистами. Других, достойных мужчины, совсем уже взрослого и всё понимающего, подвигов я не знал. Жить, как жил. По тем правилам, которые себе установил. И не забывать о наставлениях мамы. Хотя и не всё, что она мне внушала, выполнимо на самом деле.
В тот вечер я не отправился спать в сарайку. Лёг одновременно со Стаськой, который, как всегда, быстрёхонько заснул – удивительная способность. Я долго лежал в темноте с открытыми глазами. Мне стало покойно и блаженно.
Я уверился, что в огород уже не вползёт ни одни паразит. Ещё решил, что никогда более не загляну в Милино окошко. Но мысленно увидел себя возле него. И там, в большой комнате за столом под апельсиновым абажуром, сидела, склонившись над открытой книгой, русоволосая девочка, тихая и добрая. Она находилась как бы совсем рядом – протяни ладонь, и дотронешься до её руки. Я терпеливо, с затаённым ликованием ждал, когда она поднимет свои весёлые голубые глаза и посмотрит на меня. Но так и не дождался…
Тем временем надо мной снова собирались грозовые тучи. Их усиленно нагоняла неугомонная тётя Таня. Чего только она не выдумывала обо мне! Наконец, Данилова как председатель домового комитета объявила об общем и обязательном собрании жильцов. В коридоре. А по её выражению – «в обчем колидори».
И вот непоздним воскресным вечером я впервые после Дня Победы вижу всех обитателей нашего – и не только – дома одновременно. В ожидании, когда деловитая преддомкома откроет собрание, женщины беседуют о всякой всячине, как бы не замечая меня. Но я знаю, что разговор пойдёт именно обо мне, о чём оповещены и собравшиеся. Все, кроме меня. Предчувствие нависшей опасности не оставляет меня ни на миг. Я всматриваюсь в лица женщин (отец, конечно же, начихал на подобные «мероприятия», лежит на своём диване и читает газету). Я пытаюсь предугадать, что они против меня задумали. Я не опасаюсь каждую из них в отдельности. Даже всемогущую завпродмага. А сейчас вдруг осознал свою беззащитность перед объединёнными неизвестным замыслом взрослыми. Правда, на собрание явился и Толька, смирнёхонько примостившийся на табурете возле своей уже торжествующей мамаши. Ясно, что она решила окончательно сокрушить меня. Дело чести!
Тётя Таня, непонятно для чего, водрузила на кухонную плиту вымпел, полученный ещё до войны в каком-то жэковском [251]251
ЖЭК – жилищно-эксплуатационная контора.
[Закрыть]соцсоревновании. Рядом лежат листы серой обёрточной бумаги и карандаш, стоит пузатый водочный графин, весь в красивых сверкающих трещинах, и гранёный стакан – личная собственность Даниловых. Точнее – наследство дяди Вани.
– Товарыщи женчины, – неестественно праздничным, первомайско-ноябрьским голосом произносит тётя Таня. – Мы собралися, штобы решить два важных вопроса: о переносе обчественной уборнай на друго место и о фулюганском поступке Егорки Рязанова, который должо́н понести суровое наказание за своё недопустимаё в нашем социалистицком обчестве фулюганство.
Ораторша в своей речи явно подражала кому-то и попыталась быстренько покончить с первым вопросом. Но просчиталась.
Бабка Герасимовна, до того, закатив глаза, расхваливавшая «белай, как шнек, камершешкай хлеб», который «выкинули» во вновь открытом магазине, насторожилась и выкрикнула тонким, с хрипотцой, голоском:
– Этто пошто жа на наши-те кровны деньги уборну туды-шуды ташкать? Шлава Богу, она далёко на вжгорке штоит, никому шолнышка не жашланят. Да и то шкажать, давно ли яму рыл липатрированный. [252]252
Герасимовна исказила слово, толком, очевидно, не расслышав его, – «репатриированные» (возвращённые на родину лица, оказавшиеся вне её пределов во время войны). Новую яму копал немец с Поволжья, сразу же после начала войны вместе с другими отправленный в ссылку куда-то в Казахстан, на принудительные работы.
[Закрыть]Копачу [253]253
Копач – землекоп.
[Закрыть]ить по полбуханки ш кажинной шемьи отдали. А они, буханки-те, шай, на древах не раштут. Так-то вот!
– Гражданы жильцы, – вдохновенно и звонко продекламировала тётя Таня, – подумайте сами: кому пандравитца, ежели уборна перед окошком стоит? И еёная вонишша. Мухи летят роем пряма на стол. Потому-та уборну надо перенести…
– И кому же этто мухи помешали, божии твари бежобидныя? – не сдавалась бабка.
– Кому? Да, к плимеру, уважаемай Дарьи Ликсандравне. Из еёного окошка и вид на уборну, как все в её шастают и помои ташшат. А Дарья Ликсандравна – человек культурнай, в торговле работат, и каково ей тако́ из собственного окошка кажинный день видить?
Бабка Герасимовна, почти всегда приниженно-суетливая и подхалимистая перед высокомерной и чванливой завмагом Малковой, сейчас воспротивилась навязываемому тётей Таней «решению вопроса».
– Уважаему Дарью Лекшандровну мухи кушают, пушшай тады она нанимат липатрированных и рашплашиватша ш ними. Нам негде таки капиталы вжать. Вота што я шкажу.
Бабка, взволнованно выговорившись, умолкла. Сморщенные губы её тряслись. Взгляды всех обратились к Малковой. Та, спокойно выслушав волнительные бабкины речи, лишь чуть сморщила в брезгливой гримасе гладкое, ухоженное кремами, до отвращения красивое лицо и не сочла нужным и словом возвразить. За уважаемого завмага после длительной неловкой паузы ответила услужливая и говорливая преддомкома.
– Гражданы женчины! Обчественное мнение тако: переставить уборну на друго места. Хто – «за»? Единогласна!
– Погодь-погодь, Татиана, не спеши, – возразила разгорячённая бабка, ведь разговор продолжался о хлебе насущном, но её перебила рассудительная тётя Лиза Богацевич: – Ты настойчиво предлагаешь перенести клозет. А куда конкретно? Куда его ни поставь, он в чьё-то окно виден будет.
– А у тебя, Лизавета Мануиловна, вовсе и окошка-то нету. Ты как в чумадайне живёшь, – злорадно прервала тётю Лизу преддомкома. – Чего ты за других-то переживашь? Ты за себя, а не за других думай. Други сами за себя пушшай думают.
– Я уверена, – не смущаясь, продолжила тётя Лиза, – что выражу мнение большинства, предложив записать в решение собрания: перенести общественный клозет к забору напротив окон Даниловых, выполнив все работы за счёт Малковой. По сути, всё это ради неё затевается. Кто за это решение, голосуйте, потому что за предложенное Даниловой никто не голосовал вовсе. А она объявила: «Все – «за».
Соображения тёти Лизы, несмотря на протесты председательницы и организатора собрания, утвердили большинством голосов. Против высказались, как и следовало ожидать, тётя Таня и завмаг. Толька, выполнявший по поручению матери обязанности писаря, ибо тётя Таня совершенно грамоты не разумела, даже фамилию свою начертать не могла, крестики ставила, растерялся.
– Записывай, Толя, как в самом деле решило собрание, – поднукнула его тётя Лиза.
– Где же справедливость, бабы? – театрально возопила тётя Таня, воздев руки. – А почто, спрашиватца, под мои окошки?
– Да потому, как ты верно подметила, нет у меня не то что окна, даже форточки, – улыбаясь, ответила отважная тётя Лиза. – А тебя Малкова не забудет, по блату отоварит.
Преддомкома, словно чего-то испугавшись, прекратила пререкания и объявила:
– А таперича, гражданы жильцы, обсудим фулюганский поступок Егорки Рязанова…
И тётя Таня, захлёбываясь, поведала о ночном происшествии: о похищении мною её эмалированной миски, в которую я сложил выкопанную мною же с малковской грядки картошку. Всё это, оказывается, я совершил с коварной целью – оклеветать преддомкома как общественную деятельницу. Подорвать её авторитет. Не забыла она красочно расписать и «бандитское» нападение на паиньку Тольку, который получил «увечье носа». А Ржавец, скромно потупив взор, демонстративно щупал свой совершенно здоровый конопатый носище, как бы подтверждая слова матери.
Не переводя духа, она подытожила:
– По энтому по всему обчее собрание граждан жильцов нашего дома решило просить милицию привлечь Рязанова Егорку за напраслину на чесную гражданку Данилову Татьяну Петровну по всей строгости советскава закона и отправить ево в детску исправительну колонию. Туды таких берут, я разузнала, где следуит. В обчем, всё всем ясно? Кто – «за»?
До меня не сразу дошёл зловещий смысл её требования, а когда понял, какую беду кличет на мою голову тётя Таня, то всё во мне возмутилось и взбунтовалось. Меня не испугала замаячившая впереди колония. Ужаснуло иное: вдруг присутствующие поверят чудовищной лжи. Поверят в то, чего я не совершал и не мог совершить?!
Наверное, у меня был испуганный и растерянный вид, чем немедленно и воспользовалась Данилова:
– Чево скукожилси? Чай, знат кошка, чьё мясо съела…
Под взглядом присутствующих я словно одеревенел, не в силах вымолвить и слова в свою защиту.
Перед глазами мелькали лица собравшихся. Длилось это мельтешение невыносимо долго, хотя не прошло, вероятно, и минуты. И вдруг я увидел Милу. Сначала не узнал её – девочка не улыбалась приветливо, как всегда, а очень серьёзно и пристально вглядывалась в меня. Такой я не наблюдал её никогда.
– Погодь-ка, погодь. Как жа так, бабы, жараж – и в турму? Пушшай парнишка рашшкажит, как вшо полушилошь.








