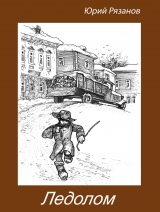
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 48 страниц)
Собакой он нас хотел на пушку взять, её только ночью с цепи спускали.
– Дяденька Капустин, можно мы у вас заработаем поесть? – попросил я. – Чего-нибудь, что со вчера осталось.
– Три дня ничего не жрали, – добавил Генка, жалобно хлюпая носом. – Маковой росинки в роте не было.
Повар прекратил рубку мяса на выщербленном толстенном чурбане и переспросил насмешливо:
– Три дня?
– Сироты мы, добрый дядя. Отца на фронте убило, мать – с голоду померла, – бессовестно врал Генка, нарочно гундося ещё сильнее.
Я почувствовал, как от стыда у меня опять запылали уши, – он ведь и меня в «сироты» зачислил.
Но провести повара было, видимо, непросто. Он догадался, что мы не те, за кого себя выдаём, и с усмешкой спросил:
– И что желают бедные сиротки на завтрак: антрекот или месо по-строгановски? Вон тот сиротка, – он кивнул в мою сторону и трахнул палаческим топором по бараньей туше. – Не морочьте меня, я вас видел на Свободе, у Фридманов…
– Мы не просим. Мы любую работу умеем, – ответил я.
– Улепётывайте отсюда. Нищих много, а подать – нечего, всё – казённое.
Я вспомнил о еде, какую этот франт, в белоснежном крахмальном колпаке и в щегольских тёти-Басиных галифе комсоставского синего сукна, щедро отвалил для фридмановских собак, и подумал, что мы не откзалались бы сейчас от подобного лакомства. И ещё подумал: потешается над нами. Ему приятно над другими насмехаться. Вон какой упитанный и румяный. И усы, как у жука, торчат. Жук!
– Ильич! – послышался из-за затянутых марлей половинок двери женский голос. – Капустин! Быстрея! Поторапливайся, Костя!
– Айн момент, – весело отозвался повар, прислонил к обрубку брёвешка страшный свой топор (в книжках с такими орудиями изображали пучеглазых палачей) и шустро рванул к двери.
– Даже фамилие у повара – так бы и сожрал. Ежели тушёная. Как Фридманам приносил, – позавидовал Генка. – Давай кусок мяса стырим.
– Ты что, сдурел?
– Хоть вон тот мосол. Он и не заметит. А я его в штаны заначу, за пояс. А поймают – всё одно не посодют, потому как годами не вышел. Пока поварюга прибежит, я уже через забор – и аля-улю! [352]352
Аля-улю – междометие, имеет несколько смысловых значений. В данном случае на русский литературный язык можно перевести как «пока!».
[Закрыть]
– Ну и что, што не посадят? Совесть-то у нас должна быть.
– Папаня грит, где совесть у людей была, там хуй вырос.
И шагнул к чурбану, с которого свисала туша.
– А ты кричи, ежли заарканят: «Ничего ни видал!»
– Не тронь! А то я тебе… – рассвирепел я.
– Сварили ба, – умоляюще произнёс Гундосик. – В цинковом ведре.
– Отвали! [353]353
Отвалить – убежать, сбежать; отвали – отойди (уличная феня).
[Закрыть]
– Дурак ты, а не кореш! – зло выкрикнул Гундосик.
Я ему показал кулак. Не знаю, куда нас завёл бы спор, если б не поспешное возвращение Капустина. [354]354
Фамилия, имя и отчество повара – подлинные.
[Закрыть]
Ждать чего-либо благоприятного от него, такого зянятого и заполошного, вроде бы не следовало. Но мы не убежали, не отступили, а топтались возле чурбака. Генка держался несколько позади меня.
Повар выпрыгнул во двор, будто вдогонку ему плеснули крутого кипятка. Увидев, что мясо на месте, и, переведя дыхание, он удивленно произнёс:
– Не спёрли месо? Не успели?
– А зачем нам чужое? – якобы равнодушно подыграл Генка. – Мы порядошные люди. Не какие-нибудь шарамыги или кусочники.
– Погодите. Айн момент, – прожевывая что-то на ходу, прошамкал повар, но уже без прежней дурашливости, серьёзно.
Он быстро и сноровисто раскромсал остатки туши, сбросал куски в начищенный до зеркального блеска бачок из жёлтой меди с тем же невероятным словом, начертанным суриком: «месо», положил туда же и секиру, легко поднял посудину и бегом, расшарашив ноги, засеменил к двери, затянутой марлей.
Ждали мы нашего благодетеля долго. Точнее, нам так показалось. Капустин появился стремительно и потому неожиданно. На ладони, как цирковой фокусник Ван Ю Ли, он держал большую тарелку, наполненную чем-то съестным. В другой руке у него были зажаты куски хлеба – несколько. Все – надкушенные.
– Ешьте, огольцы. Во что вам?
Я замешкался.
– Тарелка – государственная, – констатировал он.
– Давай сюда, – нашёлся Генка. – Сыпь!
Сдёрнул пилотку и подставил её.
Повар осклабился, уж очень его забавила эта сценка, и опрокинул содержимое тарелки в Генкин головной убор, отнюдь не отличавшийся, как я заметил ещё в бане, стерильностью.
Я протянул ладони, и повар положил в пригоршню разнокалиберные кусочки серого хлеба. Серого!
– Спасибо, – поблагодарил я.
– Рвём отсюда когти, – засуетился Венка. – Пока шакалов не видать.
– Каких ещё шакалов?
– Которы отымают у малолеток. Парни взрослые. Хапушники. Кодлами [355]355
Кодла (кодло) – воровская шайка (воровская феня).
[Закрыть]ходют и шакалят. [356]356
Шакалить – грабить, отнимать (воровская феня).
[Закрыть]
– Те, что на Миассе?
– Да они везде.
Разумное предостережение.
Устроились мы пировать на борту сухого фонтана в ближайшем сквере. Кругом – безлюдно. Палая листва тополей и сирени хрустела под ногами. Мне стало почему-то грустно.
– Смотри-кася, кирюха, есть жа ищё фраера, што хлеб до конца не доедают, – подивился Генка и показал мне ломтик с надкушенным краем. – Во буржуи! Таки и выбросить могут…
– Хлеб никто не выбросит, – уверенно возразил я. – Это ж хлеб.
– А это чо – кирпич?
– Может, он свой отдал. От пайки. Сел завтракать, а тут мы подоспели. Он и подумал, Ильич этот, Капустин: свой кровный отдам, а сам как-нибудь на супе перебьюсь.
Генка мне не поверил, но и спорить не решился.
Из пилотки он выскреб всё до крошки и удовлетворённо произнёс:
– Шик! Шикарно похряпали. [357]357
Хряпать – имеет несколько смысловых значений, в данном случае «хряпать» – есть (уличное слово).
[Закрыть]
Протёр горстями листвы нутро пилотки и нахлобучил её на голову.
– Знашь, почему поварюга раздобрился?
– Мало ли добрых людей.
– Чекалдыкнул. Ей-бо! От него вином так и воняло. У меня нюх, как у собаки. Маманя хлеб затырит в матрас, кода ей ёбари задатку дадут, а я всё одно найду – по духу.
– Хор. Идём работать. Пока отыщем железяки да притартаем, дядя Лёва свою лавочку откроет, – сказал я. – Местечко одно я давно заприметил – клад!
И мы пошли обратно, на улицу Труда, к трамвайному управлению. Там, за пределами худого забора, ограничивавшего двор от берега Миасса, валялось много обрезков медного провода, куски рельсов и другой металлолом. Нелегко было из свалки извлечь медь.
Мы искренне считали, что всё валяющееся бесхозно на земле, незапертое и неограждённое – ничьё и принадлежит тому, кто его найдёт, – чур, моё!
Забор, не чиненный много лет, обветшал, местами завалился, и территория берега как бы продлялась во дворе. В нём-то мы и стали хозяйничать. Правда, с оглядкой. Дважды нас прогоняла какая-то крикливая женщина в форме трамвайщика. Но мы возвращались и, собрав то, что лежало наверху, выдёргивали и выдалбливали металл, вросший в землю.
Трудились мы без продыху весь день. Очень довольный нами, дядя Лёва не запер свой ларёк вовремя. Подсчитали выручку – получилось совсем немного. Нет, за месяц нам не скопить на билеты до самого прекрасного города в мире. И за полгода не сгоношить. [358]358
Сгоношить – скопить (феня).
[Закрыть]Едва-едва добыли на пропитание. Да и то… Правда, не считая загашника.
– На утиле не сгоношишь, – подтвердил Генка. – За что-то другое надо хвататься. Айда на хату.
Дворами вышли к Генке. Я увидел свой дом издалека – и сердце сжалось в тоске. Но я скрепил себя – пора быть настоящим мужчиной, а не малолетним слюнтяем.
Заглянули в комнату Сапожковых, с незакрывающейся, разрубленной топором дверью, без половиц, в окнах – какие-то картонки и осколки стёкол. На стене, над кроватью, висит, как прежде, большой, раскрашенный акварелью, но уже заметно выцветший фотопортрет молодой и неестественно красивой тёти Паши. А под ним, на чёрном матраце, устроился, свернувшись клубком, дворовый, ничейный, забитый всеми и поэтому трусливый и визгливый молодой пёс Шарик.
Генка шугнул его со своей законной постели. Тот, скуля от страха, выскочил во двор и лишь там забрехал, залился тонко и зло.
Мы обошли дом и постучались к Юрке, соседу Сапожковых. Он оказался дома. Пошушукались с ним, чтобы Галька не услышала. Он нас репой из подпола угостил. Отец его уже не ночевал на заводе, а приходил из цеха спать домой – угрюмый, молчаливый, слова не вымолвит. Таким его сделала гибель жены, повесившейся в коридоре этого дома в сороковом. Или даже в начале сорок первого. До чего несчастливый год!
Отец Юрки мог вернуться с минуты на минуту, и мы, побаиваясь его почему-то, хотя он нам никогда никакого зла не причинял, поспешили к Гарёшке.
Как истинный разведчик, я оглядывался по сторонам, пригнувшись, пересекал открытые пространства, прятался за электростолбы и в подворотни. От отца. Вдруг невзначай повстречается.
Гарёшка попотчевал нас помидорами с солью и драниками-блинами из тёртого картофеля. Там же, на сеновале, мы основательно побеседовали, обсудив мою и Генкину дальнейшую судьбу, – мы верим, что у нас теперь одна судьба. Если б полезли в штаб, меня мог увидеть любой житель нашего дома, а этого я не желал. Поэтому и со Стасиком избегал встречи. Хотя и не терпелось его повидать, обнять на прощание, одарив ценными житейскими советами. Правда, Юрка и Гарёшка пообещали его опекать. Эти обещания меня несколько успокоили.
Гарик, выслушав нас с Гундосиком, согласился, что сбором и сдачей утиля не разживёшься, одобрил мою идею насчёт настоящей работы и на всякий случай дал нам адрес своего двоюродного брата, моего сверстника, по кличке Коля Шило.
Несколько лет Шило, потреяв родителей, обитал в детдоме, а сейчас трудился токарем на ремзаводе недалеко от Челябинска. Жил он там же, в посёлке Смолино, в бараке вместе с другими бывшими детдомовцами и колонистами.
Игорёшка обещал замолвить перед братом за нас словечко во время его очередного прихода в гости. А если мы, решил я, надумаем наведаться туда спешно, то и сами попытаемся договориться, – с Колей знакомы всё-таки. Хоть и шапочно.
С Колькой я раза два встречался здесь же, в Игорёшкином дворе, но не сблизился. Он был постарше на год-два и жил другими интересами – работяга!
Что ж, попытаемся примкнуть к детдомовским. Может быть, примут к себе. Не вечно же под баком жить. Но пока и там сойдёт. Другого-то пристанища нет. Генка уверял: можно ночевать и в канализационных колодцах, там тоже тепло, на трубах центрального отопления, или в подъезде большого дома номер тридцать шесть по улице имени Цвиллинга, однако я отстоял не менять убежища.
Выйдя дворами на улицу Красноармейскую, мы направились к бане, но мне так непреодолимо захотелось увидеть Милу, что я попросил Гундосика одолжить мне верхнюю одежду, не знаю, как её назвать: пальто не пальто, похоже, что это был ватный подклад старушечьей кацавейки, неровно обрезанный понизу под Генкин рост. Махнулись [359]359
Махнуться – обменяться (феня).
[Закрыть]мы и головными уборами. Генкина пилотка не пришлась впору – нависала на глаза. А Генке – тютелька в тютельку. А ведь с головы дяди Вани. Наследство. Вспомнилось, что в младенчестве Генка страдал рахитом и потому имел большую голову и уличную кличку соответственную получил – Головастик. Гундосиком его прозвали позже.
Этот головной убор мне явно не подошёл по размеру. Гундосик, окинув меня оценивающим взглядом, тем не менее произнёс:
– Личит. [360]360
Личит – вполне подоходит, как раз впору, по размеру, к лицу (феня).
[Закрыть]Никто не додует, что это ты. Даже родный папаня.
В этом наряде, ещё глубже надвинув свою цыгейковую порыжевшую шапку, прошёл во двор двадцать второго дома никем не узнанный, влез на чердак и стал наблюдать за нашим домом.
Мне повезло. Я аж вздрогнул от какого-то внутреннего сильного толчка – увидел, как на крыльцо вышла Мила, спустилась с него с ведром в руке, быстро и легко зашагала к уличной колонке.
Я еле дождался её возвращения, весь напрягшись от переполнявших меня чувств, – даже пальцы дрожали.
Вскоре я успокоился. Сушь во рту исчезла. Спустился вниз.
Мне значительно полегчало. Сил словно бы прибавилось. В памяти, из её светлых глубин, возродилась и зазвучала прекраснейшая мелодия, та, что однажды летним утром услышал в наушнике, лёжа в своей сараюшке на железной дедовской кровати.
Женский голос, ласковый и щемяще печальный, пел о том, что зима пройдёт, и она, певица, вновь встретится с тем, кого ждала. Я млел на ходу от этой внутренней, только мне слышимой музыки, окрылённый тем, что увидел Милу. Но грусть просочилась сквозь чудную мелодию – когда-то теперь мы ещё встретимся? Зима вся впереди. Длинная-предлинная зима. А нынче она будет много дольше, вдали-то от всего родного, привычного.
Сухая колючая мелкая крупка сыпала в лицо, раскатываясь под ногами во все стороны. Генкин пальтуган вовсе не грел, и я озяб.
Гундосика застал сидящим на скамейке рядом с входом в мужское отделение. Он спал, прислонившись головой к стене и раскрыв рот, – натаскался за день железяк-то.
Рядом гоготали мужики, курившие едкую махорку. Соседи задевали его локтями, но Генка и ухом не вёл – не чувствовал.
Я его еле растормошил.
– Идём под бак. Здесь кто-нибудь из знакомых увидит, – попросил я.
Генка встал, пошатываясь, и мы, напившись из-под крана в туалете и переодевшись, подались в нашу «заначку». Сейчас лохмотья под баком представились мне мягче пуховой перины тёти Тани, которой она не раз хвасталась: «приданое, чистый пух».
Отделение на втором этаже почему-то не работало. На скамье в пустом предбаннике дремал какой-то мужчина, на которого мы не обратили внимания. Пригнувшись, вползли на площадку и открыли дверь. Опять, держась за рукав Генкиного одеяния и вытянув вперёд руку с растопыренными пальцами, я шаг за шагом приближался к желанному месту отдыха. И тут слепяще ударил направленный в глаза электросвет. Я зажмурился и отпрянул. А меня уже крепко держали, обыскивали, выворачивали карманы.
– Чего вы! – пискляво ерепенился рядом Генка. – Чего лапаете?
– Федорчук, обыскал того, что постарше?
– Так точно. Деньги.
– Какая сумма?
– Три двадцать.
– А у второго?
– Ничего.
«Милиция! Вляпались…» – догадался я.
– Вниз их. Без шума. В отделе разберёмся.
Меня и Генку сопровождали спереди и сзади двое в гражданской одежде. Тот, кто вроде бы дремал на скамье, при нашем появлении резво вскочил и что-то сказал нашим конвоирам, я не разобрал что.
Во дворе бани стоял чёрного цвета лимузин. Без окон, с зарешёченной дверцей сзади. Нас затолкнули в него, предварительно ещё раз обыскав. В автобусной утробе возбуждённо гомонили, бесцеремонно толкаясь, несколько человек. В тёмном углу повизгивала какая-то женщина. Кто-то гоготал и даже отплясывал чечётку. Как можно веселиться в такой обстановке?! Сумасшедший дом!
Мы тесно прижались друг к другу и молчали. Нас тут же оттеснили от решётчатой двери развязные и крикливые парни, во всю изъяснявшиеся – на показ! – на воровском жаргоне – фене.
– Ништяк, – подбодрил меня Гундосик. – В «воронке» прокатимся. Лафа.
– Чему радуешься? – недовольно шепнул я Гундосику.
– Весело! В облаву втюрились! Давай договоримся: друг друга не знаем, на чердак случайно залезли. В несознанку прём. Идёт? В баню пришли помыться, ясненько?
– Идёт, – ответил я и тут же поправился: – Зачем я буду врать, что не знаю тебя?
– Так надо, кирюха. Или ты расколоться надумал перед мусорами?
«Пожалуй, о себе и впрямь не следует там распространяться. К чему?» – мысленно согласился я с Генкой. А друг шептал в ухо:
– Банду имают. Слышал – «Чёрная кошка»?
– Не слыхал.
– Темнота! Слушай: они кошку подсовывают под дверь хаты, которую намылились грабануть. И сапогой р-раз! На еёный хвост. Кошка как забарнаулит: мм-м-я-йя-я… Хозяева, фраера, дверь открывают, а их глушат. Начисто. А опосля на куски режут, в чемоданы, и по городу разбрасывают. Жуть кошмарная!
– Враньё всё это, – сказал я, холодея от страха.
– Натуральная правда, – громко возразил Генка. И тут же спросил:
– Как думашь, найдут дяди-гади Шекспира или нет?
– С собакой – найдут. А так – нет.
– Пофартило – у их нету собаки.
– А куда нас повезут?
– В мелодию. Куда жа ишё. В седьмо отделения. К Бате.
– К какому бате, чьему?
– К Батуле. Начальничку. Давно с им не видался. Кликуха у его такая – Батя. Вроде как он всем нам отец родный.
Батула – знакомая фамилия. Она высветила в памяти моей портрет человека – усталого, терпеливого, озабоченного, похожего внешностью на простого работягу с ЧТЗ. Тогда, в сорок третьем, он был дежурным отделения милиции – вспомнил.
Времени-то прошло сколько – целая вечность, больше трех лет! Но встречи с Батуло я всё равно не желал. Хотя он наверняка уже сто раз забыл обо мне. Может, обойдётся? Что мы такого натворили с Генкой? Ничего ровным счётом. Зашли на чердак. Мало ли зачем можно туда заявиться.
Тем временем наши фамилии, как и других доставленных, записали в журнал.
– Ген, давай скажем, что разыскивали голубя-почтаря, который сел на крышу бани. Как?
– А чо? Законно. Подписываюсь.
Избежать встречи с капитаном Батуло не удалось, как я внутренне этому ни сопротивлялся.
– Рязанов! – вызвал меня из «отстойника» – огороженной барьером части прихожей – дежурный милиционер.
– Я! – машинально отозвался.
– К начальнику.
Во рту у меня будто самум пронёсся. И всегда так, когда волнуюсь.
– Можно попить?
– Пей. Быстро.
Я нацедил из цинкового потемневшего бачка в прикованную к нему цепью кружку воды и крохотными глоточками оттягивал время нежеланной встречи. Но вода кончилась-таки. Когда я потянулся вторично к крану, дежурный отрезал:
– Хватит! Шагай!
Я прошёл в кабинет и, не глядя на хозяина его, потупился.
– Здравствуй, Рязанов. Юрий Михайлович. Тридцать второго года рождения.
– Здравствуйте, – промямлил я.
– Да, мы с тобой уже встречались. Герой, помнится, тебя пацаны зовут.
Произошло худшее – он узнал меня. Невероятно! Ну и память.
– Так-так… Выходит, снова к нам пожаловал. Это плохо, Гера. Я тебя тогда предупреждал?
– Ни за что сцапали.
– Ни за что? А что вам с Сапожковым Геннадием Ивановичем понадобилось в техническом помещении бани номер один?
– Голубя искали. Почтарь у нас улетел.
– Неправду говоришь, Гера. Постыдись.
– Почему это неправду? – вяло оправдывался я, осознавая свою нечестность, и то, как я выгляжу перед умным пожилым человеком.
– Потому что в глаза не смотришь. Посмотри мне в глаза.
Я поднял глаза, но не смог долго удержать взгляд и снова сник.
За минувшие три с лишним года Батуло очень изменился – постарел поразительно, похудел, усы его совсем побелели, волосы на голове – тоже, под глазами чернели мешки, резче проступили морщины на щеках и лбу. Видать, начальника порядком измотала работа. Или болезнь. Всё-таки, наверное, работа. Вон с какой публикой каждый день имеет дело – оторви и брось!
– А теперь признайся как пионер, или тебя уже в комсомол приняли? С какой целью проникли на чердак бани? К кому шли?
– Я ж сказал: голубя искали. Да и не пионер я никакой, и не комсомолец.
– Голубя? Или людей? А такие тебе «голубки» известны?
И он перечислил по памяти с десяток фамилий и кличек, ранее мною никогда не слышанных.
– Нет. Не знаю никого.
– Хорошо. А по кличкам знаешь, не будешь отрицать? Свисток, Коля Маля, Коля Пионер, Валька Курица, Ляпый, Юрица, Витька Икра, тёзка его – Тля-Тля, Гудман…
Он продолжал называть клички, но я его уже не слушал. Ляпого я видел много раз – отчаянный подросток с хулиганскими замашками уличного атаманчика. Он, кстати, местный, недалеко от бани живёт, в полуземлянке. И некоторых других тоже знал или видел.
– Нет, никого не припомню.
– Опять неправду говоришь. С Ляпым ты не мог не встречаться. На улице, на реке. А теперь скажи мне откровенно: почему из дому ушёл?
Я онемел. Чего угодно, лишь не этого вопроса ожидал. Откуда, от кого он мог узнать?
– Плохо. Очень плохо, Гера. Ты стал неискренним. Скажи мне и поверь, что добра тебе желаю: что произошло? Дома неприятности? Мать зашпыняла? Отец наказывает? В школе учёба не совсем гладко идёт? Или ещё что? Почему из дому-то ушёл? Или тебя на этот шаг кто-то подбил? Кто?
– Никто меня не подбивал. Просто не пошёл домой, да и всё, – замкнулся я.
«Ишь чего захотел – чтобы я пацанов предал», – воспротивился я мысленно.
С этого мига мне стало ясно, что ничего ему не скажу. Не мог я рассказывать этому чужому, возможно и хорошему, человеку об отце, о его отношении ко мне, о пацанах, о моих мыслях, устремлениях, мечтах… И о себе я подумал с какой-то ясной беспощадностью: сам во всём виноват! Делал бы то, что положено всем, не было бы ничего этого. Испорченный я человек. Не как все обычные хорошие ребята. Правильно Александрушка пилила меня в своём школьном кабинете. Я ту беседу запомнил. Завуч раздражённо выговаривала мне:
– Почему ты, Рязанов, не хочешь быть таким, как все? Почему? Учишься неважно, хотя способности у тебя есть. Отвечай: почему? Это так просто: выучить вовремя слово в слово, что задано преподавателем. И никто тебе замечаний делать не станет.
– Я не могу слово в слово. Не получается, – ответил я правдиво.
– Почему не получается? Другие могут, а ты не можешь?
– Я могу повторить, как понимаю. Своими словами. Я ведь не попугай.
На этом добрый наш разговор завершился. Далее он пошёл в другом тоне.
– Своими? – разозлилась Крысовна. – Как понимаю! Да ты у нас, Рязанов, мыслитель! А этого от тебя никто не требует. Никакие твои «оригинальные» мысли никому не нужны. От тебя требуется вы-у-чить! Понятно? – вы-у-чить то, что положено. Что напечатано в учебнике и рассказано учителем. И запомни на всю жизнь: повторение – мать учения.
– Зачем зубрить то, что и так понятно? Или не хочу.
– Знаешь, Рязанов, либо ты будешь учиться, как все и как полагается по программе, либо распростишься со школой. Такие, как ты, нарушители режима, школе не нужны. Усвоил? Не попугай.
Я упрямо промолчал. Хотя подмывало заявить: да, я не попугай. Она поняла меня правильно.
На том мы и расстались. Довольно мирно. Похоже, школе я и в самом деле не нужен, права Крысовна. Не хватает мне послушания. Не умею я безоговорочно подчиняться приказам старших. Это мой большой недостаток. И ничего поделать с собой не могу.
– Так что? – услышал я голос Батуло. – Не глупи. Будешь со мной откровенным? Пойми, я тебе помочь хочу. Пока не поздно.
«Ничем ты мне не поможешь, – ответил я начальнику мысленно. – Никто мне не поможет. Только я сам».
– Так. Не хочешь. Ты скоро убедишься, что напрасно вёл себя неискренне. И повторяю тебе как сыну: не надо сюда больше попадать. Пойми – ты уже почти взрослый. Дорогу в жизнь следует пробивать не с милицейских приводов и протоколов. Без образования в жизни трудно сделать то, что тебе предстоит. Парень ты, похоже, неглупый, вот и не валяй дурака. Топай домой. Условились?
Явившийся дежурный спросил начальника:
– Под расписку родителям?
– Отпустите его. Сам до дому дойдёт. Не обманешь меня, Гера? Домой пойдёшь?
– Домой, честно говорю, не пойду, – ответил я – чтобы не видеться с отцом. – А Сапожкова вы отпустите? Он тоже ничего плохого никому не причинил. Честное слово. Он просто несчастный пацан. Не везёт ему в жизни. А он хороший мальчишка. Сегодня мы с ним весь день работали. Три двадцать за сданный металлолом выручили. Это разве не заслуживает похвалы? Пусть подрастёт – где-нибудь устроим. Работать будем.
Батуло долго изучающе смотрел на меня, тяжело вздохнул и ответил:
– И Сапожкова отпустим. Чего ему у нас делать? Иди. Прощай. Отцу скажи, чтобы пришёл ко мне на беседу, я направлю повестку. Я здесь всегда. Пусть приходит в любое время.
Так он и разбежался. Хотя по повестке, возможно, и придёт. «Вот и беседуйте с ним, мне всё равно», – подумал я. И машинально сказал:
– До свидания.
Я безошибочно чувствовал, что начальник милиции продолжает рассматривать меня, словно ожидая продолжения беседы. Откровенной. Обо всём, что мне известно. Однако она не состоялась. Я не взглянул ни на него, ни в его глаза и молча вышел из кабинета.
С облегчением миновал обшарпанные, окрашенные в тёмно-зеленый цвет и захватаные, грязные стены милиции, с силой захлопнув за собой раздрызганную входную дверь.
Куда теперь? Дождусь Гундосика.
Ждал я его довольно долго. Совсем смеркалось.
Появился он вместе с тётей Пашей. Когда она успела пройти в отделение, не заметил. Наверное, когда Батуло меня допрашивал.
«И вовсе никакая не страшная милиция, – подумалось мне. – Чего её бояться? И Батуло – ничего мужик. Справедливый… Но чем он мне поможет? Лишь навредит. На тех, кто якшался с милицией, пацаны смотрели косо, а иногда и колотили «втёмную». [361]361
Втёмную – избиение кого-то или в темноте, или накинув на голову жертвы что-нибудь такое, что бы закрыло глаза.
[Закрыть]Ох и память у него! Такую бы мне…»
– Пошкандылял я, – объявил Генка тёте Паше, когда я к ним приблизился.
– Куда попёрлись-то? – напутствовала нас Генкина маманя, судя по внешнему виду – с глубокой похмеляги.
– По своим делам. Тебе-то чево? Поканали, Гера.
– Ты что с ней зубатишь? Мать всё-таки, – пожурил я друга.
– Да кака она мне мать… Глаза бы не видали. Деньги наши менты казачнули?
– О чём ты?
– Жухнули? По-русски не понимашь? Деньги где?
– Вот. Отдали всё, до копейки. Я за них расписался.
– Прожрём? На пирожках?
– По штуке. И в баню идём, в прожарку, – предложил я. – Не могу больше – кусаются. А после – к Шилу. Ночь где-нибудь перекантуемся? Иначе мильтоны опять загребут.
– Не забирут, не бзди. Облава закончена. Гады по новой в один день не шманают. Ежли только каво пасут. К примеру, мокрушника какова-мабудь. Аль побегушника из зоны. Не, не приканают по новой – нарыхали [362]362
Нарыхать – испугать, потревожить (феня).
[Закрыть]уже. Отметились уже в милодии. А о прожарке – непривышный ты, Ризан. Они тебя потому и кусают. А меня – так, маненька. Ну, пошкандыляли!
– Куда?
– Напару, темнота. Под бак. Я заоднем Шекспира заберу. И фантики. В Лёнчиковом лопатнике притырены. Из натуральной кожи.
При упоминании Лёнчика я моментально опять вспомнил праздничную городскую площадь девятого мая сорок пятого года, и меня захлестнуло возмущение.
– Сволочь – твой Лёнчик. Он подлый вор!
– Тебе што, фраеров жалко? – хорохорился, явно копируя кого-то, возможно самого Питерского, Гундосик.
– А ты кто – не фраер?
– Я? Я босяк! Меня в закон блатные примут, потому как я с ними на воле бегаю. И братан мой в колонии чалился… Во! Блатным буду. Чистокровным…
– Ну и шуруй к своим блатным, если у тебя ни стыда ни совести нет. И заткнись – не смей об овоще мне говорить, который якобы вместо совести вырос, – глупость чужую повторяешь, как попугай. Ты лучше сам своим шарабаном подумай: с ворами или со мной? Выбирай!
Ещё малость, и мы расстались бы. Рассорились вконец. Гундосик, однако, колебался в выборе. Я продолжал:
– Если ты своего Лёнчика ждёшь, то и жди. Я один, без тебя, на работу устроюсь. Ну?
Генку охватило смятение. И, видя, что я решительно приготовился выполнить своё обещание, он спросил:
– А в Ленинград чухнём?
– Непременно. Как только заработаем на билеты.
– Ну лады, айда… А пока возьми свой чесно заработанный рупь шестьдесят.
И мы подались в неизведанное. Всякое могло ждать нас впереди. Генка думал о чём-то своём. И мурлыкал любимую песенку тёти Паши:
– Стаканчики гранёные
Упали со стола,
Упали и разбилися,
Разбита жись моя.
Поздно ночью, но без приключений, мы добрались до ремзавода, в нескольких километрах от Челябинска, недалеко от деревни на берегу озера Смолино. Место нам давно знакомое. В прошлые годы мы бегали на озеро купаться, загорать.
…Усталые, измочаленные до опустошения событиями трудного дня, мы сидим за длинным, грубо сколоченным дощатым столом, по обе стороны которого стоят такие же скамейки. Барак выглядит неуютным – сарай сараем. Нас окружили коротко стриженные ребята в рабочих спецухах. Одни почище, другие позамурзаннее, неотмывшиеся, с въевшимися в поры кожи чёрными точками. Они все явно старше меня. У некоторых – предмет моей зависти – пробиваются усы. И говорят эти бывшие детдомовцы басовито, не то что мы с Генкой, – Гундосик вовсе пискля. И с виду – замухрышка.
Шила нет в бараке – на работе.
Вкалывают ребята в три смены. Его-то мы и ждём, глазея по сторонам. Слушаем радио, висящее за нами, на стене, да отвечаем на бесконечную вереницу вопросов любопытствующих бывших детдомовцев и колонистов, а точнее – бывших обитателей детских концлагерей. Не уверен, что место и нашей будущей работы и остальной жизни чем-то будет отличаться от прежней жизни этих ребят, разве тем, что не за колючкой. И только. Знаю из рассказов того же Коли Шило.
Наконец появляется Колька. Он узнал меня и Гундосика. Деловой парень – распоряжается, командует. Парни ему подчиняются. У них тут, видать, дисциплина, что и у взрослых на заводах и в мастерских – государственная.
В умывальной комнате, совсем неотапливаемой, Колька, оголившись по пояс, ополаскивает себя холодной водой, фыркает и беседует с нами. В основном со мной. И это беспокоит Гундосика. Он нервничает, суетится, предчувствуюя что-то неблагоприятное для себя. Коля успокаивает его.
– Скоро воспет придёт. Он у нас – человек! Мужик честный. Всё обскажешь ему, как есть. Не ври – назад потопаешь. День рождения залепишь такой: двадцать восьмого декабря тридцатого. Короче: скоро шестнадцать. Не забудь, а то придётся сматывать удочки. Феню не любит – учтите. Матерщинную.
– Я так и буду кричать, – вклинился Генка.
– Не поверит, гайнёт, – заверил Шило. – Старый воробей – на мякине не проведёшь.
– Поверит. Я умею… От фонаря…
– И не рыпайся. Он мужик тёртый и битый, сам детдомовец и колонист – не проханже тебе этот номер.
Гундосик приуныл.
– Вообще-то в механический цех работяги нужны, – продолжал Шило. – Только темнить не советую. Лучше скажите как есть.
Но Генка ершился, надеясь обмануть воспитателя. И я высказался за друга: ничего, что маленький, зато сообразительный и ловкий. На заводе у мамы во время войны такие же ребята, не старше, работали на сборке. А продукция, ответственней не придумаешь – мины. Для фронта!
Как-то неприметно появился воспет. Поначалу он мне не понравился. В такой же серой, из бязи, форменной одежде, что и его подопечные. Стрижен тоже «под нулёвку». Он выглядел очень состарившимся детдомовским пацаном. Хмуро спросил ни у кого:
– Где Струк? Почему опять не вышел на смену? Кто знает?
– Из города не вернулся, – пояснил Шило.
– Я ж запретил ему. Он к хозяину, что ли, рвётся? Режим злостно нарушает. Не хочет здесь честно вкалывать – под конвой пойдёт, на лесоповал. Он этого не понимает, что условно освобождённый? Ус-ло-вно… Ещё и за самоволку намотают.
– Толковали мы с ним. По душам, – сказал снисходительно Шило. – Обещал. Но вот… Вертухнулся.
– Если моё слово ему не авторитет, пусть послушает мнение совета. Сегодняшний его прогул обсудить. Виноват – наказать. Никакую туфту в оправдание не принимать. Предупредить: не хочет по законам коммуны, и вообще по нашим законам, жить – нехай лагерную лямку тянет.
– Будет порядок, Николай Демьянович, – заверил Шило. – Мы со Струка стружку снимем. Он у нас попляшет. Второй раз всех подводит под монастырь.
– Не забывайте о мере. Чтобы по справедливости. Всё взвесьте: и против, и за него. Учтите: судьбу человека решаете. О справедливости не забывайте. Это главное.
– Всё будет выполнено точно, по штангельциркулю, [363]363
Валя произнёс название инструмента неверно: штангенциркуль. После я убедился: все ребята, кто пользовался им, делали ту же ошибку. И я поначалу – тоже.
[Закрыть]Николай Демьяныч. Если уж припекло – у него маруха в городе, – договорился бы о подмене. Не отказали бы.








