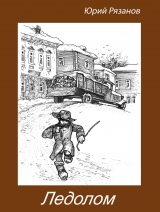
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 48 страниц)
– Вона она. В канави. Нихто её не сбондил. Я её за народну артиску продаю. Подешёвке.
Услышав последнее слово, я с присущим мне нетерпением намерился возразить Вовке с жаром, но вовремя одумался и выпалил то, что пришло в голову.
– Пока, Сапожков! Держись! Не давай себя обижать.
Я знал, уверен был, что произнёс пустую фразу, и никакой пользы она Вовке не принесёт и никак на его судьбу не повлияет. Положительно. Хотелось пусть словом помочь несчастному Вовке, подбодрить, обнадёжить, что в жизни его ждёт лучшее. Чтобы он не отчаялся окончательно и не совершил тот страшный шаг, о котором упомянул.
Надо не забыть в следующий отпуск подарить Вовке буханку хлеба. И изловчиться присовокупить хотя бы сто граммов подушечек с начинкой из повидла. Если не окажется денег, перехватить под честное слово у Вали Бубнова – с получки расквитаюсь. Хотя и не брал ни у кого никогда взаймы ни копейки – опасная штука. Зависимость.
И тут я обнаружил, что во внутреннем кармане куртки ещё кусок пирога. Чего же я его с собой волоку? В общаге меня ждёт ужин, Вову – едва ли.
Я развернулся на противоположном тротуаре, на улице Карла Маркса, чтобы окликнуть Вовку и отдать ему остатки маминого подарка. Но Сапожкова нигде не было видно. Неужто он успел шмыгнуть во двор дома номер тридцать? Там жил Толька Мироедов. С ним мне не хотелось встречаться. Противно! Мне противны лживые и злые люди. С ними стараюсь не иметь дел. А если лезут – дерусь.
…Ощущение собственного бессилия что-либо изменить к лучшему в дальнейшей жизни этого несчастного пацана опять защемило сердце.
Вовка долго не отпускал меня, словно рядом шагал.
Повернувшись, я напористо (по-осеннему быстро темнело) продолжил путь рысцой по улице Свободы в заводское общежитие. Не насвистывая никаких мелодий – на душе муторно. Такое ощущение, словно и я в чём-то очень провинился перед тем же Вовой.
P.S. О свадебных драгасэностях мне вдруг вспомнилось в октябре семьдесят седьмого года, когда я зашёл в свою сарайку, готовившись к вынужденному переезду из Челябинска в Свердловск. Промелькнули чередой в воображении детские и юношеские годы, лица знакомых и родных. И среди них – несчастный Вова Сапожков. Увиделись и свадебны драгасэности. Не надеясь на удачу, вернулся в сарай и принялся долбить заступом землю. Так, на всякий случай. Вроде бы на том участке, куда с Сапожковым зарыли дешёвую бижутерию – цыганское «золото». Меня больше интересовало, приходил ли сюда Володя и забрал ли своё «богачесво».
И вдруг – именно вдруг! – в куске мёрзлой земли показалось розовое стеколко. Уже осторожнее отколол близлежащие (чтобы не разбить, не испортить Вовкино «приданое») мёрзлые участочки, собрал кусочки грунта и унёс в комнату. Когда земля оттаяла, извлёк из неё медяшки и стекляшки. Неповреждённые! Промыл.
Кольцо покрылось тёмно-коричневой неровной патиной, а серёжки, сделанные из другого металла, не выглядели настолько тусклыми. На всех изделиях стояла проба «56» и какой-то прямоугольник с неразборчивыми буквами. Лишь гранёные розовые стекляшки радовали глаз. Ну цыгане! Мошенники! Ловко же они надули бедолагу Вовку.
Поскольку мои усилия отыскать след Вовки закончились неудачно, ни в каких доступных мне справочных он не значился, то я оказался хранителем «драгасэностей».
…Недавно, в две тысячи пятом году, они опять попались мне на глаза в одной из папок с документами. В ней же сохранился и черновик этого рассказа.
Ещё с год свадебны драгасэности мозолили мне глаза, лёжа на письменном столе в пластмассовой коробочке из-под мятных таблеток «Тик-так». Наконец, не выдержал этой пытки, вышел во двор, разгрёб кучу песка, опустил в ямку колечко и за ним обе серёжки и заровнял схорон.
1983, 1992–2009 годы
Гари
В таверну заходили моряки.
В таверне открывались с шумом двери.
В дверях стоял наездник молодой.
Все узнавали в нём конвойца [499]499
Так написано в оригинале. По смыслу же следует «ковбоя».
[Закрыть]Гари.
«О, Мери, вот явился Гари [500]500
Следую оригиналу из лагерного альбома.
[Закрыть]твой.
Ребята, он не наш, не с океана,
Мы, Гари, рассчиаемся с тобой», —
Раздался пьяный голос капитана.
И в воздухе сверкнули два ножа.
Пираты затаили все дыханье.
Все знали атамана как вождя
И мастера по делу фехтованья.
Вдруг с шумом повалился капитан.
У Мери что-то губки прошептали.
Почил моряк, пусть плачет океан.
Кровь алая с ножа его стекала.
«Банкет»
25–26 февраля 1950 года
Насвистывая мелодию из оперетты «Летучая мышь», я бодро шагал по правой стороне родной улицы, к Миассу, ведь не бывал на ней с Нового года, когда последний раз гостил у родителей. А сегодня суббота, двадцать пятое февраля. Весна. В напряжённой работе (готовились к посевной соседние колхозы и совхозы, загрузившие нас техникой, требовавшей ремонта) незаметно минуло почти два месяца. В праздник Советской армии я умышленно весь день провалялся на койке, перечитывая «Рождённые бурей» Николая Островского.
Истинная же причина не воспользоваться отпускной крылась в нежелании увидеться с отцом. Обычно он напивался («под закус», по его выражению) и откровенно хвастался, как «гонял войну», сидя в штабе писарем. По молодости лет вначале мне нравились его байки, но постепенно до меня дошло, насколько ловко пристроился, хотя под Сталинградом ему пришлось хлебнуть солдатского лиха, когда их части пришлось драпать из-под какой-то Прохоровки, – еле ноги унёс со всеми своими бумагами, к которым был приставлен. Ещё он поминал недобрым словом «катавасию», в которую попал под Курском. Остальные же военные годы он обрисовывал не без иронии в духе повествований «Бравого солдата Швейка», а «житуху» в Австрии представлял похожей на курорт.
Я фронтовую бойню представлял совсем иной, а захваченную фашистами нашу землю, обильно политую кровью советских солдат, – мостом из трупов и развороченной техники, по которой мы шли к рейхстагу. Об этом, накачавшись «водяры» [501]501
Водяра – водка (феня). Всеобщее название, народное.
[Закрыть]с пивом, иногда откровенничал солдат Иван Сапожков и те, кто вместе с ним шли по этому жуткому мосту. Их «мемуары» правдивее. А сколько их, упоминавшихся ими, послужили ступеньками тем, кто уцелел, прорвался, дошёл до цели! Так что у меня создалась в воображении совсем другая картина войны и добытой советским воинством Великой Битвы и Великой Победы. Хотя отец и являлся участником и очевидцем этого многолетнего кровавого чудовищного по своей жестокости и количеству жертв всеобщего кошмарного Бедствия.
…Сегодня, по прошествии двух дней, которые отпьянствовал уже без меня «старый солдат» Рязанов, я решил сбегать в Челябу, навестить маму и брата – соскучился. Можно было прийти позавчера поздно вечером, после первой смены, но, чтобы не создавать матери лишних хлопот, перенёс «визит» на два дня позже, и очень удачно: сегодня днём от Николая Дементьевича я получил подписанное и заверенное печатью удостоверение [502]502
Документ не сохранился, остался, наверное, в «уголовном деле». Но я, вернувшись из концлагеря, третьего сентября пятьдесят четвёртого года получил дубликат.
[Закрыть]о присвоении мне квалификационной комиссией головного предприятия (шефствовал над нашими мастерскими, которые мы называли заводом, Челябинский тракторный завод) слесаря четвёртого разряда. Документ я намеревался показать лишь маме, зная, как иронично отнесётся к нему отец. В лучшем случае промолчит, в худшем – снасмешничает. И хотя «старый солдат» – так отец себя любил называть в последние годы, как правило, в этот праздник и Восьмого мая, – по его же словам, набирался «зело борзо» и становился непривычно словоохотливым и хлебосольным, на сей раз я не почтил его своим присутствием в качестве восхищённого слушателя.
Вообще-то я стеснялся и опасался выглядеть в его глазах нахлебником или нуждающимся в материальной помощи родителей [503]503
Один единственный раз (и вообще в жизни) я взял у него взаимообразно небольшую сумму – в восемьдесят пятом году, когда, надорвавшись на тяжёлой работе, жить оказалось не на что, алименты выплачивать – тоже. Расплатился гонораром за первую свою книгу – сполна. Ни перед кем, даже отцом, не желал оставаться в долгу, ибо это двухпудовая моральная гиря на шее. Лишь перед матерью остался в вечном неоплатном долгу. Как и большинство людей, полагаю.
[Закрыть]и долго колебался, пойти домой или нет. Всё же решился. Хотя даже мысль об упрёке выглядела в моём воображении оскорбительно-обидной. Но я заставил себя пойти – долг сына.
А теперь позволю себе кое-что из области предположений.
Если б заупрямился и не заставил себя, жизнь моя в последующие годы была бы иной. Уверен. Но, как говорится, в жизни нет сослагательного наклонения. Или, как любила повторять мама, знал бы где упасть, соломки подстелил бы. Впрочем, крылатое выражение здесь менее подходит. У меня был шанс, и я его…
Мне не хотелось идти домой по нескольким соображениям. Об одном я уже упомянул. Другое: за несколько лет, признаться, мне довольно поднадоели не только байки отца о своих фронтовых делах, хотя я любил читать и слушать истории о прошедшей войне. А отец, подвыпив, повторял одно и то же: как «гонял фрицаков в задницу». Бахвалился.
В конце мая мне исполняется восемнадцать. В этот день я намеревался пойти в райвоенкомат и написать заявление о желании отслужить в армии положенный срок в пограничных войсках – детская мечта (Карацупа!).
И так, конечно, призвали бы. Но хотелось самому добровольно выполнить свой воинский долг. Вот о чём я думал тогда.
Жилось в отряде всем нам напряжённо. Денег едва хватало от аванса до получки, потому что, сказать правду, поручали нашему отряду очень грязную и самую малооплачиваемую работу. Получив разряд слесаря, я надеялся хоть немного подзаработать.
Свой паспорт я не сдал в отдел кадров, получив его по месту челябинской прописки. Поэтому ишачил, как все «крепостные» (как себя называли, кто в шутку, а кто и всерьёз, коммунары). За пределы завода, как положено, ходил по увольнительным и занимал законное койко-место в общаге по липовой справке. В общем, жил (на языке отрядников) на птичьих правах. Для них я оставался «не своим», нечужаком и неблизким по взглядам и образу жизни человеком, но упирался рогами (работал) без филонства, [504]504
Филонить – лениться (феня).
[Закрыть]и они меня, «домашняка», в общем-то терпели.
Местные работяги, с которыми мы имели деловые отношения (приёмка и сдача деталей машин и механизмов, совместная работа на некоторых участках), называли нас «колонистами», «детдомовцами» и даже «тюремщиками», из-за чего иногда возникали конфликты. Редко. В основном между молодыми, или, как говорили в посёлке, «мо́лодежью». Действительно, многие из нас прибыли на завод не только из детдомов, но и из ДВТК (детских воспитательно-трудовых колоний), кого-то привозили из отделов милиции, из каких-то «детских комнат». Кого-то доставляли по спецпостановлениям. Словом, разнообразная публика, не пионеротряд.
Порядок в общаге и на заводе мы поддерживаем сами. Не всем это нравится. Кто-то приживался в отряде, нахлебавшись в короткой, но бурной жизни по горло всяких бед, кто-то бесследно исчезал. Не выдерживали. Воровать-то легче, нежели трудиться изо дня в день. Да и работу многим на испытания давали – не пыль с пряников сдувать. Вот кое-кто и сбегал. И возвращался на круги своя. На кичу. [505]505
Кича (кичман) – тюрьма. Ещё одно значение – «штрафной изолятор» (феня).
[Закрыть]Их, «бегунов», прельщала другая, «вольная», жизнь. С приключениями. Безнадзорность: что хочу, то и ворочу. Безответственность.
У меня же постепенно сложились определённые планы на будущее: отслужив в армии, уезжаю в один из новостроящихся городов Сибири, поступаю на работу, на производство, где реально в короткий срок можно получить собственное жильё. Или хотя бы место в общаге – на первое время.
Одновременно со своей трудовой эпопеей заканчиваю ШРМ и поступаю в вуз на заочное отделение. Какой – ещё не выбрал. Вернее всего – в медицинский. Хотя в нём вроде бы отсутствует «заочка». Тогда – в университет, на факультет журналистики либо филологический. Наверное, пойду в журналистику, как напророчила мне тётя Даша Малкова ещё в сорок четвёртом или сорок пятом, когда его открыли. В Свердловске.
К этой профессии давно испытываю притяжение. Рассказывать людям о героических поступках советских тружеников, учёных, воинов, да мало ли у нас достойных дел, о которых необходимо не только писать статьи – поэмы сочинять! Строительство коммунизма – величайшее дело на земле! И мне предстоит внести в него и свой вклад. Пусть крохотный, но вклад. Мой. Личный.
Как здо́рово, что тётя Даша вычитала в заметке местной газеты «Челябинский рабочий» об образовании этого университета и посоветовала (не мне, а маме), чтобы я поступил именно в него.
Тогда мною обуревало стихоплётство, и я начал сочинять немыслимую поэму об единоборстве русского былинного богатыря Коловрата с кочевниками. Когда же мне в руки попала книжица стихов и поэм запрещённого русского поэта Сергея Есенина и я взахлёб прочел и неоднократно перечитал её, то, поражённый несказанной красотой и певучестью произведений гения, навсегда отказался заниматься рифмовкой строк, порвал свои творения, оставив несколько «Посланий М…». Не они были до́роги мне, а адресат. Поэтому и сохранил. Пока. Стихоплётство выпало в горький осадок, и я подумал, что лучше потратил бы «поэтическое» время на чтение интересных книг – больше пользы извлёк бы для своего образования.
Как-то так произошло, что нудную и мало чего мне дававшую учебу в школе заменило беспрестанное чтение, в основном исторической и художественной литературы. И сейчас, живя в отряде, бо́льшую часть свободного времени, как всегда, провожу за чтением книг. И каких! Почти сплошь – шедевры! Самая ценная – мой справочник поиска пути в жизни – «Как закалялась сталь» Николая Островского, в алой обложке с выпукло вытесненным на верхней крышке по диагонали штыком.
Пусть сейчас мало зарабатываю, но все деньги, крохи, остающиеся от необходимых расходов на существование, с удовольствием трачу на приобретение книг. И кое-что отдаю маме. Она отказывается всегда, но я настойчив.
Не знаю, есть ли большее удовольствие, чем чтение. Новые приобретения лежат в тумбочке. После прочтения отвожу книги домой. Всё-таки мой истинный дом на улице Свободы, а не здесь, в общаге с голыми стенами, железными «шконками» и замусоленными тумбочками.
…И вот я бодро шагаю по правой стороне Свободы от Карла Маркса к улице Труда и насвистываю себе. День хотя и не праздничный, но на душе легко, светло и спокойно.
Всё в моей жизни, будущей жизни, которая представляется до сих пор нескончаемо долгой, произошло бы совершенно иначе. Если б я пошёл по левой стороне улицы. Лучше, хуже ли, но не так. Это точно.
Я не верю ни в бога, ни в якобы предначертанную какими-то неземными силами судьбу. Всё зависит от целенаправленности и – немного – от случайности. Как поётся в одной понравившейся мне оперетте: «если повезёт чуть-чуть». А чтобы повезло, нужно трудиться, не жалея сил. Тут всё зависит от тебя, от твоих волевых и умственных способностей, устремлённости, положительных качеств характера, над созданием и совершенствованием которых обязан работать всю жизнь. И не верить ни в какие предрассудки, бабушкины сказки, приметы, предсказания и прочую чепуху. Ты есть результат твоего труда над собой. Хочешь стать культурным – следуй соответствующим правилам, грамотным – учись, образованным – расширяй умственный кругозор, специалистом – для этого существуют вузы, выбирай, какой тебе нравится… И вообще – всё впереди. Человек сам творит свою жизнь. Главное правило – не откладывай ничего на завтра. Завтра – это то, что будет уже без тебя. После тебя. Ты живёшь только сегодня. Сейчас. Поэтому успевай, не упускай! И цель жизни будет выполнена.
…Рассуждая так и чувствуя себя восторженно от быстрой и длительной ходьбы – завод находился близ озера Смолино, а это километров десять, а может быть и больше, пути, а я их отмахал почти полностью – приблизился к роковым воротам с табличкой на одном из столбов «№ 93». За этими воротами во дворе, в нескольких домах, жили знакомые ребята и две-три девчонки приблизительно моего возраста. Двор же с высоченными тополями в глубине его запомнился мне с сорок шестого года, когда поздно вечером, в мае, впервые забрёл в него с несколькими свободскими же пацанами – там громко звучала музыка! Это парень-электрик, работавший в трамвайном управлении на улице Труда, Витькин квартирант, соорудил проигрыватель. На нём прокручивались грампластинки с записями танцевальной музыки тридцатых годов: танго, фокстроты… Танцевать я не умел, но музыку с малолетства любил – наслаждался мелодиями. Поэтому и зашёл в незнакомый двор.
…Сумерки, густо-синее небо, белые платьица девчонок, весёлые лица моментально настроили меня на восторженный лад. Всё внутри меня возликовало.
– Потанцуем! – предложила мне какая-то незнакомая девушка, когда я оказался средь толпы молодёжи, – «концерт», вероятно, длился уже долго.
– Не умею, – стесняясь, признался я.
– Ничего. Я поведу, – сказала она и взяла меня за руки.
Близость девичьего тела опьянила меня, и я, наступая от неловкости на пальцы ног партнёрши, первый раз в жизни поддался очарованию этой близости, стал танцевать… Блаженное состояние охватило моё существо… Прекрасная музыка Иоганна Штрауса моментально зазвучала во мне, и в моём воображении ожили кадры и чудесный, волшебный голос певицы Милицы Корьюз из «трофейной» кинокартины «Большой вальс». В эту певицу, в которую я, ничуть не преувеличивая, малость влюбился, неоднократно пробираясь без билета на просмотр этого «трофейного» фильма в кинотеатре со странным названием «МЮД». Она пронзила, покорила, заполнила, очаровала меня своим неповторимой красоты чудесным голосм. Я тогда вновь почувствовал себя лёгким и счастливым… Потом зазвучали родной голос Клавдии Шульженко, романсы в исполнении Изабеллы Юрьевой… И я, уже не наступая ни на чьи ноги, танцевал и жаждал, чтобы это волшебство продлилось бесконечно долго в этих летних сладких сумерках.
…Сейчас же, подходя ко двору под моим судьбоносным [506]506
Не знаю, чем объяснить такое совпадение, но несколько месяцев спустя самый гуманный в мире суд, естественно советский, вынес мне приговор: удержать девяносто три (или семь – не помню сейчас) рубля в пользу государства, конфисковать всё принадлежащее Рязанову Ю.М. имущество с отбытием пятнадцати лет в исправительно(?) – трудовых лагерях (читай: концлагерях) за съеденный как угощение кусок халвы!
[Закрыть]номером девяносто три, я вдруг разглядел лежавшие на обочине тротуара подтаявшие, грязноватые, немного приплюснутые и торчащие острыми пластинами осевшие сугробы – зима хоть и отступила, но ещё не сдалась. Ослепительное солнце проглядывало временами сквозь уже весенние тяжёлые тучи. А во мне звучала та давно здесь услышанная музыка, и захотелось петь.
Скоро, скоро опять всё вокруг зазеленеет и расцветёт, и снова тёплыми майскими поздними вечерами зазвучит душу бередящая музыка и, возможно, опять позовёт меня сюда, в этот обширный двор, под вековые тополя на фоне тёмно-синего неба. И ласковый юный голос, похожий на Милочкин, произнесёт:
– Потанцуем…
Мечты, мечты…
Я ещё не ведал, что самодельный электропроигрыватель давно украден парнем, с которым шапочно знаком и который через несколько секунд шагнёт мне навстречу и в ближайшем будущем принесёт много горя, что он уже совсем рядом, – секунда-другая, и произойдёт эта роковая встреча.
Во мне ещё звучали, не угасая, аккорды, как калитка, с ней я как раз поравнялся, неожиданно распахнулась, и навстречу мне шагнул Серёга Воложанин по кличке Рыжий, в тёмно-коричневом приталенном драповом пальто, каракулевой шапке и сияющих штиблетах, – экипировка блатаря.
Он преградил мне дорогу, шагнув на тротуар, и, выставив ногу впереди моей, дружелюбно произнёс:
– Привет, Рязан! Сколько лет, сколько зим…
Серёга всем своим веснушчатым и мокрогубым лицом излучал радушие, хотя мы были едва знакомы, да и компания, с которой он якшался, была другая, мне чуждая – из приблатнённых свободских пацанов. Единственное, что я помнил: несколько лет назад играли вместе в «конский хоккей» квартал на квартал. Мы тогда проиграли. Бывает. Игра есть игра. Но то, что я знал о Серёге, заставляло меня держаться от него подальше: во-первых, все утверждали, что он вор, во-вторых, по его вине погиб парень по кличке Моня, проигравший Серёге в «кованые» [507]507
«Кованые» карты – краплёные игральные карты (феня).
[Закрыть]карты какую-то небольшую сумму, но не смог её выплатить, за что и погиб, и, в-третьих, он, Рыжий, происходил из потомственной воровской семьи. Поэтому я всегда старался держаться от него подальше. И вот нежданная, случайная встреча.
Он улыбался, но жёлтые рысьи глаза его исторгали совсем иное – недоброе и настороженное. Или мне, может быть, побластилось? По старой недоброй памяти? Ведь о нём давно распространилась слава как о дерзком на руку пацане. Вдобавок – воре, уже отбывшем какой-то небольшой срок за мелкую кражу. Как выше сказано, по слухам, у него имелась своя компания, с ней никто из моих корешей не дружил или, общаясь, не «возжался». [508]508
Возжаться – водиться, находиться в близких отношениях (уличное слово).
[Закрыть]Поэтому редкие встречи наши ограничивались: «Привет!» – «Привет от старых щиблет». Шутка о «старых щиблетах» – верх остроумия Серёги.
Я знал, что он обитает в этом дворе, и только. Никаких общих интересов у нас никогда не существовало.
В прошлые годы, признаться честно, я опасался этого парня, хотя он был всего на год старше меня, но зато обладал драчливым и даже жестоким характером. На его совести, как уже упомянуто выше, и это не было выдумкой – рассказывали свидетели трагического случая, – числилась гибель одного парня, детдомовца по кличке Моня. Он, бедолага, кажется, был сильно глуховат. Поэтому, беседуя, часто переспрашивал, не всё понимал. Этим мне и запомнился. Вероятно, поэтому часто поступал наивно – верил явному обману. На наивности его и поймал Серёга. По рассказам тех, кто присутствовал при роковой картёжной игре, он «просадил» Воложанину, такова подлинная фамилия его, в «буру» [509]509
Бура – разновидность карточной игры.
[Закрыть]крупную (по нашим меркам) сумму. Наступил срок расплаты, а у Мони – ни гроша. Серёга всё настойчивее требовал возврата карточного долга – святое дело. И вроде бы шутя пригрозил: иначе придётся Моне «встать на четыре кости» и «распечатать очко». [510]510
Встать на четыре кости – на корточки. Очко – анус (феня). Часто совокупление совершается в такой позе, излюбленной «печниками» и «глиномесами» (активынми педерастами, совратителями и насильниками).
[Закрыть]Этому позору Моня предпочёл иное. Он пообещал, что принесёт деньги и вручит их Рыжему на железнодорожном мосту. Серёга припёрся не один, со «свидетелями».
Они приближались к высоченному мосту, когда увидели на «горбу» его сидящего Моню. Он тоже засёк их, встал, закрыл ладонями глаза – и головой вниз. Под мостом в это время громыхал грузовой состав-товарняк.
Воложанин с кентами не пошёл обозревать «место происшествия». Серёга лишь выматерился и произнёс:
– Сучонок. Забздел очко подставить. Я огулял бы его – и квиты. И живи да радуйся.
Я понимал, что Моня загнал себя в безвыходное положение. И поплатился за свой азарт жизнью. Всё равно: жалко человека. По сути дела, ещё не начал жить полной жизнью, и такой ужасный конец. И нет его, словно и не было. Это в пятнадцать-то лет!
Но суть этого самоубийства, по слухам, сам я не был тому свидетелем: Серёга играл краплёной колодой. Получается, что он явился подлинной причиной трагедии, виновником гибели Мони.
Так это или нет – кто знает? Вроде бы правда. Но после произошедшего случая у меня навсегда отпала всякая охота брать в руки карты. Вот почему я сторонился Воложанина и относился к нему настороженно и недоверчиво. И ещё одно правило я вывел для себя из упомянутого прискорбного случая: никогда не играть в карты и во все другие азартные игры «под интерес». [511]511
Этому установленному для себя правилу я неукоснительно следовал всю жизнь.
[Закрыть]Ни разу в жизни. Если находил деньги или чужие предметы, то либо не брал их, не прикасался к находке, либо пытался возвратить владельцу. Об одной такой забавной находке расскажу в следующем сборнике. [512]512
Трилогия «В хорошем концлагере», книга третья, рассказ «Заначка».
[Закрыть]Если б я этому правилу не следовал, то однажды, не так давно, попал бы впросак, и, вероятно, крепко.
Опасаюсь, что некоторые читатели сочтут автора хвастуном. Но это правда. Как всё, что изложено в моих рассказах. Это тоже одно из правил, по которым я жил. И продолжаю жить.
За немногие годы, что удалось проработать в журналистике, ни на одну мою критическую публикацию не поступило ни одного достоверного опровержения.
И я этим горжусь. Про себя. Клеветнических заявлений и слухов было много, однако ничто не подтвердилось. Да и не могло быть опровергнуто, потому что всегда следовал лишь Правде. Но это другая тема, и мы к ней вернёмся позже.
В юности я любил всякие поговорки, забавные словечки меткие, потешные выражения – уличную феню (кроме матерных слов, то есть ненормативной лексики), но записывал всё, даже нелюбимый мат, язык, каким его слышал вокруг себя от всяких знакомых и незнакомых людей. И, услышав, не ленился заносить услышанное в карманную книжечку. Она и автоматическая ручка всегда находились при мне. То и другое во время моего ареста присвоил себе (и ещё кое-что) один из оперов.
Но вернёмся к воротам Свободы, девяности три, к тонкогубому улыбающемуся Серёге в тщательно, до сверкания, начищенных штиблетах: шик! форс! У воров – знак отличия.
Да, чуть не забыл: сноровка в чистке обуви у него совершенствовалась с детских лет. Целыми днями в тёплое время года он сидел с ящичком, набором щёток, «бархоток» и баночек разноцветного гуталина на углу Свободы и Карла Маркса возле бывшей, а позднее опять открывшейся пивной, о которой уже упоминал, рассказывая об Иване Сапожкове и его трагически непутёвой жизни. На этом углу Серёжка наскребал семье на жизнь (мать его нигде не работала, а старший брат, по слухам, безвылазно сидел в тюрьме неизвестно за что – Серёга никому ничего об этом не рассказывал). И об отце своём – тоже. В общем, обыкновенная свободская шпана.
Не раздумывая, на улыбчивое приглашение Серёги зайти в гости на «банкет», я ответил резким отказом. Однако это Рыжего не смутило.
– Да ты чево, Рязан, в натуре, как целка ломаешься. Сёдня у меня день рождения. Устроим пацанский «банкет». По стакану чая со сладиньким.
Такой нахрап несколько смутил меня, и пришлось как бы защищаться:
– Мне, Серёга, извини, некогда. С Нового года дома не был. Я пришёл повидаться с родителями со смолинского завода. А завтра вторая – моя – смена, – ответил я достаточно твёрдо, но спокойно, без спора – не хотелось наживать в Серёге врага. Тем более зная его вздорность и злобность.
– Обижаешь, начальник. Ишачить тебе завтра, а ты отказную сёдня даёшь, уважить не хотишь в прозьбе заканать на стакан чайку с сладиньким пошвыркать, [513]513
Пошвыркать – попить, швыркать – пить (просторечие).
[Закрыть]– нажимал Рыжий.
– Пойми, Серёга, меня мать с Нового года не видела, на праздник ждала – мать она мне всё-таки. А я по друзьям-товарищам буду шаландаться. [514]514
Шаландаться – шляться (просторечие).
[Закрыть]Да и не был я у тебя никогда. Ведь мы почти незнакомы, – отнекивался я. – С чего ради я к тебе заявлюсь?
– Ну, не знал я, што ты такой маменькин сынок, Рязан. Именины! У меня, Гоша! Уважь друга, не будь парчушкой. [515]515
Парчушка – от «порчак», в другом произношении парчак – «испорченный фраер» (феня).
[Закрыть]
Друга? Раньше он меня никогда своим другом не признавал: Юрица, Алька (я изменил его кличку, чтобы не попасть в разряд антисемитов), назовём его Жмотом, Толька Мироед – вот его кореша́. И вдруг я ни с того ни с сего стал его «другом».
– Не могу, – держался я на своём. – В следующий раз.
Упорствовал я, смутно чувствуя, что в этом приглашении что-то не то. Да и домой захотелось быстрее попасть.
– Ты, Рязан, выпендриваешься, а люди ждут тебя.
– Кто меня может ждать?
– Кимка Зиновьев, к примеру. Кимка оченно обидится. Сколь вы с ним не видались?
– А что, Ким у тебя в гостях? – удивился я.
– И Витька Красюк. Тебя ждут… Канаем короче.
Ну, Витьке (по-уличному – Витальке) я не ахти как обрадовался, хотя знаком с ним много лет. Даже, помнится, однажды подрался во время игры в бабки – хлыздил он. Жадноватый парень. И очень заносчивый. Непонятно, почему он так возомнил о себе? Никакими талантами Виталька среди свободской пацанвы не выделялся, кроме, разве, задиристости и смазливой [516]516
Смазливый – красивый, симпатичный (просторечие).
[Закрыть]физиономии. Хотя был младше на год-три многих из нас. Да и ростом не отличался – с меня.
Сейчас, думая о нём, у меня мелькнула догадка, что пыжится так, считая себя красавцем. Тогда я в мужской красоте не разбирался, слащавые изображения на почтовых открытках, равно как изуродованные старостью лица встречавшихся мне людей, вызывали неприятие. Так что Витька-Виталик казался мне обычным пацаном. Лишь внешность Ароши Фридмана удивила меня необычной привлекательностью, чисто внешней. Ароша – исключение из всех попавшихся на моём жизненном пути тогда. Витька же выглядел как все – не лучше и не хуже. Хотя и прилипла уличная кличка – Красюк. [517]517
Красюк – красивый, красючка – красивая (феня).
[Закрыть]Я его так никогда не называл. И никакой красоты в нём не видел. Но девчонок возле него крутилось много.
А с Кимкой мы ещё вместе в детский сад бегали. Да и после дружили – хорошие у нас сложились отношения. Но ни разу не видел этого безобидного и искреннего мальчугана рядом или вместе с Серёгой – очень разными они были. Если Серёга Воложанин вообще не переступал порог школы, вся его жизнь – улица, то Кимка не только успешно переходил из класса в класс, но и, как я, любил чтение. Помнится, и знакомство этих ребят ограничивалось, как и у меня, – приветствиями! Рыжий корешил с пацанами, которых все свободские подростки признавали шпаной. Кимка Зиновьев вообще слыл домоседом («домашняком») и не пользовался никаким «авторитетом» среди пацанвы. Как и я.
Может, Серёга взялся за ум и поступил на работу? Говаривали, что отец его занимался сапожным ремеслом. Похоже, и Рыжий у него кое-чему нахватался. На какие-то гро́ши прибарахлился же. Угощение гостям купил. И Кимка у него уже чаёвничает, наверное. Так я размышлял в предроковые минуты.
Моё молчание и нерешительность Серёга понял по-своему. Обняв меня за плечи, увлёк за собой, приговаривая:
– Кончай ломаться, как целка. Канаем на хату. Поштефкаем, [518]518
Штефкать – кушать (местное словечко, жаргонизм).
[Закрыть]и к своим предкам побежишь… Седня субота, они вкалывают, а вечерком завалишься – самый рас.
…Если б тогда я мог предположить, на сколько лет совершенно иной жизни, вернее существования, уводят меня «дружеские объятия» Серёги, я, наверное, рванул бы от калитки с небывалой резвостью и скоростью, не оглядываясь, как от бешеной собаки со слюнявой пастью. Но тогда…
С неохотой, с внутренним напряжением, сопротивлением, огромным нежеланием, будто что-то и кто-то удерживало меня, я всё-таки переступил стёртый наполовину порог калитки и вопреки внутреннему неприятию сделал первый шаг на территорию двора. Ох, как много раз впоследствии я вспоминал этот шаг, в прямом смысле – роковой. Эти слова – не оправдание, а запоздалое раскаянье. Осознание произошедшего.
– Не бзди – быстро кончаем «банкет», – утешал меня Серёга, – и разбежимся.
Это «ненадолго» днём позже обернётся четырьмя с половиной годами каторги. По крайней мере, именно такими они мне запомнились на всю жизнь. Откровенно повторяю, если б я мог предположить, догадаться – рванул бы что есть силы вниз по улице, не оглядываясь. Но я не послушал себя, свою интуицию, самого безошибочного советчика и предсказателя: беда ждёт тебя! И поплатился за совершённое против собственной воли. Вернее, по безволию.
Меня тогда, двадцать пятого февраля, честно признаться, задело Серёгино замечание, что я «ломаюсь». Да и мысль мелькнула: чего дрейфить, если «на хате», как выразился Воложанин, ждёт меня мой старый дружище Кимка? Я не задал себе логически напрашивавшийся вопрос: от кого, откуда он узнал, что я возвращаюсь с работы? Как во сне перешагнул невидимую роковую черту, всего-то шаг с тротуара в Серёгин двор.
И до сих пор нет никакого оправдания этому единственному шагу, в нём, как в ящике Пандоры, заключались мои беды почти всей последующей жизни. Одним из «персонажей» этого ящика явился вечный вертухай, [519]519
Вертухай – тюремный и лагерный надзиратель, а также вооружённый охранник этих зловещих заведений (феня).
[Закрыть]который постоянно – и сейчас – стоит за моей спиной.








