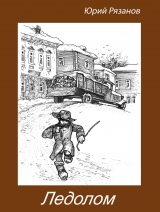
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц)
– Люди! Вы побачьте тилько, што зробыли ции вражины! Штоб они все до одного околели! Измазали моё самое красивое, дорогое, шикарное, единственное платье! Я покупала его ещё в Житомире! В комиссионке! Они испачкали его кошенёнковым дерьмом! Бандиты! Уголовники! Они прожгли его, изверги! Вот две дирки!
Увидев нас, Гудиловна бросается ловить предполагаемого злоумышленника, чтобы расправиться с ним. А подозревает она всех нас. Весь штаб тимуровской команды.
Я закрываю дверь – вдруг ворвётся!
Мы тоже дружно ненавидим придурковатую Гудиловну, а расплачивается за это чаще её сынок, толстяк, паинька Шурик. Безобидный увалень, которого мы прозвали жвачным животным. Или: Жэжэ.
Заботливая мамаша – вот тебе и одинокая! – пичкает своё чадо непрестанно булочками и бутербродами – даже с вареньем из вишни! Шурик лишь послушно и лениво поглощает всю эту вкуснотищу. Один! А нам, честно говоря, завидно. Ведь у нас совсем иначе заведено, мы привыкли делиться из того немногого, что имеем, а лакомствами – обязательно. Выпросить же что-нибудь у жвачного Шурика-Мурика невозможно – свои бутерброды он доедает в безопасном от нас отдалении, под бдительным присмотром подвижной, как ящерица, мамаши.
К тому же Гудиловна запретила сыночку играть «со всякой шпаной», с нами то есть. Это мы-то, тимуровцы, – шпана?! Да она спятила! Не разбирается ни в чём и ни в ком. Всех облаивает и грызёт. Мы, выходит, шпана, а её сыночек – хороший? Ну, Гудиловна, подожди, докажем тебе, кто такие мы! И что такое твой закормленный хомяк Шурик-Мурик.
Надо ли говорить, что семилетнему Шурику попадает от ребятни часто, и как никому другому. Иногда и ни за что. За Гудиловну.
Услышав вопли обожаемого ею дитятки, составленная вся словно из мячиков, выскакивает она за ворота – на потеху обывателям, грызущим семечки подсолнечника на уличных скамеечках, – на проезжую часть улицы, потрясая кулаками и брызгая пенистой слюной, проклинает нас.
Я, когда на ногах, спасаюсь от взбрендившей [97]97
Взбрендить – сойти с ума. Ещё имеет значение на уличном жаргоне – «вести себя как сумасшедший» (уличное слово). Сбрендить, по-уличному, – струсить либо сболтнуть что-то несуразное. Сбрендить с ума – сойти с ума. Иногда это слово употребляется в смысле «украсть».
[Закрыть]Гудиловны на высоком тополе возле наших ворот. Она не может взобраться на дерево, слишком толстая, хотя бегает удивительно быстро. Горе ждёт настигнутого ею – измолотит, защиплет, уши искрутит так, что вспухнут, как пончики.
Зато, уцепившись за согнувшуюся дугой вершину тополя, можно спеть потешно прыгающей внизу Гудиловне куплет, специально сочинённый для неё:
Жирная бочка
Родила сыночка
Шурика-Мурика,
Жвачное животное.
Песенка на нехитрый уличный мотив получилась нескладушкой, но, за неимением лучшей, своим самодеятельным вокалом мы платим Гудиловне за незаслуженные обиды, за её безумную несправедливость. Мы уверены в своей правоте в борьбе с Гудиловной. И это нас вдохновляет на придумки. Жаль, что хворь временами совершенно обессиливает меня, – в такие минуты я могу только лежать, тяжело дыша, и поэтому не всегда принимю участия в этих потешных, почти театральных, уличных представлениях. Но иногда…
…С весёлым шумом и гвалтом прошла разыгранная на полянке возле дома, где живут Бруки, сочинённая по ходу действия сценка «Кормление Шурика».
Сначала мы просто дурачились, с гиканьем гоняясь друг за другом. Кроме меня – не до прыганий иногда становится, хоть уцепиться за что-то да не брякнуться наземь.
– Давай, – предложил я Вовке, – ты будешь Шуриком-Муриком, а я – Гудиловной. Я буду тебя откармливать.
Вовка охотно согласился изображать пухлощекого и жопастого [98]98
Ягодицы у Шурика похожи на тугие шары, все свободские пацаны перехлопали эти «шары» с шутками и прибаутками, иногда очень небезобидными, вроде: «Жопа, как орех, так и просится на грех». Проходу не давали мальчишке, и всё из-за его упитанности. Вскоре Гудиловна перестала отпускать сына куда-либо одного, везде следуя с ним рядом, а уходя на базар, запирала его в комнате на замок.
[Закрыть]– словно два резиновых мячика в широкие штаны затолканы – белотелого сыночка Гудиловны: мало кто из соседских ребят на него походил, кости да кожа. Да жилы вместо мускулов.
Вовка надул щёки, вытаращил глаза, а я принялся усиленно потчевать его «пирожками», свёрнутыми из листьев подорожника и начинёнными канавным песком.
– Не жалаю пирожков, дай шиколада! – верещал Вовка, брыкаясь, и противно блеял шуриковым голосом.
А я его увещевал:
– Ну слопай вот этот пудовый кусочек, чтобы толще был твой толстый задочек, сожри банку свиной тушёнки и ведро варёной пшёнки.
Все подхватывали хором: «Пшёнки, пшёнки и кукур-р-рузы!»
Вовка же как заблажит:
– Ой, пузо болит, ой, лопнет! Не надо ведро пшёнки, дай ведро касторки! Ой, караул! Запор!
И закувыркался на траве под дружный хохот зрителей. Раззявив беззубый рот со стёртыми дёснами, беззвучно закатывалась и сидевшая на крылечке Герасимовна, утирая иссохшим кулачком слёзы.
Пока Вовка мучился несварением желудка, я смотался в сарай и вернулся с клаксоном.
– Нету касторки, – трагически заламывая, как в настоящем театре (а я в нём бывал однажды, в драматическом, на нудной и фальшивой пьесе «Партизанка Юля»), руки, возвестил я. – На ней пончики поджарила. Сейчас мы тебе клизму поставим… и от смерти лютой избавим.
Вовка же, увидав в моих руках чёрную резиновую, вместимостью не менее литра, резиновую грушу, вскочил с диким воплем и сиганул в лопуховые джунгли.
В следующий раз мы этот весёлый спектакль разыграли с настоящим Шуриком. Роль не по уму заботливой мамаши исполнял Вовка, мы помогали ему: и зрители и актёры.
Позднее, вспоминая те забавные представления, до меня, до моего сознания докатилось, насколько мы, пацаны, жестоки были: ну в чём перед нами провинился мальчишка, чтобы так издеваться над ним? Чужой боли ещё не научились чувствовать, сопереживать чьим-то страданиям. И раскаялся в когда-то содеянном, в чём принимал участие. Но что было, то было. Этот случай навсегда утвердил во мне жизненный принцип: не обижай никого!
…Шурик затравленно пищал, распятый на поляне. Вовка зачитал «рецепт» о принудительном (понарошку, разумеется) лечении Шурика клизмой от обжорства. Учуяв неладное, наш «пациент» заверещал отчаянно и дико. Мгновенно, словно из-под земли выпрыгнула Гудиловна, озверелая и стремительная. Зрители и артисты едва улепетнули от мегеры с растрёпанными, засаленными, давно не мытыми патлами, паранджой завесившими её толстощёкую физиономию.
Подпрыгивая в каком-то дикарском, невообразимом танце, она извергала на нас библейские проклятия и бесчеловечные угрозы. А нам было смешно – хохотали!
В тот же день Вовка изобрёл новую игру – «Прожектор». В солнечную погоду с наблюдательного пункта мы светим настольным зеркалом Бобынька в тюремное окно Гудиловны – пускаем зайчиков.
В конце концов, обезумевшая Гудиловна со стенаниями выкатывается из своего логова. Тут в действие вступает другой «прожектор», поменьше, с крыши сарая в соседнем дворе налево (если смотреть с нашего крыльца).
Самой большой удачей мы считали момент, когда «прожектористы» захватывали беснующуюся Гудиловну наперекрёст, то есть двумя зеркалами с обеих сторон одновременно, а «гранатомётчики» приступали к обстрелу ослеплённой цели бумажными пакетами с песком – «бомбами».
Малы мы ещё были и не могли искоренить терзавшее нас Зло, но каждый из нас обострённо его чувствовал и яростно, без оглядок сопротивлялся, веря в свою правоту и непобедимость. Нас было немного в тимуровском отряде, который возник, как нам верилось, сам по себе. Но нас существовал и действовал легион, бесчисленный, ибо мы осознавали себя пацанами не только родной улицы Свободы – всей своей страны. Всей.
Да, мы жестоко мстили Гудиловне за её бесовскую придурь. Ведь она не беспричинно надрывается сейчас о прожжённом платье. Это Вовка по-пластунски подполз с тыльной стороны к заборчику, на котором просушивались её вещи, и умудрился не только измазать недавно вычищенную одежду – с неё Гудиловна глаз не сводила, – но и линзой через щель между досками прожечь пару отверстий в платье. Сполна была отомщена незаслуженная обида – натрёпанное накануне Гудиловной ухо нашего славного начштаба. Она оскорбила не только Вовку, но и всех нас.
Вообще-то наш отряд совершал не только подобные безобразные, как позднее я их оценил, поступки, но и немало добрых дел. Особенно для семей фронтовиков и погибших на войне. С несправедливостью бороться мы тоже не боимся. А Гудиловна для нас – зримое воплощение Зла.
Она каждодневно учиняет скандалы – так просто, для прочистки глотки. Над взрослыми напористая и воинственная Гудиловна быстро одерживает победу, и для нас эти схватки не представляют особого интереса. Нам даже стыдно за взрослых «слабаков». Что они ей, нахалке, уступают.
Нас же злодейка одолеть не может. Не в силах. Потому что с нами справедливость, а она – дороже всего в жизни. Правда и справедливость. Как мы её понимаем.
Однажды Вовка, опять пострадавший от кулаков и щипков нашей мучительницы (никак не мог он избавиться от голодной блокадной зимы сорок первого – сорок второго годов и бегал медленнее нас, поэтому вёрткая Гудиловна ловила его чаще других), предложил выпустить специальную листовку «Смерть Гудиловне!». Посовещавшись, мы решили, что листовки «Смерть немецким оккупантам!» – важнее, и не стали напрасно тратить бумагу.
– Вот что, ре́бя, [99]99
Ребя – сокращение от «ребята» (уличное слово).
[Закрыть]– объявил на одном из штабных совещаний Вовка. – Вы не задумывались, не может ли быть Гудиловна… шпионкой?
Нет, мы не задумывались. Поэтому вопрос вызвал всеобщее наше изумление.
– А как ты узнал? – спросил Юрка.
– Проще пареной репы. У нас в Ленинграде шпионов и диверсантов было полно – фашисты пачками их забрасывали. Всех перецапали. Мы, классом, на Невский ходили их ловить.
– Ну и что, имали? – подивился Бобынёк.
– Ещё бы! Одна девчонка на Невском же дежурила, заметила длинного такого, в клетчатом костюме иностранном и в крагах. [100]100
Краги – накладные голенища с застёжками (были модными в двадцатые – тридцатые годы).
[Закрыть]Краги его и выдали. Она – шасть к милиционеру и шепнула. Тот его остановил и с ходу: «Гражданин, ваши документики!» А у него и документов нет. Его – цап-царап! – и в первую попавшую военную машину затолкнули. И увезли. Девчонке той благодарность объявили на заседании домсовета. За бдительность. Так она потом по всему городу рыскала: кто в крагах, высматривала.
– Так Гудиловна-то не в крагах, – усомнился я. – Да и у моего отца краги были. Мы их на семенную картошку променяли. Как же так?
– А вещи у неё какие на заборе сушились, не засёк? – наступая, вывернулся Вовка.
– Шубы – две, пальто – одно, платья, костюмы… А на костюме том, под воротником, пришит пароль иностранными буквами и орёл.
– Орёл… это не фунт изюма! – поддержал Вовку Юрка. – Факт!
«Фунт изюма» он у меня перенял, а я эти слова услышал от Герасимовны.
– Смякинили, что за Гудиловной надо установить тайное наблюдение?
– Что же получается: Шурик-Мурик тоже диверсант? – стал рассуждать я, недоумевая.
Но Вовку мой вопрос не застал врасплох.
– А может, он лилипут? Подделывается под пацана. Я о таком лилипуте в Питере в листовке читал – немецким шпионом оказался. На боевых позициях его и накрыли – план чертил… В ученической тетрадке. Для отвода глаз.
Своими сногсшибательными разоблачениями Вовка нас прямо-таки обескуражил. Во разведчик! Но и сомнения кое-какие возникли.
– А как же быть с бородой и усами? Я читал, что у карликов бороды растут, – сказал я.
– Броется он, – догадался Юрка. – Да ты, небось, в сказке вычитал?
– У меня папа брился, – поделился я своими воспоминаниями. – Утром побреется, а вечером – щетина. А у Шурика никогда щетины нет.
– Давайте вечером попутаем [101]101
Попутать – поймать (уличное слово).
[Закрыть]его и мурцалку [102]102
Мурцалка – физиономия (просторечие).
[Закрыть]потрём ладошкой. Если колется, значит – лилипут. И шпион, – уверенно заявил Вовка.
– Факт, – подтвердил Юрка.
Безукоризненно проведённая операция поимки и пленения Шурика окончилась для Вовки полным конфузом: мордуленция возможного диверсанта, как мы её ни тёрли, как пленённый ни визжал, никаких признаков щетины не обнаружила, она остававалась безукоризненно гладкой. На вопросы Вовки, «броется» ли он, Шурик завизжал, как ноябрьский поросёнок, а слёзы струями брызнули из его выпученных от страза глаз. Мы сразу разбежались врассыпную, не дожидаясь Гудиловны, которая не заставила себя ждать, – опять словно из-под земли выскочила.
Вовка, несмотря на провал силового расследования, установил за квартирой Гудиловны наблюдение – с крыши своего дома, из штаба. Как дело личной чести понял он необходимость доказать свою прозорливость. И опытность бывалого ленинградца-блокадника.
– С Шуриком всё понятно, а кто же в самом деле Гудиловна и Немтырь? – ломал голову и я. – Какое-то слово непонятное: орс. Что это такое? Да и магазины от орса бывают. А вдруг это не то, а шифр? На вопрос, что такое «орс», мама дала простой ответ: «отдел рабочего снабжения». Вот куда ужом пролез Немтырь.
О результатах своих наблюдений Вовка доложил нам на следующем штабном совещании, дня через два-три.
– Гудиловна и Немтырь капитально замаскировались. Но ничего, у нас в Питере и не таких разоблачали, – заверил он нас. – Переносим энпэ поближе к противнику, за заборчик. Дежурить попеременно, по графику. Вскоре они выдадут себя – язык выдаст.
Как раз напротив Гудиловниного крылечка, впритык к забору, соорудили небольшой – на одного разведчика – шалашик. Но и тут нас постигла неудача.
Гудиловна сидела на крыльце и разделывала рыбу, кляня мух, и не как-нибудь, а словно они были враги подстать соседям. Вовка же глаз с неё не спускал, прильнув к щели в заборе. И надо же, именно в этот момент у него защекотало в носу. Засвербило нестерпимо. Он, как ни корчился, сдерживая дыхание, всё-таки чихнул. И не раз.
Гудиловна резво сорвалась с крылечка, заглянула за забор, опрометью бросилась в свою комнату и выкатилась оттуда с полным помойным ведром. Вовка и сообразить не успел, что происходит, почему на него хлынул вонючий поток. Допёр [103]103
Допереть – додуматься (уличное слово).
[Закрыть]начштаба, что его энпэ рассекречен противником, сразу выполз из шалаша и спрятался за куст акации. Повисшая на заборе Гудиловна посылала вслед неудачнику-разведчику плевки, едкие ругательства и обещания жутких кар. Нет, разведчиком надо быть, чтобы даже не чихать. И всё же…
Не таким был Вовка, чтобы отступить, потерпев незначительное (как он объяснил нам) поражение. После отмывания под уличной колонкой на внеочередном штабном совещании он высказал новую идею. По его наблюдению – вот зачем ему понадобилась продырявленная соломенная шляпа, найденная в ничейном пустом сарае, – следует изменить до неузнаваемости свою внешность. Итак, по его рассуждениям, Гудиловна каждое утро, как на работу, шляется на базар и покупает там самые изысканные продукты питания: мясо, масло, соленья-варенья, муку и прочее. Вовка лично своими глазами видел и даже реестрик покупок составил, что почём. И сумму жирно вывел.
– Какая у Немтыря может быть зарплата? – рассуждал вслух Вовка. – Рублей семьсот. Ну, тыща… с приворовыванием. А она за один набег больше тыщи транжирит. Чуете, куда дело клонится? Несомненно, и Немтырь – шпион. У него и вид – вылитый эсэсовец. Мы и до него доберёмся дедуктивным способом.
– Ну ты, Вовк, как Шерлок Холмс, раскусил их, – не удержался я от похвалы.
– А счас помножим тыщу на месяц, сколько под чёрточкой? – тоном учителя спросил Вовка.
– Тридцать тысяч, – сосчитал я молниеносно.
– Вот оно – доказательство. Ты, Юр, говорил, что в прошлом году…
– В позапрошлом, – поправил я друга.
– Никакой разницы. В позапрошлом году эта Гудилолвна, которая прикинулась одинокой овечкой и мылилась к завмагу втереться: пустите бедную цыпу на шесток, у меня всего один чемоданчик пустенький…
– Плетёный баул у неё был. Тяжеленный.
– Не имеет значения. Теперь такой вопрос: с каких шишей у бедной эвакуированной овечки… Не знаешь, откуда она пригребла?
– Из Харькова, кажется.
– Откуда, повторяю, у бедной эвакуированной цыпы из Харькова такие шальные деньжищи?
Мы молчали.
– Ясно как день: диверсантка. И деньги они сами печатают. Чтобы подорвать наше государство.
Вовка ненавистно сжал зубы и процедил:
– Я знаю, куда о таких «фруктах» надо сообщать… Но прежде она с нами поделится своими преступными дивидендами.
– Какими дивидендами? – переспросил я. – Что это такое?
– Синенькими, с портретом Владимира Ильича. А то их у неё плесневеет неимоверно много, на чемоданах замки трещат, расстёгиваются, того и гляди – вывалятся.
– Ничего ты у неё не выпросишь, – убеждённо сказал я. – Корку сухую не даст. Легче на помойку выбросит. Не видишь, что ли, какая она жадница и ненавистница?
– Вижу, не слепой, какая у неё толстая задница, – сострил Вовка. – Сама отдаст, как миленькая. И столько, сколько мы назовём. Скромно: по десять тыщ на нос хватит.
– Не даст, – упорствовал я. – У неё и снегу зимой…
– Положитесь на мой жизненный опыт. Мы в Питере и не таких жмотов заставляли раскошеливаться… Не одна она жрать хочет. А у неё явные излишки красных бумажек. Знаешь, что такое излишки?
– Откуда мне знать, – ляпнул я, поспешив с ответом, и тут же вспомнил, как под Новый сорок второй вечером в нашу дверь кто-то постучал.
– Войдите, открыто, – откликнулась мама.
Вошла толпа незнакомых людей, среди них – тётя Таня как представитель общественности и один неприметный мужчина среднего роста, которого я не заметил сразу.
– Мы комиссия по выявлению излишков продуктов питания, – назвалась женщина с тетрадью в руке.
– Можно мы осмотрим помещение? – вежливо спросила другая.
– Пожалуйста, – разрешила мама.
Ничего, конечно, что их интересовало, не обнаружилось – никаких излишков у нас никогда не водилось. Жили мы без всяких запасов, кроме мешка картофеля и всяких солений в погребе.
Но молчаливый, худощавый, какой-то очень безликий мужчина взглянул на него и в ту же секунду улетучился из моей памяти, вроде бы и не принимавший участия в осмотре человек-невидимка указал глазами одной из спутниц на верх голландки – там давно, с довоенных времён, лежала, понемножку накапливаясь, может ни один год, четверть мешка твердокаменных чёрных сухарей – их мама толкла в медной ступе для поджаривания котлет. Мы со Славкой об них дёсны до крови обдирали в последний год, когда карточную систему ввели. Мама давным-давно, ещё до начала войны, насушила их из огрызочков, из обеденных остатков – чтобы не выбрасывать. На какой-то «чёрный день». И этот день наступил. Вернее, вечер.
Мешок шустрые члены неизвестно откуда взявшейся комиссии «по изъятию» достали, взвесили на безмене, имевшемся у одной из участниц, вписали в тетрадочку – только мы те сухари и видели – унесли вместе с мешком.
Как-то незаметно, спрятавшись за остальных, видимо, первым выскользнул из комнаты тот глазастый мужичок.
Мама вроде бы и не очень расстроилась.
– А что нельзя на «голландке» сухари сушить, они излишки, да? – допытывался Славик.
И меня этот вопрос занимал. И почему их назвали «излишками», эти обкусанные недоеденные чёрствые кусочки хлеба?
Мама ответила сдержанно:
– Значит, нельзя. Всё-таки комиссия. Начальство. Им лучше знать.
– Лучше бы мы их схрумали, – объявил несознательный Славик. – А куда их денут? Эти тётеньки доедят всё до крошки?
– Голодающим отдадут, – ответила мама.
– А мы неголодающие? – спросил я.
– Нет, – сказала мама. – Мы сытые, пайки по карточкам получаем. Идите спать, чем приставать с ненужными расспросами.
Мы умолкли, чтобы не злить маму, но я так и не понял об «излишках».
– …Были в Ленинграде мародёры и кулаки, – продолжал Вовка. – Натаскали к себе в норы разного добра: сахару, масла, круп, консервов – из разбомбленных складов да магазинов. А мы научились выслеживать этих мародёров. Выследим – и ультиматум: поделись, или заявим куда следует…
– И делились? – спросил я очень заинтересованно.
– А куда им деться? Как миленькие.
– И что же они тебе дали? – спросил Юрка.
– Мне? Ничего. Ребята рассказывали. Им можно верить. В общем, так: пишем Гудиловне ультиматум. По десять – согласны?
– Ух ты! Неужто по десять кусков? – удивился Юрка.
– А чего мелочиться? У неё их куры не клюют, этих денег.
– Мне такие деньги не нужны, – заявил я. – Ни копейки.
– Как это? – не поверил Вовка.
– А так. Сам говоришь – нечестные те деньги…
– Ну и что? Это ж, считай, трофей.
– Мне такой трофей в глотку не полезет, – упорствовал я, понимая, почему противлюсь.
Вспомнил: мама запретила ко всему нечестно добытому прикасаться.
– Слушай сюда, Юр. Представь себе: наши у врагов отбили мешок денег. Что они с ними сделают? Пустят в оборот. Верно?
– Факт, – подтвердил Бобынёк, которому, видать, очень не терпелось заиметь кучу дармовых денег.
– И мы пустим, – сказал Вовка. – Не хуже других распорядимся. И другим нуждающимся поможем. По-честному поделимся.
– Ну, если и другим, – неохотно сдался я, разоружённый логикой Вовкиных рассуждений. – Тому, кто голодает…
И вспомнил того давившегося пончиком на городском рынке. И глаза его остекленелые.
Начштаба сразу приступил к изготовлению письма-ультиматума, причём рисовал буквы печатными, а часть оттискивал литерами, привезёнными из Ленинграда, – для конспирации и солидности.
– Слупим с неё тридцать тыщ, – объявил Вовка. – А если ты от своей доли откажешься, мы её бедным раздадим – под двери будем подсовывать, в форточки из рогатки пулять.
В назначенный Вовкой день и час наблюдение велось всеми нами со штабного чердака.
Гудиловна вышла из своей квартиры, огляделась и, не увидев никого или сделав вид, что не заметила наших мордашек, приблизилась к условленному месту, где под забором Вовка выкопал ямку, а в неё опустил старую эмалированную кастрюлю, прикрытую дырявой крышкой.
Мы видели, как Гудиловна нагнулась, что-то сунула под крышку и, ещё раз осмотревшись и заглянув за забор, удалилась к себе.
– Мирке, той девчонке, что «фрукта» в крагах поймала, дали премию, – сказал Вовка. – Считайте, это тоже премия нам – за находчивость и бдительность. И ум! В жизни всё надо делать с умом.
Я молча кивнул, хотя вся эта операция мне почему-то не нравилась.
– Главное, ребя, не в деньгах, – продолжал Вовка, почувствовав, видимо, неловкость, робость остальных или сомнительную честность нашего поступка. – Если Гудиловна нам их отдаст, значит, уж точно шпионка. У кого, скажите, как ни у врага, могут быть такие бешеные деньги? Вот для чего они нам нужны – для подтверждения. Ну и на расходы тоже. Вон у нас с мамкой ничего из вещей нет. Как погорельцы. Или нищие. Всё в Ленинграде осталось. А на денежки Гудиловны и прибарахлиться [104]104
Прибарахлиться, приобарахлиться – обрести одежду (феня).
[Закрыть]можно ништяк. [105]105
Ништяк – ничего, неплохо, прилично, хорошо (феня). Оба слова из воровского жаргона, но среди свободских ребят имели широкое хождение. Вовка завидно быстро овладел языком улицы.
[Закрыть]Видали? Положила! Я же говорил: куда она денется? – торжествовал Вовка.
Теперь задача состояла в том, как положенные в тайник деньги взять и остаться незамеченным.
– Всё продумано, – заверил Вовка.
Место тайника под забором он выбрал с учётом, что оно не попадёт под обзор из угрюмого, зарешёченного окна Гудиловны.
– Поплыл за денежками, – весело произнёс Вовка и стал спускаться по штабной лестнице.
– Смотри в оба, – напутствовал его Юрка. – Мешочек не забыл?
Вовка похлопал себя по поясу.
Мы сверху наблюдали, как начштаба подполз к заборчику и тут же опрометью бросился назад, к кустам акации. Готово! Ох и голова у Вовки – арбуз, а не голова! Идей в ней больше, чем семечек в этой ягоде.
– Ну как? – нетерпеливо тормошил Вовку Бобынёк, когда тот влез на чердак после обследования сейфа-кастрюли.
– Я ей ещё покажу где раки зимуют! – зло прошипел Вовка, обнюхав свою ладонь, уже вытертую лопухами.
На крылечко мячиком выкатилась Гудиловна. Она подбежала к тайнику, присела на корточки, выпрямилась и захохотала басом. Смех её казался сумасшедшим, необъяснимым. А Вовка упорно не хотел отвечать на наши домогания, что же там было, в кастрюле. Но мы и сами догадались – по отвратительному запаху, исходившему от Вовкиной ладони, которую он усиленно оттирал потолочным шлаком.
– Га-га-га! – зашлась Гудиловна. – Кому ещё нужно? У меня их много, этих карбованцив! Полный сортир! А-ха-ха!
Так сорвался Вовкин гениальный план быстрого нашего обогащения и всеобщей помощи нуждающимся и голодным.
Под вечер зазвонил штабной «телефон» – вызывал начальник штаба.
И я, и Юрка прибыли немедленно, вскарабкались по крутой лестнице трёхэтажки на чердак. Я, старожил, и то до недавнего времени не знал, что до войны в этом здании размещался и действовал районный народный суд, а Вовка разнюхал. От него и все узнали.
Вот почему в единственном, размером с носовой платок, оконце их помещения была вставлена металлическая решётка с прутьями в палец толщиной. Чтобы судимый, самый что ни на есть коротышка, не смог, даже перепилив решетку, сбежать из сортира. Спустившись, например, как в приключенческом романе, по шёлковой лестнице, умещающейся в горсти. Но то, о чём нам рассказал Вовка, могло показаться фантастикой.
Эту операцию он тщательно продумал вчера вечером во время бессонницы. Раздобытая им некогда во дворе трамвайного управления на улице Труда испорченная электрокатушка от какого-то прибора пришлась как нельзя кстати. Встав пораньше, когда мать уже уковыляла с ведром и тряпкой приводить в порядок начальственные кабинеты, Вовка с самодельным кинжальчиком, сделанным из найденного где-то обломка полотна ножовки, и катушкой проволоки отправился сооружать «маскхалат» из лопухов. Через полчаса – час он превратился в человечка-лопуха и залёг напротив окна Гудиловны, в заросли зелени, и принялся наблюдать за всем, что можно было увидеть (и услышать) в комнате через решётку из вертикальных прутьев, продетых в пластины нержавеющей стали, – ни у кого в нашем доме не имелось подобных тюремных украшений на окнах. И никогда не существовало. А Гудиловна отгородилась от всех, не квартира, а неприступная крепость!
От зоркого взгляда Кудряшова не ускользнула и эта деталь.
– Если люди ставят в окна решётки и бронированные двери, им есть что притыривать от чужих глаз. Логично я рассуждаю?
Мы все были поражены недюжинными способностями Вовки – ему бы главным сыщиком всего города быть. Да что там города! Едва ли в Челябинской области найдётся такой сыщицкий талант! Возрастом лишь не вышел – всего тринадцать, четырнадцатый пошёл. Конечно, тоже уже не пацан несмышлёный. Вполне взрослый. Как и я. Только посмышлёней.
– Ты какие книжки читал? Про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, наверное, не раз рассказы прошерстил? – поинтересовался я.
– Причём тут Шерлок Холмс? Свою голову надо иметь, чтобы шарики в ней бегали. Но возвратимся к делу. По солнцу, часов в одиннадцать, объект, то есть Гудиловна, вышла из квартиры и плеснула из ведра помои – на ноги мне попала. Лень ей, шпионскому отродью, до общей выгребной ямы донести – под забор плещет, мух разводит. А мухи, между прочим, переносчики всякой заразы. Это диверсия. У неё окошко марлевой сеткой изнутри защищено, ей дизентерия не грозит. А все остальные? Все мы беззащитны перед её провокациями. Поэтому с ней надо бороться.
– Ну ладно, что меня не заметила. Ноги под колонкой вымыл. Но что дальше, пацаны, произошло, не поверите. Голову на отрез даю: ни слова не выдумал. Приблизительно через час, честно говоря, я уже уползти раздумывал: из окна такой вкуснятиной, жареным-пареным, запахло – никакого терпенья. Это она для своего Шурика-Мурика и агента по кличке Лысый обед готовила на керосинке – я по нюху определил.
И вдруг с нашего двора через забор какой-то лысый тип – назовём их «Банда лысых», – невысокий шкет, [106]106
Шкет – человек низкого роста (уличная феня).
[Закрыть]тихонько перелез и за собой верёвкой перевязанный поднял вот такой фанерный ящичек, килограммов на пять. По нюху – натуральная селёдка. Лысый три раза в дверь стукнул, и Гудиловна открыла её сразу нараспашку. Лысый спрпшивает:
– Вы мадам Белосвинская?
Она, заметьте, на каком-то языке, но не на русском, отвечает:
– Я Белосиньская. Или Белоссынская.
– Не расслышал: тихо говорили.
– Это пароль у них, так я додул. [107]107
Додуть – додуматься, догадаться (уличное слово).
[Закрыть]Ну, она этот ящичек сграбастала, кругом зырк-зырк своими лупоглазыми шариками – нет никого. Захлопнула дверь, а Лысый – тем же ходом назад.
– Я тоже, не будь лыком шит, прямо в масхалате диранул. Зырю, а он к дому учителки под акациями пробрался. Как ни в чём не бывало через наш двор пошастал – к воротам. Я на ходу масхалат [108]108
Вовка неверно произносит это слово. Правильно – «маскхалат».
[Закрыть]скинул – и вслед за ним. Так он ещё полквартала пешедралом [109]109
Пешедралом – пешком (уличное слово).
[Закрыть]к речке шкандылял, [110]110
Шкандылять – идти (уличное слово).
[Закрыть]после на другую сторону перешёл и сел в грузовушку – вот я номер записал. Во работают, а! А на меня он ноль внимания и фунт презрения – не заметил даже.
– Теперь у нас ценные разведданные о незаконном получении Гудиловной от неизвестного подозрительного лица лысой наружности ящика селёдки. Точное время укажем, сбегай, Юра, на бабушкины часы позырь – сколько там на них, запишу вместе, автомобильчик с номером и марку – «ЗиС». Теперь проследить бы, куда плывёт краденая ценнейшая продукция – селёдка. И мы разоблачим целую шайку фашистских шпионов – диверсантов и спекулянтов в нашем тылу. Такое дело может потянуть если не на орден, то на медаль – точняк. [111]111
Точняк – точно (уличное слово).
[Закрыть]Об этом даже в газете могут напечатать. Тогда нам с мамой правительство может вместо одинарного сортира на втором этаже большую кладовку на первом выделить. Она всё равно хламом завалена, какими-то пыльными папками. Чуете, пацаны, чем дело пахнет? В той кладовке пока дела лежат, из Питера привезённые, их можно и в наш сортир перетащить. А мы в кладовке зажили бы как короли.
– Так значится. Конкретное задание Юре Рязанову: проследить куда денется селёдка.
Бобынёк, которому в этой операции не досталось должного занятия, ни слова не вымолвив во время обстоятельного доклада начальника штаба, уверенно заявил:
– Дак сожрёт. «Набздюм» с Лысым номер один – своим неуловимым мужиком. Я об селёдке беспокоюсь.
– Вот это ты ценнейшую мысль высказал: всех «лысых», которые будут прибывать к Гудиловне, номеровать. Тот, что прикидывается мужем, – номер один, селёдочный агент – номер два, и так далее.
– Вовка, – взял я слово, – я выполнил твоё задание и всё время посматривал на Шурика-Мурика. По-моему, ты ошибаешься – он натуральный пацанишка. Ему лет семь-восемь. Он, как и Славик, с тридцать шестого или тридцать седьмого года – только жадюга.
– Эх, Юра, жареный петух тебя в попу не клевал. Пожил бы с моё, не порол бы такую ерунду: «пацанишка»! Ты просто не знаешь, как враги умеют маскироваться. У нас в Ленинграде случай был: клацает [112]112
Клацает – топает, идёт (уличное слово). Употребялось в значении «клацает зубами» или «клацает каким-то предметом».
[Закрыть]по Невскому этакая цыпа на высоких каблуках. Ну, её останавливает патруль: «Ваши документы!» Она будто в сумочку полезла и – бах! – того патруля начисто положила. Но не дали ей разгуляться. Тут же, на месте, скрутили. Брякнулась она, юбочка задралась, а из-под неё хрен по колен висит. Вот тебе и «дамочка»!
– Шурик-Мурик в натуре лилипут. В цирке видал? Вот такой. Но мы и этого коротышку разоблачим.
Вовка выступал очень убедительно, но насчёт Шурика-Мурика у меня давно возникли серьёзные сомнения, потому что я своими глазами видел, как Гудиловна на солнышке купала своё чадо в новом цинковом корыте, которое принесла с рынка. И он, обнажённый, вовсе не походил на цирковых лилипутов. Ну не походил, и всё тут. Однако спорить с начальником штаба не стал – всё равно не переубедишь. Насмотрелся в Ленинграде разных страстей, и теперь его трактором не сдвинешь. Да и к тому же начальник штаба – чин, а я рядовой командир. Мы все командиры.








