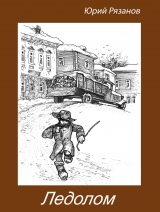
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 48 страниц)
…Поезд, мне так кажется, рванул с места настолько резко, что меня подбрасывает на стыках рельсов, трясёт беспрестанно. Мороз пронизывает и скручивает тело в клубок. Мне грезится, что я опять в железном ящике паровозного тендера, а кругом бушует вьюга, и откуда-то с неба прорывается голос:
– Мони́я, мони́я, мони́я…
– Ну как, фронтовик, дела? – передо мной незнакомое мужское лицо. Только глаза я вроде бы уже видел. Наверное, очень давно. Когда был маленьким. И что это за «мони́я»? Верно, мóлния. Но причём здесь молния?
– Ожил, храбрый воробей? – снова спрашивает незнакомец и надевает очки, поправляя их указательным пальцем. Доктор!
Нижняя полка напротив опять занята. На ней в такой же позе – лицом к стенке – спит другой человек. Без носков, с жёлтыми пятками.
Сильно пахнет карболкой.
Подрагивает и поскрипывает полка подо мной, на столике тонко звякают какие-то склянки.
Спрашиваю, а не слышу своего голоса. Пытаюсь подняться. Большая ладонь ложится на мою грудь.
– Лежи, лежи. Передохни немного.
– Куда мы едем? – спрашиваю громче.
– Много будешь знать, скоро состаришься, – шутит доктор. – Прими-ка.
Пью какую-то кислую микстуру. Меня опять клонит ко сну.
Тем временем санитарный поезд медленно движется между скал. Их я вижу мелькающими за стеклом окна, когда открываю тяжёлые веки.
На остановках выгружают людей на носилках – в окно всё видно, даже ночью. Вносят каких-то других.
Военврач подолгу отлучается: конечно же, лечить раненых. С тоской жду его возвращения. Осознаю, что плохо без него мне. Будто он давний и хороший знакомый. Человек, делающий мне добро. Понимающий меня. Не упрекающий ни в чём.
…Полка внизу напротив никогда не пустует. Сюда приходят отсыпаться после дежурств усталые и молчаливые люди – санитары и врачи, наверное.
Дверь нашего купе не закрывается, и я часами наблюдаю, как по коридору пробегают, проходят, снуют люди, часто – в белых халатах, с носилками, с бидонами и разными другими поносками в руках.
Из обрывков разговоров мне становится ясно, что едем не на передовую линию фронта, а наоборот, в тыл. Но почему-то обрадовался, когда военврач объявил мне, что завтра будем в Челябинске. От собственного малосилия, наверное, не огорчился. Меня кормят наравне со всеми. Кашами. И хлеб дают. И даже компот из сухофруктов. И какие-то таблетки. Такие толстые, что еле пролезают в горло.
Восторженность вскоре сменяется виноватостью за причинённые медикам хлопоты и неудобства – ведь я занимаю чьё-то место. И за всё происшедшее со мной. Стыдно. Уши обжигает, когда представляю возвращение домой. Я даже всплакнул втихомолку. Под одеялом. Чтобы никто не заметил. Как всё нелепо произошло! Стремился сделать хорошее, героическое дело, а случилось совсем другое, непредвиденное. В общем, ничего не получилось.
– Подготовили документацию в семьсот сорок первый? – спрашивает военврач какую-то женщину в халате с пачкой бумаг в руках.
– Так точно, – отвечает женщина.
– Прихватите ещё вот этого хлопца. Он рядом с госпиталем живёт. Доставьте по адресу: улица Свободы, дом номер двадцать четыре. (У нас почему-то табличку вдруг сменили, о чём я, наверное, врачам и сообщил).
И тут я снова слышу знакомое: «Не-мо-ни́-я». Слово это относится явно ко мне. Это мой спаситель объясняет женщине.
– Будет выполнено – решительно отвечает женщина. – Какие ещё будут распоряжения, Михаил Абрамович?
– Всё. Можете идти.
Женщина поворачивается и выходит из купе.
– Дяденька… Товарищ военврач, а как же пропеллер и листовки? – робея, спрашиваю я.
– Об этом, герой, не беспокойся. Листовки передам в воинскую часть, на самую передовую. Все до единой «Смерть фашистским оккупантам!» попадут, куда надо. А пропеллер… Его тоже передам по назначению.
Я сразу ему поверил. Такой человек не может солгать. На сердце у меня отлегло: хоть часть задания выполнена. С помощью вот этих людей, ставших мне близкими и уважаемыми за их труд, – ведь сам видел, как они спасают раненых. И мне помогли. Особенно военврач с очками на горбатом носу. Если б не он, что со мной сталось бы?
Попрощаться с моим спасителем не удалось – поблизости не оказался. Не встретился. Чем-то важным занят был. А хотелось поблагодарить. За всё.
Встреча произошла через десять лет. И совсем в иной обстановке. Об этом удивительном событии поведаю в одном из следующих рассказов. А может, в нём ничего удивительного нет? Кто знает?
…В машине с обтянутым брезентом кузовом, заставленным носилками с ранеными, меня подвезли к знакомому школьному крыльцу. И опять вспомнилось незабываемое начало сентября. Сюда, в школу номер тридцать шесть, в последний предвоенный год в сопровождении мамы я пришёл, гордый и радостный, в первый класс. И здесь в нетерпеливом ожидании стоял, чутко прислушивался: не пропустить, когда учительница назовёт мою фамилию, откликнуться.
– …Рязанов! – это строгий голос той женщины, которой военврач поручил «доставить меня по назначению». – Можешь передвигаться самостоятельно?
– Могу. До дома дойду. Тут недалеко, спасибо всем вам. – Отвечаю я и слезаю на школьное крыльцо, где не так давно стоял на табуретах алый гроб с бледным юношей в новенькой гимнастёрке с голубыми петлицами. Эх, не удалось провиражировать на его «ястребке»! Сквитаться с немецкими асами, погубившими Героя.
Сильно мотнуло в сторону, но я удержался на ногах.
– Получи, – протягивает мне строгая женщина конверт.
В нём обнаруживаю рецепт с печатью и потёрханное отцовское письмо из-под Сталинграда, полученное ещё весной. Как оно туда попало? Сам, наверное, отдал. А врач сохранил и возвратил.
До родного порога – всего полтора квартала – добираюсь невообразимо долго. Как будто и без того медленно текущее время растянулось ещё длиннее. Уж очень легко мне вдруг становится несколько раз, того и гляди взлечу. А ноги еле передвигаю. В дедовских сапогах. За стены домов и заборов хватаюсь.
…До самой двери мне никто из соседей не встретился. Я этим несказанно доволен. А то: вопросы, расспросы, упрёки, нравоучения… Лишь лицо тёти Тани мелькнуло за отдёрнутой и тут же задёрнутой занавеской на кухонном окне.
Ключ лежит, как всегда, под половиком у порога.
На столе рядом с кастрюлей, укутанной в бывшее Славкино байковое одеяльце, лежит на виду записка: «Юра, ешь картошку с хлебом и жди меня, не уходи никуда. Славик гостит у тёти Поли».
Полина Александровна – родная тётка отца. В Заречье живёт, в своей избушке. Купила, когда у них конфисковали каменный дом. А сына, артиста-куплетиста, упекли в дом для сумасшедших, где он и умер. За те самые куплеты, им же сочинённые. Тётя Поля проговорилась. Это случилось давно, в тридцать седьмом. Я в их каменном доме не бывал и сына тёти Поли никогда не видел. А вот за что «уморили» в доме для умалишённых сына тёти Поли, я после ещё много раз от неё слышал, до войны, когда она приходила к нам в гости, а точнее – пельмени стряпать (отец любил пельмешки, сделанные именно руками тёти Поли, – никто так вкусно, по его утверждению, их готовить не умел), и с плачем причитала о своём неутихающем горе вечном. Ведь муж её пимокат Яков Ковязин тоже почил. От пьянства. Запил после смерти сына.
В сахарнице с мельхиоровыми ободками и «лапками» на следующий день обнаружил адресную телеграмму: «Надежда Фёдоровна сын Юрий вернётся несколько дней военврач Тасгал». Фамилию врач неправильно указал, у мамы была другая: Костина. И у меня до поступления в школу – тоже. Почему при перекличке оказалось двое Костиных и ни одного Рязанова. Лишь со сменённой фамилией меня приняли в первый класс.
Много лет спустя мама поведала мне, почему отец не хотел, чтобы оба его сына носили фамилию Рязановых. Но вернёмся в конец лета сорок третьего.
…В сахарнице мы храним самое драгоценное – хлебные и продуктовые карточки. И мамины зарплаты, без которых тоже не выжить. Деньги лежали на месте, а карточки отсутствовали. Я сначала всполошился, но понял: за меня в очередях теперь маются отцова тётка Полина Александровна, тётя Поля, вдова пимоката Якова Ивановича, как уже упомянуто выше, не выдержавшего ареста и смерти сына и вслед за ним погибшего от запоя. Она осталась одинока. Конечно, тёте Поле сейчас не так печально жить со Славиком. Но всё равно мне стало ещё муторнее.
И моё сознание заполонил стыд – столько хлопот и беспокойства причинил многим родным людям. И маму заставил переживать. Чувство собственной вины усугубилось, когда прочёл мамино неотправленное письмо на фронт.
Я изначально сам писал отцу, но о получении моих посланий он сообщал лишь маме и всегда одними и теми же словами напоминал, чтобы я слушался и хорошо учился да по дому помогал. На мои вопросы и просьбы он никак не откликнулся. А я не хотел до сих пор принять, что ему там, под Сталинградом, не до моего любопытства.
Своих писем к отцу мама нам никогда не показывала, хотя они очень сильно меня интересовали. Это я прочёл.
«Миша, родной, здравствуй! Долгожданный твой треугольник получили. Весточки от тебя – моя радость и мука! Ожидаю их как подарок судьбы или удар рока. И когда эта пытка кончится?! О твоём возвращении лишь и думаю днём и ночью. И надеюсь, дождёмся тебя живым и здоровым. А случись, ранят тебя или покалечат, не отчаивайся, знай и верь, мы тебя никогда не оставим в беде, родной наш, что бы с тобой не произошло.
Живём мы нормально, как все. Я работаю всё там же, старюсь трудом своим помочь нашей родной Армии бить врага до победного конца.
Слава заметно вырос и повзрослел, вернёшься – не узнаешь. А Юрий, даже затрудняюсь, что тебе о нём написать».
На этой фразе письмо обрывалось. Не решилась, видать, мама сообщить о моей самовольной выходке – побеге на фронт. Поэтому и не закончила своё письмецо. А отец ждёт, волнуется наверняка, приготовившись к атаке с друзьями в окопе.
Я подвинул белую фарфоровую чернильницу-непроливашку, достал из своей матерчатой сумки пенал с карандашами, ручками, перьями номер восемьдесят шесть, ластиком и старательно вывел после маминых слов: «Папа, обо мне не беспокойся и не сомневайся. Я тоже фашистов ненавижу и хочу сражаться с ними. Я хотел на фронт поехать, но простыл и заболел. Врач сказал – я скоро поправлюсь. Поэтому не волнуйся. Я себя буду хорошо вести и маме во всём помогать. Твой сын Юрий».
Перечитал приписку. В ней чего-то явно не хватало. Подумав, понял, чего. И вывел старательно: «Пионер и тимуровец». Хотя ни тем ни другим не являлся – не приняли. За моё непослушное поведение, которое почему-то пионервожатой и учителями воспринималось в штыки. Особенно завучем по кличке Крысовна. С ней я спорил, когда она поступала несправедливо, как со своими, лично ей принадлежащими рабами. И злилась. И вообще обещала меня из школы вытурить. Но я всё равно спорил. Потому что нет ничего дороже в жизни справедливости. А её надо отстаивать. Даже перед завучем.
Это все свободские пацаны знают. А Крысовна, то есть Александра Борисовна Кукаркина, не знает. И знать не желает.
Но ни ей ни другим и в дальнейшем я не уступлю. Даже если меня из школы вытурят.
От мамы, конечно, попадёт – ещё как! Но я должен вытерпеть всё. И не уступать никому, если уверен, что прав. Вот Луценко знал, что он прав, сражаясь с врагом. Погиб, но не отступил. И я не буду отступать. Ни перед кем!
1963 год
P.S. Воинственное моё настроение, привезённое из неудачного похода на фронт, мальчишеская самоуверенность борца за справедливость, желание отстоять свою правоту, правду во что бы то ни стало – во всё это я поверил в первые же минуты после возвращения домой. Разумеется, эти мысли пришли не вдруг, они бродили во мне и раньше, но сейчас выстроились, как перед боем. В те блаженные мгновения под стук маятника вечных бабушкиных настенных часов я вдруг отчётливо осознал, чем предстоит мне заниматься в жизни. Это был сильный прилив, толчок, ясное видение грядущего, в нём лишь отсутствовали те последствия, которые сопутствуют любому поставившему пред собой цель: бороться и не сдаваться. Если б я их, эти последствия, и увидел тогда (что, конечно же, невероятно), то всё равно не изменил бы жизненной цели. Но, к сожалению, сколько раз приходилось мне отступать под ударами жизненных обстоятельств. Неизменным оставалось одно – я продолжал двигаться к ней, к цели, вернее, к целям. Одну из них принял уже взрослым человеком – спасение (тоже целенаправленно) уничтожаемых, уцелевших, благодаря народному сопротивлению, предметов древнерусского искусства, вернее, того, что от него осталось. Это и был мой «ястребок», пусть маленький, по силёнкам, к которому приладил-таки пропеллер и запустил в небо. Небо нашей жизни.
2007 год
На Дерибасовской открылася пивная…
На Дерибасовской открылася пивная.
Там собиралася компания блатная.
Там были девушки Маруся, Вера, Рая,
И с ними Вася, Вася Мшаровоз.
Три девки и один роскошный мальчик,
Который ездил побираться в город Нальчик,
Но возвращался на машине марки Форда
И шил костюмы элегантно, как у лорда.
Но вот вошла в пивную Роза-молдованка.
Она была собой прелестна, как вакханка.
И к ней подсел её всегдашний попутчик
И спутник жизни Вася Шмаровоз.
Держа её, как держат ручку у трамвая,
Он говорил: «Ах, моя Роза, дорогая,
Я Вас прошу, нет, я вас просто умоляю
Мне подарить салонное танго».
Потом Арончик пригласио её на танец.
Он был для нас тогда совсем как иностранец.
Он пригласил её галантерейно очень
И посмотрел на Шмаровоза между прочим.
Хоть танцевать уж Роза больше не хотела —
Она с Ваською порядочно вспотела, —
Но улыбнулась лишь в ответ красотка Роза,
Как засверкала морда Васьки Шмаровоза.
Арону он сказал в изысканной манере:
«Я б Вам советовал пришвартоваться к Вере,
Чтоб я в дальнейшем не обидел Вашу маму», —
И прочь пошёл, поправив белую панаму.
Там был маркёр один, известный Моня,
О чей хребет сломали кий в кафе «Фанкони»,
Побочный сын мадам Олешкер, тёти Эси,
Известной бандерши, красавицы в Одессе.
Он подошёл к нему походкой пеликана,
Достал визитку из жилетного кармана
И так сказал ему, как говорят поэты:
«Я б Вам советовал беречь свои портреты».
Но нет, Арончик был натурой очень пылкой:
Ударил Розочку по кумполу бутылкой,
Официанту засадил он вилку в жопу —
На этом кончилось салонное танго.
На Аргентину это было не похоже.
Вдвоём с приятелем мы получили тоже,
И из пивной нас выбросили разом —
Он с шишкою, я с синяком под глазом.
На Дерибасовской закрылася пивная.
Ах, где же эта вся компания блатная?
Ах, где вы, девочки, Маруся, Роза, Рая,
И где ваш спутник Вася Шмаровоз?
Гудиловна
Осень 1943-го – весна 1944 года
После неудавшейся попытки пробраться на фронт я тяжело хворал воспалением лёгких. Но не столько горевал о том, что болею и теряю драгоценное время, как о том, что приключилась это не вовремя, – кончается знойное лето, все соседские ребята с утра до вечера пропадают на берегу Миасса, купаются и загорают, устраивают грандиозные сражения на острове, промышляют рыбу и раков, а я вынужден лежать в постели, изнывая от безделья, липкого пота и гнетущей комнатной звенящей тишины и пить отвар каких-то корешков дикой травы, которые собирает для меня где-то в лесу, на только ей известной поляне, бабка Герасимовна. Мама сходила в госпиталь, и ей выдали бесплатно какие-то таблетки. По рецепту Михаила Абрамовича. Их, говорят, ни за какие мильёны нигде не купишь – американское лекарство. А по рецепту военврача Тасгала – выдали. Так что лечат меня разными способами. Нестерпимо долгие часы коротаю один-одинёшенек. Лишь регулярный бой больших настенных часов (приданое бабушки) напоминает, что время вязкое, как битум, разогретый летним зноем, беспрестанно и медленно течёт куда-то. Неизвестно куда. В пустоту, окружающую меня.
Лишь призывно-задорное щебетание воробьёв иногда доносится через открытую форточку да слышится собачий дальний лай.
Спасают меня от непереносимой, нестерпимой, гораздо хуже хрипучей болезни и скуки друзья-книжки. И отважные, а то и забавные, герои этих книжек. Точнее, неунывающий, прикидывающийся дурачком, а на самом деле проказник и плут, Йозеф Швейк, фантастический обжора Балоун и другие персонажи.
Иногда появляется Вовка Кудряшов, товарищ мой верный. Встречи с ним – самые отрадные минуты. От него, всегда бодрого и делового, узнаю ребячьи уличные новости. Это вести из моего, но недоступного сейчас, бурлящего вокруг мира. Без книг я, думается, не вынес бы пытки нудной болезнью. Наверное, она тянет меня перечитывать сказку Волкова «Волшебник изумрудного города», чтобы целиком погружаться в неё. Тогда и хворь как будто исчезает.
Однажды Вовка сообщил, что с чердачного наблюдательного пункта замечен мой новый сосед – прихрамывающий военный с тростью. Трость очень красивая, разноцветная, это было видно даже издалека в самодельную картонную подзорную трубу без стёкол.
Вошёл он, открыв дверь ключом, в квартиру Гудиловны, до тех пор пустовавшую, – хозяйка её пропала вместе со своим облезлым, хитроглазым муженьком-немтырём и толстяком-сыночком Шуриком ещё в апреле.
Исчезновению свихнувшейся от злобы и природной дурости Нины Иегудиловны предшествовала потрясающая, до жути захватывающая сцена.
Об этом невероятном событии узнали не только все жители улицы Свободы, но, наверное, и дальнего кирсарайского посёлка. Столь широкое оповещение следовало поставить в заслугу бабке Герасимовне.
До войны у нашей семьи в общем жактовском доме была однокомнатная квартира с чуланом, имевшим самостоятельный выход сбоку во двор направо. Взамен этого вместительного, ещё «барского» (дом до революции принадлежал сбежавшему за границу биржевому маклеру – кто такой «маклер», я представления не имел, но бронзовую именную печать его мне повезло нащупать и вытащить из-за наличника кухонного подоконника). Вместо чулана, мрачного угла моих «ссылок» за детские проказы и непослушание, отец в тридцать седьмом году вместе с дедой Лёшей затеял постройку жилой комнаты. Строительством пристроя занимались менее года дед Алексей, который владел плотницким делом, и наёмные рабочие. Они уже успели – с моей помощью! – обить дранкой стены и потолок, два воза прекрасного мелкого песка заготовили, извести несколько мешков закупили. И тут случайно отец столкнулся с бывшим дворником и уборщиком их дореволюционной усадьбы Гаврюшей, который сразу вцепился в отца с торжествующим воплем:
– Попался, барчук! Держите ево, граждани! Это Мишка Рязанов! Мы ево сичас к стенке поставим, котрреволюционнова элемента! Завите-е милицию! Евоный отец меня иксплутировал!
Гаврюша забыл, что его, малость придуркавастого, ещё мальчишкой, дед Лёша подобрал – голодного, завшивленного и оборванного – на улице. А сейчас вмиг нашлись доброхоты расправиться со скрывавшимся «контриком». Отца, разумеется, тут же арестовали. С год, кажется, он числился для меня в «командировке». Спас его муж сестры Клавы – старый большевик Александр Авдеев, – уничтожив липовое дело: отцу во время октябрьского переворота минуло всего двенадцать лет. Но самого дядю Сашу Авдеева расстреляли как врага народа в тридцать восьмом палачи из новой, молодой волны чекистов. До начала войны с фашистами отца больше никуда не вызывали и не трогали. Но вот фашистская Германия напала на СССР. Отца вскоре вызвали в районный военкомат и в декабре мобилизовали. Комната так и осталась неоштукатуренной. И её реквизировали как излишки жилплощади. Мы втроём опять стали жить в одной комнате.
Помнится, тогда же, в сорок первом, осенью и зимой, в город начали прибывать первые эшелоны эвакуированных.
Беженцев расталкивали по квартирам – «на уплотнение». «Уплотнили» и нас. Реквизированную комнату отштукатурили и заселили. Мама отнеслась к вселению эвакуированных с пониманием. Она близко к сердцу принимала чужое горе и вообще всё происходящее в стране, в мире. Но не всем это «подселение» нравилось в нашем доме. Тёте Даше Малковой, например.
Бабка Герасимовна объявила маму «шамошедшей», после того как она зимой сорок первого, когда немцы подошли к Москве, подала заявление в военкомат с просьбой о зачислении в действующую армию. Отказали. Мама переживала, что её «отстранили».
Герасимовна же на весь общий коридор рьяно осуждала маму, обвиняя её в том, что она «хотит швоих единокровных робят малолетних», то есть меня и Славика, «оштавить широтами», да ещё почему-то «круглыми». Как накаченные мячики, что ли? Будто не видела, какими худыми мы с братом выглядели.
Я не представлял, кто такие «круглые» сироты, но почувствовал несправедливость бабкиной нападки – я и Славик никак не могли ни с того ни с сего стать шарообразными – и попытался защитить маму.
– Мама нас любит, – громко объявил я бабке. – И никакие мы не «круглые». Не мячики.
– Иди, Юра, в комнату, – строго приказала мама. – И никогда не вмешивайся в разговоры взрослых.
Я повиновался, и чем закончился их спор, не знаю. Но тогда был уверен на все сто, что права была мама. Мне и самому казалось, что несколько лет (год – два, пока идёт война) мы можем пожить и в детдоме. Это даже интересно – там уйма ребят.
Ничего она не понимала, эта затюканная, скрюченная, ещё дореволюционная старуха, – думалось мне. Невдомёк ей: кто же откажется, кто не мечтает попасть на фронт? Ведь это так увлекательно и почётно – воевать. За свою Родину. За улицу Свободы. За маму. И вообще – за людей. И лишь позднее я понял: мама на фронт просилась, потому что чужое горе воспринималось и её горем, а судьба страны – и её судьбой. И для блага Родины была готова на любую жертву. Как и все, разумеется, настоящие советские люди. И я так думал. И по репродуктору много раз слышал. Это мои мысли повторял диктор Левитан. И всех других.
До войны мама работала санитарным и ветеринарным врачом на горхолодильнике, а после размещения привезённого с Запада механического завода пошла на это производство: в громаднейшее, только что построенное на месте уничтоженного городского «собора» оперного театра здание. Стала токарем, точила гильзы для крупнокалиберных снарядов. Вот какая у нас мама. Только она ничего такого не рассказывала никому из соседей. Она вообще о себе и своей жизни не любила распространяться, отговаривалась: ни к чему всё это. Когда повзрослел – узнал: опасалась, что упекут в тюрьму. Отец её служил в своё время кондуктором взорванного революционного царского поезда, но после этого случая вышел на пенсию, получив инвалидность. На что и жили в Петербурге всей семьёй.
…Когда её наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», она плакала от счастья и переживаний, накопившихся за четыре напряжённейших, без продыха, года. А медаль ни разу не надела. В коробочке так и хранила. Необыкновенная скромность её, мне хвастунишке и выдумщику, была странной. Я её себе не мог объяснить. Как и жестокость наказаний, чаще по жалобам и нашёптываниям соседок. Иногда виноват бывал я, а иногда – нет. Доверчивость её подводила. Полагаю, эту особенность её характера – без наказаний – унаследовал и я.
…Событие, о котором намереваюсь рассказать подробнее в одном из следующих повествований, произошло после запомнившегося мне навсегда Дня Великой Победы невиданным по яркости и обилию красок салютом и всенародным многотысячным столпотворением на главной площади Челябинска, с всеобщими радостью и ликованием, разделившими нашу жизнь на две части – ту, что было до, и после. Но вернёмся в сорок второй.
…Сначала в неоштукатуренной до конца комнате поселилась семья ленинградцев. Исхудавший юноша, похожий на белую тонкую личинку, – я их выковыривал из-под коры расколотых чурбаков, вялый и слабый, он почти не вставал с постели, сооружённой при моём участии из кирпичей и досок. Мать и бабушка приносили ему из обкомовской столовой в судках питательные, как они говорили «высококалорийные», спецобеды, которые получали по каким-то особым талонам. Мать Володи была каким-то партийным начальником и чем-то занималась в том же обкоме. Там, наверное, и жила. А где обитала бабка – не знаю. Возможно, их расселили по разным квартирам. Оклемавшись, юноша куда-то переехал. Но перед этим произошла трагедия, которой я так и не нашёл объяснения.
Продолжавших прибывать в наш город эвакуированных поселяли не только к тем, кто желал принять, но и в приказном порядке. Если позволял метраж жилплощади.
Гудиловна тоже была эвакуированной. Первая моя встреча с ней произошла так: вернувшись из школы (я уже к этому времени достаточно окреп), увидел в открытую в общий коридор дверь кухни Малковых сидящую на плетёном небольшом бауле чернявую, одетую в лёгкое, как его называли взрослые – демисезонное, пальто и в накинутой на плечи белой ажурной шали женщину с тёмными, на выкате, настороженными глазами, похожую на цыганку. К нам во двор забредали эти гадалки-обманщицы. Я остановился – из любопытства.
«Цыганка» терпеливо сносила ругань разгневанной тёти Даши, вдавив себя в угол небольшой комнатушки, словно приклеившись к нему.
– Меня это не касается, куда ты пойдёшь! – кричала Малкова. – Откуда припёрлась, туда и проваливай! Хоть к чёрту на рога!
Такой разъярённой и грубой тётю Дашу я ещё не видел.
– Я одинокая, – тихим печальным голосом убеждала женщина, не двигаясь с места. – Я устроюсь вот тут, на своём сундучке.
– А я не желаю, чтобы ты тут оставалась, – хамила завмаг. – Вас только на порог пусти, вы, как клопы, расплодитесь и из дому вы́живете… Проваливай! Чтобы я твоё мурло больше не видела.
Женщина упорно продолжала сидеть на своём бауле, жалобно убеждая Малкову, что от неё никаких неудобств хозяйке не будет, наоборот, они станут подругами, а она, «цыганка», постарается ей во всём помогать.
Завмаг не сдавалась: «Иди ты к чертям со своей помощью! Мне никакая твоя помощь не нужна. Понятно я говорю? Убирайся!» Незваная гостья ссылалась на то, что вселили её в квартиру Малковых по распоряжению военкома как эвакуированную, показывала тёте Даше какую-то бумажку.
Вот в чём дело! Её, эвакуированную, не пускает тётя Даша!
– Вон к Рязановым иди жить! У них целая комната пустует, – сказала зло завмаг, заметив меня.
Женщина пронзительно посмотрела на меня, и я сразу как бы ослабел от её чёрного, мне показалось, бешеного взгляда.
– У нас уже живут. Ленинградцы, – поспешил пояснить я. – Вот мне даже партийный билет Володина мама подарила, – похвастался я.
И я показал алого цвета кожаную обложку с золотыми буквами «ВКП(б)».
Я не был против, чтобы и она поселилась в нашей комнате. Вместе с Володей. Если жить негде. Не на улицу же её выгонять. Да и Володины мать с бабушкой квартиру нашу посещают лишь днём.
Препирательство эвакуированной с тётей Дашей завершилось тем, что негодующая Малкова, закрыв дверь на ключ, ведшую в большую комнату с лепным потолком и апельсинового цвета абажуром над столом, смоталась в райвоенкомат на улице Красноармейской, и пришедший вместе с ней человек в военной форме увёл куда-то женщину с баулом, помогая ей тащить оказавшийся тяжёлым и громоздким груз.
А ранним утром, выйдя в коридор умыться, я застал возле малковского рукомойника высокого широкоплечего красавца в синих галифе и сверкающих хромовых сапогах. Оголённый по пояс, он громко фыркал, обливая себя холодной водой, черпая её ковшом из ведра.
– Иди, иди, чего встал? – раздражённо понукнула меня тётя Даша, вынесшая умывшемуся богатырю большое махровое полотенце с вышитыми разноцветными птицами – красота!
Но любопытство моё было слишком велико. Я не повиновался приказу соседки.
Несколько минут спустя богатырь вышел от Малковых в коридор уже в гимнастёрке – обмундирование на нём было новенькое и броско облегало атлетическую фигуру. В каждой петлице я узрел по две шпалы: ого! майор! командир!
В тот же день я спросил у Милки Малковой, кто к ним в гости утром с фронта приехал. Она пояснила, что это был сам военком майор Шумилин. Я тогда Милке, честно признаюсь, позавидовал. Особенно когда она показала оставленный гостем настоящий охотничий нож, острый, как бритва, с продольной ложбинкой через всё лезвие и с рукоятью из натурального оленьего рога. Гость забыл драгоценную вещь после обильного угощения – Милка перетирала на кухне тарелки, рюмки и прочую посуду – свидетельства пиршества.
Хотя Милку мать с вечера отправила к тётке, жившей в соседнем дворе, и она лично с майором увиделась только утром перед школой, поговорить им, понятное дело, подробно не удалось, и всё-таки я считал девчонку везучей. Тем более что им такой трофей достался – фашистский охотничий нож! Наверное, бравый майор добыл этот трофей у диверсанта.
Вскоре ленинградцам, как уже упоминалось выше, дали другое, несравнимо благоустроенное жильё в большом доме – тогда, пожалуй, самом высоком в городе, по улице Цвиллинга, тридцать шесть – и они переехали. Точнее – ушли, поддерживая за локти юношу – им нечего было перевозить. Бледный до белизны юноша, его звали, как я выше упомянул, Володей, к тому же опухший, еле передвигал ноги в распоротых тапочках – ступни не влезали в них. Как у мамы Вовки Кудряшова.
В бывшей нашей комнате вдруг как-то незаметно очутился невзрачный, лысоватый, бессловесный человечек. Он не здоровался ни с кем, проходя мимо. Да и появлялся среди жителей дома крайне редко. Служил человечек, как утверждала Герасимовна (и где только разнюхала!), «ишпидитором в орше». Я так и не понял, кем он работает, смысл первого слова был тогда мне неведом. Знал только, что хлебные магазины, где мы выкупаем пайки хлеба, – орсовские.
Комнату срочно дооштукатурили и побелили, в окно рабочие вставили металлическую (я её назвал «тюремной») решётку с прутьями в палец толщиной, а на дверь навесили широкую накладку полосового железа с пробоем – винтовым замком. Крепость!
Сразу явилось семейство бессловесного человечка, которому мы уже с Вовкой придумали кличку, – Немтырь.
Нина Иегудиловна, жена Немтыря, та самая женщина с огромным баулом, её мы окрестили Гудиловной, сразу же стала всеобщим нашим бедствием.
Такой напасти в нашем дворе не видывали никогда.
Гудиловна возненавидела жителей нашего двора. Не считая ненаглядного своего толстенького сыночка Шурика, да, возможно, мужа. Остальных – всех без исключения. Но пуще, лютее – Милку и её мать. Наверное, за то, что завмаг не пустила её в свою комнату и даже с кухни выперла.
Видно было, что Гудиловна боится Малкову, поэтому избегает стычек с ней. Но зато какой только пакостной напраслины она не выдумывала и не распространяла о Милке и её матери через тётю Таню, а та «по секрету» взахлёб расшептывала злобные вымыслы Гудиловны всем в округе. И тёте Даше пересказывала на ухо.
Злобы Гудиловны с лихвой хватало на всех, кто ей встречался на пути.
…Вот она выбегает на середину двора, как на цирковой манеж клоун. Голосом, отчётливо слышимом даже на ЧТЗ, взывает:








