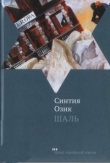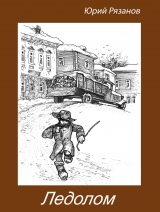
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 48 страниц)
Братишка перестаёт хныкать и лишь твердит:
– Хочу домой, домой хочу… И пончик тоже.
Побродив по запущенному скверу с огромной бетонной чашей бездействующего фонтана, мы снова выходим на базарную площадь, оглашаемую разноголосым шумом. Кто-то на раздрызганной гармошке наяривает и хриплым голосом выкрикивает похабные деревенские частушки. Матерщинные. Многие их слушают. С удовольствием!
Проходим с опаской по тому месту, где недавно произошла схватка колупаевца с раненым.
Ничто уже не напоминает о недавнем происшествии. Будто здесь и не случилось ничего. А меня мучает, бесконечно повторяясь, один вопрос: почему колупаевский хулиган назвал голодного несчастного вора «мотылём»? Фамилия у него такая? Мотылёк ведь это маленькая бабочка, вечерами их много в стёкла окон бьётся, – на свет летят.
Старик с ящиком француза Шарко замер на прежнем месте и в той же позе. Страшный человек с белыми, наверное от голода выцветшими, глазами, куда-то уполз. Гомон, переругивания, выкрики, матерщина там и сям прорываются, как лопающиеся гнойные нарывы. Мат всегда ранит меня. Вызывает ответную злость – так бы и шлёпнул по опоганенным губам!
…Нашли торговку мылом! Она запомнилась мне на всю жизнь, хотя внешность её на редкость невыразительна. И незапоминающаяся. Таких – тысячи, будто из инкубатора. Курносое широкое бабье лицо, засиженное веснушками. Как у Толяна Данилова. Разве только глаза. Их я рассмотрел и запомнил очень верно. Хотя никогда в «гляделки» не играл – не любил. Девчоночьи глупые забавы!
Как я обрадовался, увидев в пухлой, не очень чистой руке брусок хозяйственного мыла! Не самоварку – с фабричным треугольным клеймом.
Торговка не тараторит складные заученные славословия, как некоторые, нахваливая свой сомнительный товар, а с достоинством, молча демонстрирует его.
На вопросы, что-де за мыло, хорошее ли, с презрением и неизбывным хамством рыночного завсегдатая швыряет:
– Разуй глаза! Довоенное! Ядровое! Двести пятьдесят.
Цена, возможно, и соответствует товару – брусок большой, несрезанный и необскобленный. Хотя столько же стоит и маленькая буханочка ржаного хлеба. Мыло в солнечном луче просвечивает, словно соты, полные мёда, или отцовские янтарные золочёные запонки, променянные весной на ведро мелкой семенной картошки.
С тоской любуюсь мылом, даже не пытаясь рядиться, – такой неприступной и злоязычной выглядит хозяйка. Но она вдруг ни с того ни с сего обратила на нас внимание.
И сама мне предлагает:
– Ну, хлопчик, налетай, хватай, покупай, чего глаза растопырил? Гро́ши есть?
– Есть.
– А ну, покажь!
Оглянувшись и не видя рядом опасности, развязываю платочек, прижав его, на всякий случай, к груди.
Убедившись, торговка, настороженно позыркивая по сторонам, тихохонько говорит:
– Ещё гони сколь-нибудь. Полсотни. По дешёвке. Задарма отдаю. Только тебе как малолетке. Добавь ещё сколь-нибудь, не жмись. Чево жмотничаешь? Давай-давай!
У меня в потайном месте, в поясе истрёпанных штанов, обрезанных из-за дыр выше колен, хранятся накопленные «фронтовые» двадцать три рубля. Вырученные за сданные бутылки из-под вина и водки. Они, как я рассудил, могут понадобиться в нелёгком пути на передовую. Пока на армейский паёк не зачислят. Как сына полка.
Поразмыслив минутку, прихожу к выводу, что имеется ещё резерв: далеко не все железяки сданы в ларёк утильщика дяди Лёвы. Этого добра – таскать не перетаскать. И с большими трудностями извлекаю туго скатанные в рулончик заветные деньги.
Торговка теперь обращается со мной более почтительно. Но бегающий взгляд её совершенно неуловим, словно ощупывает всего меня. Она без умолку убеждает меня, что почти даром отдаёт лучшее на базаре довоенное мыло. В доказательство плюет на указательный палец и натирает им грань бруска. Сразу появляется белая пена.
– Не мыло – сахар. С чаем бы съела, да гро́ши надо. Само моет. У вас стиральная доска есть?
– Есть, – словно заворожённый её прибаутками, отвечаю я.
– Одним этим куском вагон и маленькую тележку шмоток нажамкаете. Бери, не пожалеешь. Ишщо спасибо скажешь за доброту мою.
Мне так нестерпимо хочется купить для мамы это изумительное довоенное мыло, что я теряю способность говорить, а лишь неотрывно гляжу на торговку, пытаясь поймать её неуловимые, маленькие, без ресниц, глазёнки мутного цвета, и на чудесный янтарный брусок. Однако что-то удерживает меня от решительного шага. Сам не пойму. Что-то внутри меня. Будто не разрешает. И даже запрещает. Какое-то нехорошее предчувствие.
– Я бы тебе уступила, милёнок, – ласковым голосом сожалеет торговка, – да мужик мой – зверюга. Вон стоит, буркалы пялит. Убьёт, ежли продешевлю.
Оборачиваюсь в ту сторону, куда кивнула торговка, и мне мерещится, что за спинами людей прячется тот, кто, улыбаясь, недавно истязал несчастного, поверженного в базарную, протёртую тысячами подошв серую пыль, давящегося проклятым пончиком человека в серой измызганной куртке и такого же цвета штанах.
Наверное, тот зверюга, что пинал его, и есть её мужик. Мне жаль добрую женщину – он и с ней может столь же чудовищно расправиться.
В этот момент торговка, словно раздумывая: отдавать – не отдавать, вынимает из плетёной сумки тетрадный лист, лощёный, хрустящий, и тщательно упаковывает в него кусок мыла. Оглянувшись, протягивает его мне, но тут же отдёргивает руку и бросает свёрток в кошёлку. Не иначе мужа своего заметила, следящего за ней, чтобы не продешевила дорогой товар. И, глядя мимо меня, приставляет палец к губам: тс-с!
Я впервые вижу её глаза. В их глубине искрится хитрая усмешка. Похожая на кошачью, когда хищница играет с полузадушенной мышью.
Торговка быстро суёт мне пакет и выхватывает из моих пальцев деньги. Помусолив грязноватый палец, она в мгновение пересчитывает купюры и стремительно ныряет в толпу, предупредив меня:
– Беги, пока мужик не отобрал!
Подхватив Славку, мчусь домой. Всё во мне ликует. Вот мама будет довольна, вот обрадуется!
В тот вечер, превозмогая усталость, беспрерывно потирая кулаком слипающиеся глаза, дожидаюсь возвращения мамы с завода.
Вот она отпирает дверь своим ключом. Бросаюсь ей навстречу.
– Что случилось? Почему не спишь? – с тревогой спрашивает она. – Письмо казённое пришло?
Мама панически боится «казённых», как она их называет, писем. Вернее, какого-то одного, о котором ей мимоходом сказала пришлая востроглазая цыганка, выпросив за предсказание кулёк картошки. Обшарив быстрым взглядом всю нашу комнату, продолжала клянчить ещё что-нибудь у мамы «на её женское счастье», мама ничего ей больше не дала, опомнилась, загородив телом дверной проём. А я цыганёнка ухватил за шкирку, он норовил прошмыгнуть к столу, на котором лежала картошка «в мундирах» и пайка чёрного хлеба, – мы как раз к ужину приготовились, оставалось лишь чайник кипятку с кухонной плиты принести.
Теперь, когда после наглого вторжения гадалки с цыганёнком приносят отцовские треугольники со штампом полевой почты, даже тогда мама бледнеет и несколько минут не может прийти в себя. А чего волноваться? Почерк-то отцовский, аккуратный, округлый – ведь он бухгалтером служил в конторе нефтеснаба в последнее перед мобилизацией время. Даже успел курсы старших бухгалтеров окончить.
– Нет! Да нет же, не письмо, – торопливо отвечаю я и достаю из-под своей подушки тяжёлый пакет. От радости не подумал, почему он такой тяжёлый и промасленный, – ведь довоенное мыло должно быть усохшим, лёгким. Оно таким и было там, на базаре. Тяжёлый брусок приятно волновал меня именно своей весомостью.
Устало опустившись на венский стул, который днём нам служил боевым конём, мама разворачивает хрустящий лист в клеточку, исписанный невообразимо красивыми буквами и помеченный оценкой «отл.», выведенной красными чернилами и таким же почерком – залюбуешься.
– Довоенное, ядровое, само мылится, – выпаливаю я, не в силах сдержаться. И весь напрягаюсь от предвкушения маминой похвалы.
Но во взгляде её – недоумение.
Она встаёт, подходит к столу, вывёртывает побольше фитиль трёхлинейной керосиновой лампы, внимательно разглядывает мыло и… закрывает глаза подрагивающими пальцами. Она плачет!
Ничего не могу уразуметь и продолжаю улыбаться. Но жгучая тоска, приступы которой я испытывал маленьким, когда меня, заболевшего ангиной, занятые работой родители надолго оставляли одного в запертой комнате, эта душащая боль моментально сжимает сейчас горло.
Пытаюсь спросить, почему она плачет, что случилось, но не могу. Не сразу это мне удаётся.
Страдание, которое мучает маму, сразу передалось и мне.
– Мам, а мам, кто тебя обидел? Я? Скажи…
– Никто, – тихо отвечает она, утирая носовым платком слёзы. – Укрой Славика, а то его холодит. Видишь, как он скорчился.
И выходит в общий коридор, захватив с собой мыло. Стирать, наверное, пошла. По ночам всегда стирает, в остальное время – некогда.
Но мама тут же возвращается и спрашивает:
– Сколько отдал?
– Сто семьдесят три.
Проговорился. Ведь те двадцать три рубля – секретные. Фронтовые.
Она дует в пузырь лампы, в темноте раздевается, и в комнате становится очень тихо. Я успеваю подумать: в чём-то, наверное, провинился. Что-то тут связано с мылом. Возможно, переплатил? Так дешевле не было. И никакого другого. Быстро, как на качелях, проваливаюсь куда-то в мягкое и уютное. Открываю глаза – уже яркое утро.
Спрыгиваю на пол и бегу на общую кухню, в коридор – умываться.
Мыла на рукомойнике нет. Осматриваю всё вокруг – тщетно. Случайно замечаю угол знакомого тетрадного листа – в ведре для мусора. И мыло – там же. Как оно туда попало?! Почему?
Вынимаю. Разворачиваю прилипшую промасленную бумагу. Но это что-то совсем другое! Не мыло! Мягкое, тёмно-зелёное, вязкое. И не пенится под водой.
Выходит в коридор сгорбленная в дугу бабка Герасимиха. Спрашиваю у неё, что это такое.
Бабка долго мнёт меж пальцев похожее на глину вещество, нюхает и наконец шамкает:
– Жамашка, мил шын. Окна жамаживать хорошо на жыму. Тепло штобы не убывало. На ваше окно хватит. И на обчу куфню останется. Где доштал?
– На базаре купил, – машинально отвечаю я.
– Молодеш, Егорка. В тепле жыму будете жить.
Не верю бабкиной похвале. Но постепенно до меня доходит, что́ ловко вчера мне всучила вместо мыла торговка. Всё во мне взрывается и негодует. Перед мысленным взором – мамины горестные глаза, подергивающиеся плечи. Из-за моей невнимательности. Ротозейства. Доверился!
Я чуть не кричу от ярости, обиды, злости, бессилия. И жалости. Не к себе. К маме. Как я её подвёл! Это ж надо так попасться! Почему бы сразу не проверить? И оказаться таким профаном! Позарился на дешевизну. Испугался мифического мужика.
…За весь путь до базара не произношу ни слова, только, задыхаясь, «буксирую» за собой Славку.
Во второй руке зажат увесистый вязкий ком.
…Не знаю, как поступлю. Одно желание владеет мной – разыскать вчерашнюю торговку и во чтобы то ни стало вернуть наши деньги. Во что бы то ни стало! Или то мыло, что давала на погляд.
Нахожу её.
Заметив нас, она шарахается в сторону. Но тут же успокаивается: кого ей опасаться? Двух малышей? Ведь мы для неё – детишки неразумные, беспомощные.
Но она ошибается: я – не малыш. Всё понимаю. И сумею постоять за себя. За маму. Торговка всех нас обидела.
Подойдя вплотную, неотрывно смотрю ей в лицо и не могу поймать взгляд, расплывчатый, скользящий мимо. Сейчас я ненавижу эту женщину, ничем вроде бы среди других не выделяющуюся, больше всех на свете. Даже кровожадный, со свастикой-пауком на рукаве обезьяноподобный фашист, самое отвратительное и кровожадное чудовище на Земле, уступает этой упитанной, может быть, даже симпатичной, толстоморденькой бабёнке.
Требую:
– Отдай мыло! Или сто семьдесят три рубля.
Но она уже полностью владеет собой. И готова к отпору.
– Какое мыло? Какие гро́ши? Чего пристаёшь, ширмач? Канай отсюдова, пока по шее не надавала. Мыло ему…
Как я дотянулся, не представляю, но тяжёлый брусок замазки плотно запечатал левый глаз мошенницы.
Взвыв, она хватает свободной лапищей шиворот моей ветхой рубашонки.
Слышу треск раздираемой ткани.
Славик пытается оттащить меня. Заревев, конечно.
Но я не могу совладать с яростью, молочу кулаками во что-то мягкое, податливое, словно в подушку, и впиваюсь зубами в самое ненавистное на свете существо. В ответ – оглушительный визг. Похожий на поросячий. Когда его режут. У соседей однажды видел – тоже отвратительное зрелище! И матерщина. Смрадный мат в мой адрес. Эта она изрыгает.
…Мне досталось, конечно, больше, чем ей. Терплю, сдерживая слёзы. Вцепился и не отпускаю. Как клещ.
Крики, подзатыльники. Я тоже свободной рукой сдаю сдачи. Является милиционер. Нас ведут в отделение милиции.
По пути высасываю кровь из разбитой губы. А «потерпевшая» демонстрирует всем затёкший, покрасневший глаз и пухлую кисть грязноватой руки с чёткими отпечатками моих зубов. Один из которых, кстати, дал в ходе сражения изрядную качку. Ничего! Если выпадет – новый вырастет. Не впервой!
Славик, подвывая, семенит за нами. В отделение милиции под номером семь он зайти побоялся, остался на улице. Милицию все пацаны боятся, даже мальцы. А я не понимаю: чего её страшиться? Милиционеры – наши защитники. От воров, спекулянтов и бандитов охраняют. От хулиганов. Милиционеров за это уважать надо.
Отделение помещается в небольшом двухэтажном доме на улице Елькина. Рядом с многоэтажной школой номер десять, в которой сейчас размещён госпиталь.
Мне предлагают сесть как бы в прихожей на широкую скамейку, устроенную вдоль стены. По ту сторону барьера за столом расположился дежурный – пожилой, очень усталый на вид, с опухшими глазами, с седоватыми усами, подстриженными щёточкой.
Как и полагается сотруднику милиции, он строг и немногословен.
– Как звать?
– Юра. Юрий то есть.
– Фамилия?
– Рязанов.
– Где проживаешь?
– Свободы, двадцать два, «а».
– Мальчик не хочет жить на свободе, он жилает к нам в «малину», – раздаётся чей-то весёлый голос из-за решётки, которой забрано небольшое окошечко в стенной двери напротив меня за спиной сотрудника.
– Гражданин Мироедов, не мешайте работать, не то я закрою кормушку, – невозмутимо произносит дежурный и задаёт мне следующий вопрос. Рассказываю о покупке мыла. Торговка опять визжит:
– Никакова мыла не знаю! Головорез! У него финак [39]39
Финак – финский нож (холодное оружие).
[Закрыть]в кармане, гражданин начальник! Он меня зарезать хотит! Штопорнуть [40]40
Штопорить – грабить (воровская феня).
[Закрыть]на гро́ши. Он штопорило! Ево все урки [41]41
Урка – вор (воровская феня).
[Закрыть]знают, – выдумывает она. – Вы ево обшмонайте, у ево и не то есь. В карманах.
– Успокойтесь, гражданка. Надо ещё разобраться, кто из вас потерпевший, – серьёзно произносит дежурный.
– Резáн, братишке передавай горячий, – с удивлением слышу я тот же голос. Кто это? Не Тольки ли Мироеда брат?
– Во, дежурный, чо я говорила? – торжествуя, орёт торговка.
Меня обыскивает милиционер, а дежурный закрывает зарешёченное окошечко.
Ничего кроме отцовского письма и носового платка в единственном кармане штанов у меня при обыске не обнаружили. Ключ от дверного замка, привязанный к шнурку, висит на шее, под рубашкой. Его не нашли. Или сделали вид, что не заметили.
– Мать где работает?
– На заводе.
– Кем?
– Снаряды обтачивает на станке, – громко, чтобы и торговка-лгунья услышала, отвечаю я.
Дежурный коричневым от махорки пальцем тычет позади себя, не оборачиваясь.
– Сюда поглядел, Юра Рязанов.
На стене висит большой плакат, на котором изображён губастый и глупый на вид человечек, а рядом – другой, с громадным синим ухом и хитро прищуренным глазом. Читаю подпись: «Болтун – находка для шпиона».
– Так ведь вы не шпион, а мильтон, – оправдываюсь я. – И сами первый спросили…
Из неведомого мне помещения, из-за двери с зарешёченным окошком доносится хохот. Надо мной потешаются.
– Дежурный отделения милиции Батуло, – поправляет меня мильтон и добавляет: – Бдительным ты обязан быть везде. Про то, где снаряды делают, – помалкивай. Усвоил? И мой совет: держись подальше от таких, как гражданка э-э-э… (он заглянул в протокол) Погорелова. Слушай свою мать. А деньги ваши вам народный суд вернёт.
Он меня удивил: почти слово в слово повторил мамино наставление. О послушании.
– Да он подзаборник! – неистовствует базарная торговка. – Никакой матери у него нету и не было! Щипач [42]42
Щипач – карманник (воровская феня).
[Закрыть]он, хапушник! [43]43
Хапушник – грабитель, действующий «на хапок», то есть выхватывающий вещь из рук владельца и скрывающийся от него бе́гом (феня).
[Закрыть]Блатарь! Заберите ево! Посадите! Он мне трамву нанёс зубами, подзаборник!
– Есть у меня мама, есть! – кричу я в ответ. – Хорошая! Это она мне деньги дала мыло купить. А ты обманщица! А ещё такая длинная выросла. И всё врёшь!
– Зинка, шимка, лярва [44]44
Лярва – бранное слово, оскорбление девушки или женщины (воровская феня).
[Закрыть]ты моя, куколка, откедова выпала? – весело осведомляется тот же насмешливый голос из-за частой решёточки, прикрытой ещё и дверцей, похоже железной. – Чеши сюда, ненаглядная ты моя профура! [45]45
Профура – проститутка (воровская феня).
[Закрыть]Поиграем в папки-мамки, захорошит тебя Зинуля. Рачком пристроисся. Ежели мало будет, пожиже разведём. Нас тут вон сколь… И у всех – столбняк.
Базарница будто не слышит ничего, повёртывается к окошку спиной. Зато дежурный решительно опять поднимается и плотно, со скрежетом затворяет на засов дверцу, которую почему-то назвал кормушкой.
– Вот что, парень, – нестерпимо жёстко глядя мне в глаза, произносит дежурный. – Отец твой под Сталинградом кровь проливает, мать работает денно и нощно, себя не щадит, а ты хулиганишь. О чём думаешь, парень? В колонию для малолеток хочешь попасть?
Молчу, опустив голову. Хоть бы сквозь пол провалиться.
Зато опять вмешивается горластая торговка.
– За фулиганку его надо зачалить, по семьдесят четвёртой, часть первая, гражданин начальник. Штобы знал, как на чесную деушку грабки подымать!
За решёткой раздаётся дружный хохот и улюлюканье. Для них, неведомых мне весельчаков, находящихся за дверью, наша беседа – потеха. Цирк!
– Зинка, ну курва, [46]46
Курва – женщина легкого поведения; курвануться – изменить мужу или отдаться любому (просторечное ругательство).
[Закрыть]ох уморила! Чесная деушка! Целка – во што бздит! Охо-хо, хэ-хэ! – продолжает изгаляться [47]47
Изгаляться – насмехаться (уличный жаргон).
[Закрыть]Мироедов. Значит, слышно всё и через дверцу кормушки.
– Ты чо меня, Мироед, закладываешь мусорам?! – ощеривается торговка, повернувшись-таки к окошку. – Думаешь, голоса твово не расчухала?
– Всем, – приказывает дежурный, – молчать! Не то в бокс переведу. Мироедов Борис, тебя предупреждаю! В последний раз.
В неведомой мне комнате, где заперты весельчаки, становится тихо. Стараюсь понять, что значит «в бокс переведу»? Тот, что в цирке?
Забегая впёред на семь лет, признаюсь, что мне в полной мере пришлось узнать «секрет» милицейского «бокса», при воспоминании о котором более чем через полвека от испытанного ужаса мурашки пробегают по спине. А тогда я точно вспомнил: Мироед – знакомая кличка. Так по-уличному Толяна Мироедова зовут из дома номер тридцать. По нашей же улице. Шпана. А отец его – старый большевик. В какой-то «тройке» работает. Нас, соседских пацанов, тростью понужает, если на пути встретит, – всех без разбора. Не братец ли Толянов, карманник, хохмит за дверью с зарешёченным окошком? Опять попался? Толян очень им задаётся. [48]48
Задаваться – хвастаться, гордиться (уличная феня).
[Закрыть]И пугает, если кто на него «потянет». [49]49
Тянуть – задираться (уличная феня).
[Закрыть]
Закончив заполнять протокол, дежурный наставляет меня:
– Иди домой и скажи, чтобы мать пришла в милицию. В седьмое отделение к дежурному Батуло. Я с ней побеседую.
– Письмо отдайте, – угрюмо говорю я и встаю. – И деньги тоже – сто семьдесят три рубля. Они у неё. Притырены.
– Возьми письмо. И не позорь больше родителей.
Он протягивает мне истёрханный треугольник.
– Я отсюда всё равно не уйду.
– Как – не уйдёшь? – дивится дежурный.
– Пусть мне эта тётенька мыло отдаст. За сто семьдесят три рубля. Или деньги. Они у нас последние. А до получки ещё далеко.
– Какие гро́ши? Свистит он всё, гнида! – вопит торговка. – У меня не копья, хочь обыщите. Сама – нищая! Сухой коркой перебиваюсь. С голодухи опухла.
– Гражданка… – дежурный заглядывает в протокол.
– Вертидыркина она, – продолжают озорничать в невидимую дверную щель.
– Так вот, гражданка Погорелова, Зинаида Васильевна, с вами мы разберёмся особо, – объявляет дежурный Батуло. – Присвоенное вами взыщем. И возвратим пострадавшим.
– Хрен вы што с меня получите, – огрызается, как её назвал дежурный, Зинаида Васильевна. – От хрена уши.
– Насчёт денег пусть придёт мать. Так ей и передай, Юра Рязанов.
Он уже не столь сурово смотрит на меня.
– Больше сюда не попадай! Ясно? Это место не для таких, как ты.
– До свидания, – говорю я машинально.
Молча выбираюсь из помещения милиции. Славик терпеливо поджидает меня на противоположной стороне улицы, на лавочке.
– Что тебе там рассказывали? – любопытствует он. – Тересно?
– Чего «тересного» [50]50
Уличный жаргон, мальчишеский (искаженное слово от «интересный»).
[Закрыть]могут в милиции сказать? Вот письмо папино отдали. А деньги эта баба захамила, фашистка. Сказали, чтобы мама за ними пришла. Эх ты… Испугался. Нюнить только умеешь. Струсил. А ещё на фронт хочешь, с немцами сражаться.
Журю я брата просто так, без злости. От обиды, что не отстоял своё, – ни денег, ни мыла.
– На фронте хорошо, – оправдывается Славка, – у всех немцев фашистские знаки. Их сразу видно: тр-р! – и всё – наповал!
…Я честно рассказал маме о происшествии. Но в седьмое отделение милиции она не пошла – некогда. Работала по полторы смены в сутки, и за её сверхурочный труд нам выдавали сухой паёк: крупу, суповые концентраты… Да ещё свои обеды приносила домой.
Я со стыдом подумал, что она решила пожертвовать деньгами, лишь бы не объяснять никому эту историю с ненастоящим мылом и моей дракой с базарной мошенницей. И мне, доверчивому и наивному, в будущем наука: мороковать надо прежде, чем решиться на что-то. Не поддаваться желаниям. А то Славку «воспитываю», а сам глупости совершаю. Отвечать же другим приходится. Маме. Своими кровными рублями. Несправедливо.
…Возвратившись домой, братишка долго корпел над самодельным альбомом, что-то старательно рисовал, макая химический карандаш в каплю слюны на столешнице.
Вечером заглядываю в скручивающиеся листы, сшитые из довоенных обоев с отпечатанными на них серебряной краской цветочными виньетками, – для достроя купили, очень красивые. Славка наслюнявленным химическим карандашом изобразил уродливого человечка – других он ещё не умеет рисовать – с квадратиком в руке, больше похожей на клешню. На груди человечка выведена жирная паучья свастика, в которую упирается трасса пуль, выпущенных из «Максима». На щитке пулемёта и стволе красуются звёзды. А на квадратике в руке уродца печатными буквами выведено: «МЫЛА». Причём «Ы» начертана неправильно: сначала палочка, а после мягкий знак петелькой в противоположенную сторону – влево.
Брат ещё не ходит в школу, а поглядывает в мои тетради, когда я над ними тружусь.
1960 год