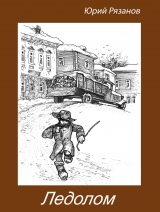
Текст книги "Ледолом"
Автор книги: Юрий Рязанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 48 страниц)
И я всё-таки после долгих отнекиваний сдвинул таинственную завесу – мама чуть-чуть приоткрыла прошлое. А то у всех есть дедушки и бабушки, а у меня их будто не было вовсе. Так же не может быть.
С большой неохотой мама сообщила, что дед мой по отцу был купцом. Вот почему бабка Герасимова выкрикнула мне однажды в ответ:
– А твой дед лошадником был!
Тогда слово «лошадник» я не понял, а у мамы спрашивать не решился. Подумал: лошадник – тот, кто на них ездит. Вроде кучера. С дедом по матери дело обстояло хуже. И опаснее. Он служил кондуктором царского поезда. После крушения стал инвалидом. На его пенсию и жила семья. В Петербурге. После свершения революции дед посчитал за благо перебраться в родное село Макарово, в Саратовскую губернию. И до него, похоже, не добралась ЧК. А мама и старшая её сестра доучивались в Саратове. Обе стали медиками. Мама закончила аж два факультета: санитарный и ветеринарный. По распределению её направлили в Семипалатинск, где молодая выпускница университета встретилась с высоким, стройным и, наверное, красивым Мишей, по фамилии Рязанов. Жил он там на широкую ногу, кутил. Осыпал её подарками и цветами, пропивая и прогуливая свою немалую долю отцовского наследства, – дед Алексей, кроме барыша от торговли лошадьми, имел в Челябинске несколько домов и, весьма пристрастный к спиртному, собственную пивную недалеко от Троицкого собора.
О грядущих нелёгких переменах в жизни деда предупредил местный большевик, его зять (освобождаясь из тюрем и возвращаясь из ссылок, он укрывался в одном из домов купца, сожительствуя с дочерью деда, тоже большевичкой и тоже с дореволюционным стажем, – Клавдией). И хотя жандармы во время одного из «эксов» прострелили боевику дяде Саше мошонку, и он навсегда остался инвалидом, тётя Клава не изменила ему, не бросила, не ушла к другому, здоровому, мужчине, потому что считала революционную деятельность важнее личных интересов, и семья не распалась. Жили они в гражданском браке, не венчались. Своё приданое она передала в кассу большевиков. Ни в бога, ни в чёрта молодожёны не верили. Верили они в коммунизм.
После революции дядя Саша трудился в ЧК, а его гражданская супруга вела массы в светлое будущее, став пропагандисткой великих идей. Закончилась их бурная революционная деятельность в тридцать восьмом – дядю Сашу «излечили» от недуга, нанесённого пулей жандарма, которая попала не туда, – выстрел в затылок «врагу народа» Александру Авдееву прекратил его беспощадную борбьу с «контрой» и «строительство коммунизма во всём мире». Расстреляли его такие же, как он, чекисты, а тёте Клаве повезло, её почему-то оставили в живых, но лишили всех должностей и званий. Она, вмиг состарившись и превратившись в молчунью и отшельницу, доживала свои дни в каменном доме на левой стороне Миасса, подрабатывая на жизнь домовой швеёй. Её я видел всего два-три раза, когда она перешивала нам со Славиком байковые стариковские штаны слоновых размеров – драгоценный подарок американских друзей, правда изрядно поношенные. Двое штаников попугаечьего цвета из них всё-таки получились. Тётя Клава мне своей угрюмостью не понравилась. Разговаривала со мной командирским, приказным тоном и нахмурив брови. Как будто я был в чём-то виновен. За время наших встреч на застывшем, словно одеревеневшем лице её ни разу не мелькнуло даже тени улыбки.
Мама (со слов отца) знала, что дядя Саша Авдеев некоторое время в восемнадцатом году году был комендантом арестованной царской семьи, но его сместили вскоре якобы «за слишком лояльное отношение» к узникам. Возможно, именно это припомнили ему сослуживцы и поставили к стенке. «Отблагодарили» за всё. А ведь он в дореволюционные годы постоянно получал деньги от тестя, своеобразную добровольную «дань» на революционные дела, – дед Алексей почему-то помогал большевикам.
Судьба мамы могла стать не менее печальной, если б «любопытные товарищи» докопались до факта с четырнадцатилетним братом, вступившим в добровольческую белую армию. Она даже имени его при мне не упомянула. Вступив в белую армию, он оказался вытесненным вместе с остатками её за границу. Нигде в официальных документах мама вообще не упоминала о нём. И даже год своего рождения сместила – из предосторожности на три года «помолодела». Когда я стал малость сведущ во всём произошедшем с Рязановыми и Костиными, что мне доверила мама, то понял, почему родители упорно помалкивали о своих семьях. Скрывали. Чтобы не оказаться среди репрессированных. И не моего ли дяди письма она, прочитав, тут же сжигала, оставляя без ответов.
Чудом и отцу удалось вырваться из «объятий» «энкавэдэшников». Рано или поздно «знакомство» с ними должно было состояться. Его встретил нечаянно на улице бывший работник деда Алексея, который никогда никому раньше не жаловался, что ему у Рязановых плохо живётся. Он, несколько от природы придурковатый, свою работу тем не менее освоил: подмести, поднести, отнести, принести. Звали его Гаврюшей. И вот тысяча девятьсот тридцать седьмой, встреча, задержание, НКВД… Помог «непролетарскому элементу» Мише Рязанову дядя Саша Авдеев, который знал его, вероятно, со дня рождения в тысяча девятьсот пятом году.
Дед, повторюсь, не знаю почему, часть дохода от торговли передавал дочери-большевичке, а уж от неё деньги перекочёвывали в партийную кассу. Успел-таки дядя Саша для Миши, Мишеньки, которого знал сызмальства, сделать доброе дело: младший сынишка купца Рязанова отбыл в тюрьме тридцать седьмой, а в следующем его вызволил дядя Саня. Мама рассказывала, что о тюремном следователе отец отзывался хорошо. Причина состояла в том, что он ещё в реальном училище овладел каллиграфическим, очень чётким и красивым почерком, и малограмотный следователь, ведший его и других «дела», доверял ему переписывать казённые бумаги и выполненной работой всегда оставался доволен. Писарский талант отца, вероятно, сыграл бы над ним злую шутку, если б Авдеев не вытребовал следственное «дело» и, по уверениям мамы, не уничтожил его. За сим последовало освобождение отца. А дяди Саши в том же, тридцать восьмом году, не стало. Но отца больше не забирали, и в соответствующую контору даже не вызывали. Однако страх в семье остался. Надолго. До самой кончины родителей.
А я, подросший, но ничего не ведающий, обижался на родителей, подозревал, что они вообще хотят скрыть, кем были мои предки. За что такое недоверие? А оно, оказывается, вон в чём. Я успокоился. И помалкивал. Вон Вовка Кудряшов, на что друг был закадычный, а ведь так и не назвал подлинную фамилию своего отца – умный пацан! Как ему там, в Ленинграде, живётся? Обещал письма присылать, да так, видать, и не собрался. А я скучал по нему. Единственный друг был. Игорёшка тоже, несомненно, друг, но подобной близости пониманий у нас не получилось – лишь интерес к книгам связывает нас. Ну и дружба, конечно.
С отцом вроде наши отношения, как он выразился, «ушамкались». Но не совсем. Я кожей чувствовал его прежнюю отчуждённость. Стасик, спокойный и послушный мальчик, был отцу чем-то ближе. Даже тон разговоров у него с младшим сыном слышался мне иным – более приветливым и шутливым. Со мной он не шутил никогда. А поскольку большую часть своего оклада отец тратил на «культурную жизнь», подражая своему начальству (купил двуствольное тульское ружье и всё снаряжение для воскресных «пикников» в лесу, регулярно устраиваемых этой компанией), я редко виделся с ним, а маме отдавал мизерную часть своего заработка. Но что значили мои гроши в семейном бюджете? Копейки…
В общем, в один далеко не прекрасный день я осознал себя опять лишним в семье. Как до ухода на ремонтный завод в коммуну. И ещё я почувствовал, что бытовое ярмо так же тяжело давит на плечи мамы. Надо было что-то предпринимать. Решительное. Что хоть немного освободило бы маму от домашней каторги.
Отец, по всей видимости, готовился вступить в партию, потому что вечерами, вместо просматривания «Челябинского рабочего» после ужина, перед впадением в сладкую дремоту с храпотцой раскрывал новенький том дешёвого издания «Краткого курса истории ВКП(б)» и тут же засыпал. Это его настропалил сослуживец и собутыльник майор Пахряев – для продвижения по службе. Но в партию он так и не вступил. Может быть, потому что опасался разоблачения своего «непролетарского» происхождения.
…И вот в один из дней, о котором я упомянул выше, отец этак спокойно заявил мне, что «хватит болтаться», а пора поступить в ФЗУ. После его окончания мне общежитие дадут. И я «капитальную» рабочую профессию обрету. Я понял всё. Он жаждал выписать меня из домовой книги. Вот почему я от него слышал несколько раз странные вопросы: не собираюсь ли в ближайшее время жениться? Поначалу я посчитал его вопросы шутками. Но он со мной никогда не шутил. Значит, он хотел предупредить делёж жилплощади в случае моей женитьбы. Вот что его беспокоило.
Но эти события произошли позже, летом сорок восьмого, о чём, собственно, и рассказ. Мне наконец-то исполнилось шестнадцать, и я получил паспорт.
…В то ранее утро, как всегда, чудесное, отец энергично выпроводил меня (а то я сразу вцепился в недочитанную в прошлое посещение книгу) к Фридману с сеткой обуви – не ему же, начальнику, стоптанные башмаки нести – позориться. Я охотно направился к дяде Лёве. Мне нравились беседы с ним. Не вынимая берёзовых шпилек или малюсеньких железных гвоздиков из почерневших зубов, как с равным, как с другими, взрослыми клиентами, он обстоятельно беседовал со мной об обуви, принесённой мною. Как и другие свободские ребята, я его уважал за такое, можно сказать, дружелюбное отношение к людям. Нет, он не унижался, не заискивал, зная свой физический недостаток, но, на уличном языке, «не залупался» – он знал, что делает нам добро и преподносил его как щедрый, от души, подарок. Повторю, что у самых дерзких и бесшабашных или дурных подростков – ни у кого! – язык ни разу не повернулся, чтобы прилепить великому мастеру обидную кличку, на что пацаны ох какие непревзойденные мастаки! Ведь редко кто из мелюзги и взрослых не носил метко приклеенный ярлык. А дядя Лёва оставался один просто дядей Лёвой. Уверен, что такое исключительное уважение никак не увязывалось с его сыновьями, хотя их, конечно же, многие боялись. Он был сам по себе – один.
Ради потехи приведу несколько примеров: высоченный нищий и сумасшедший со шрамом на голове по имени Вася, носил кличку Пердильник, а он был опасен, этот Вася; моего отца (за глаза, конечно) обозвали Гусём и Гусём Лапчатым – за гордую походку и за то, что он числился у шантрапы «начальником» (одевался в шикарную комсоставскую форму, но без погон). Дарье Александровне Малковой прилепили кличку Воровайка только потому, что узнали о её заведывании магазином; даже беднягу нищую старуху Каримовну и ту не обошли, прозвав Опайкой (с татарского языка вроде бы «девочка»). А ей уже лет девяносто, а то и все сто стукнуло! Шутники! Никого не щадили, ни во что никого не ставили уличные шкеты, [379]379
Шкет – уличный пацан, подрастающее поколение будущих преступников-профессионалов, малолетка (уличное понятие).
[Закрыть]всех, кроме себя. Они считали себя хозяевами улицы и тех, кто на ней жил, так называемых фраеров и фраерш, владельцев имущества, которое они должны обязательно, обязаны были украсть. Призваны судьбой, что ли.
– Почему? – спрашивал я.
– Так велел Володя Лысый. [380]380
Володя Лысый – Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (феня).
[Закрыть]Всё должно принадлежать народу. А што – мы не народ, што ли? Мы и есь народ.
Такую кличку они, оказавшиеся на дне общества, изгои его, дали Ленину, в их понимании – такому же блатарю, и мнили себя владельцами мира, разумеется всю это «философию» впитывая от взрослых носителей этой идеологии, из извращённо понятых революционных лозунгов прошлых лет. Позднее до меня дошло: россйский люмпен всё понял очень верно. И Сталину они приляпали кликуху: Хозяин. [381]381
Кличек у Сталина насчитывалось намного больше. Разных по содержанию – от нейтральных до ярких. Но все блатные признавали его своим, бывшим вором в законе.
[Закрыть]Обоих великих вождей подонки общества обожали, на полном серьёзе считали старшими блатными, «паханами».
Клички давали всем. Одного парня, жившего в угловом доме в конце правого квартала и с раннего детства страдавшего рахитом, беспощадно дразнили Глобусом. А он от рождения страдал болезнью, называемой водянкой головного мозга. Меня почему-то некоторое время кликали Китайцем, хотя, по-моему, с представителями желтолицей нации, как ни вглядывался в своё отражение в бабушкином зеркале, не находил сходства. Кое-кто носил и матерщинные кликухи. За что? Да просто так. Проявление обыденного хулиганства. Традиция тысяч лет существования так называемого преступного мира, о котором я тогда имел смутные представления. В самом же деле они были отходами общества, которое не желало заботиться о них, а карало. И только. Иначе не могло быть, ибо вся наша госсистема держалась на репрессиях.
А дядя Лёва так и оставался дядей Лёвой. Впрочем, чтобы не трогать его даже словом, имелись и другие обстоятельства.
…Так вот, в это изумительное – тогда почти все солнечные утра казались мне невыразимо прекрасными, обещавшими непременно что-то радостное, новое, неизведанное, давно ожидаемое, – в подобное раннее утро я заявился к великому чеботарю, таким словом называли всеобщего кумира местные обувовладельцы и посетители – заказчики. Явился я в самом лучшем расположении духа, насвистывая «Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы все для наслажденья». После сдачи обуви дядя Лёва ничего не записывал, он отличался изумительной памятью. Я намеревался увидеться с другом, таким же запойным книгочеем Игорёшей, и обсудить с ним самые последние «библиофильские» новости.
Я упомянул выше, что из десятков знакомых по улице нам пацанов – мы давно были знакомы между собой – никто из них не занимался чтением книг столь азартно, упорно и продолжительно, как мы. И регулярно приобретали новинки, тратя на них свои накопления. Поэтому частые встречи и беседы приносили нам весёлое удовлетворение – разрядку. Мы делились своими мыслями, соображениями, предположениями, «фантазиями». Фантазировал в основном я, друг вёл себя более сдержано. Может быть, потому что родной отец его, по национальности, как я упомянул, латыш, по воспоминаниям сына являл само спокойствие. Игорёк, обладая, вероятно, характером, полученным по наследству, и обидчиков братишки наказывал без злости, а во мне иногда вскипала восточная струя крови – ведь бабушка-то моя по отцу степнячка. Однако не помню, чтобы бабушка и мама повздорили, – мама всегда хвалила её за доброту и отзывчивость. И уважать старших нам, сыновьям своим, постоянно внушала. Но часто её мудрые слова не имели должного воздействия, если я улавливал несправедливость в словах или поступках взрослых. К дяде Лёве мы относились даже подобострастно за неизменную доброжелательность и честный труд – вот у кого следует учиться, каким быть в жизни. Труд – основное занятие, которое из обезьяны превратило нас в человека, повторял я часто школьную аксиому.
Разумеется, я верил в эту деревенскую нелепость, придуманную выжившим из ума стариком или приписываемую ему, и полагал, что дядя Лёва дальше всех нас (кроме мамы, разумеется) отстоит от нашего общего предка. И чем ленивее встречался мне человек, тем больше, по моему искреннему убеждению, в нём осталось от обезьяны и растеряно накопленного человеческого.
Человек, на то он и человек, чтобы творить, создавать. На потребность и радость другим и себе. Ранее я упомянул, что некоторые уличные сорванцы, которым на показуху никто не указ, может быть, они и стали бы глумиться надо дядей Лёвой – наплевать им на все его достоинства. Если бы не одно «но». Даже два «но». У многодетного дяди Лёвы имелся сын Аарон (все знавшие его мальчонкой продолжали называть Арончиком). Славился он на всю Свободу тем, что почти не вылезал из тюрьмы, и вся шантрапа безоговорочно признавала его вором в законе. В нашем, ребячьем, понимании вор в законе являлся как бы главным над всякими мазуриками в округе. Его боялись. И перед ним трепетали. И отчётливо представляли: если кто обидит несчастного уродца-папу, тому не жить.
Но банды дерзкого хулиганья оставались «храбрецами» до какой-то черты: над младшими, «домашняками» (детьми правильного домашнего воспитания), пожилыми людьми, которым не угнаться за проворными и быстроногими, отчаянными будущими «бомбилами», «громилами», «карманниками», «домушниками» и прочими «специалистами» подрастающего очередного поколения в завшивленных клоповых хибарах преступного мира. Это подрастало голодное шакалье, которое сменит тех, кто погиб в мясорубке «закрыток», концлагерей, будет зарезан, задавлен, застрелен… и снова «клоповники» поставят обществу новые поколения паразитов. Человеческий чертополох, сколько не вырывай его, вымахает ещё гуще и выше – пока есть почва, питающая его, – бездуховность, он будет плодоносить.
Уже летом сорок седьмого мы кое-кого не досчитались из свободской, ещё вчера сопливой, шпаны, их «зачалили». Пока по мелочам. Но вот вышел новый указ от четвёртого июня сорок седьмого года. Я ещё не ведал, что это такое. Не знал, что государству требуются новые рабы для «великих строек», великое множество рабов, чтобы на людских костях «строить всемирно-человеческое счастье». Как будто возможно руками и умом сделанных «по указу» несчастными людей сотворить кому-то счастье. Это абсурд. И это доказала всемирная история человечества. Всем доказала, но только не большевикам.
Выпустили на волю Исаака. Полумёртвого. Туберкулёзника. С одним сгнившим и поэтому удалённым (вырезанным) лёгким. А я не мог расшифровать слова «вор в законе». Как может существовать вор в законе, если закон его наказывает за содеянное зло? Тем не менее авторитетный вор в законе Исаак Фридман неожиданно появился на лавочке за домом номер семьдесят девять по улице Свободы. Утром. Цепляясь за доски заборов. Я ему помог дошкандылять до лавочки. А его место в концлагере занято достойными сменщиками и ни в чём неповинными недавними гражданами «Великой страны советов» – для выполнения плана. Госплана СССР.
Исаак был каким-то неприметным вором, не то, что брат его Аарон.
Аарон же славился тем, что, «выскакивая» из узилища, являлся перед всеми ни в каком-нибудь рваном бушлате или «зековской шкуре позорной», а всегда с иголочки одетый и обутый. Эффектное зрелище! На белоснежной шёлковой косоворотке, обязательно расстёгнутой (блатная шик-мода!), накинута коверкотовая «лепёха» (пиджак), брюки к нему, навыпуск (верх воровской моды!), на хромовые или лаковые «прохаря» (сапоги на вывернутом белоснежном «подряде»). Головки сапог сверкают на солнце, как в зеркале, отражая всё вокруг. В верхний карман «лепёхи» треугольником вставлен платочек, белее снега и с вышивкой – сердце, пронзённое стрелой. Буйную, чернущую, смоляную, кудрявую шевелюру залихватски прикрывает кепочка – восьмиклинка с малюсеньким козырьком – бостоновая! Обычно синего цвета.
Высокий (в маму, которую, напомню, звали тётей Басей, поначалу я думал – из-за её голоса-баса), статный, красивый, «чернявенький», как его, млея, называли алчные девицы, – они слетались во двор, как разноцветные бабочки, сразу же – и откуда только узнавали о появлении Арончика?
Аарон, на мой взгляд, не выделялся какой-то особой красотой, но у него на губах теплилась почти стеснительная очаровательная улыбка. На неё-то, думалось, и клевали влюбчивые и легкомысленные девчонки. Дурочки, как мне тогда, в тринадцать – пятнадцать лет мнилось. В то время мне ещё не пришлось испытать полное половое удовлетворение с женщиной – того, на что способны оторвы-девицы, о которых я наслышан от их хвастунов-любовников. Не о такой скотской «любви» я мечтал. Для меня в те времена существовала лишь одна девочка, для которой были открыты все шлюзы сокровищницы моей души, все мысли, помыслы, мечты, и я рвался к ней всем существом своим. Но она не ведала об этом. Хотя, надеялся, догадывалась. Если мои стихи дошли до неё и не подверглись уничтожению бдительной Дарьей Александровной.
Да не мог я в корявых, бездарных стишатах своих выразить и крохотной частицы чувств, испытываемых к Миле. Её скромность, кротость, необъяснимая чистота взгляда голубых улыбчатых глаз превращали меня почти в глухонемого. Я знал, что смешон со своей подавляющей всё моё существо любовью к этой девочке-подростку, за которую без раздумья отдал бы свою жизнь. Несколько попыток девчонок сблизиться со мной, «поэтом», закончились неуспехом. Я сам отдалился от них. Потому что убедился: моё стихоплётство не имеет ничего общего с истинной поэзией. И перестал наблюдать за Милиным окном, занавешенным прозрачными тюлевыми занавесками. И хотя эрекции мучили меня постоянно уже в четырнадцать лет, а по ночам случались нередко поллюции, я не мог перешагнуть невидимую грань запрета приближаться к Миле, и другую, преступив которую, я получил бы плотское удовлетворение от иной. Или, как говорили уличные подростки, мои сверстники, «перепихнуться» или «дурную кровь сбросить». И как ни противны были поллюции, приходилось терпеть.
Поэтому девицы, слетавшиеся к Арончику, а он мог «принять» их несколько за день, не вызывали во мне похотливых желаний. Среди них или их подружек, уверен, я мог найти себе подходящую девчонку и «склеить» её (на языке улицы) «на поебон» – тем более что в моём распоряжении имелась спальня – сарайка. Четно признаться, удерживало от «близких» знакомств и боязнь – опасался венерической заразы.
Однажды я рискнул «стать настоящим мужчиной», но не буду здесь обо всём рассказывать, ограничась лишь тем, что убедился, – Милу, какой я себе её создал, оказалось невозможно подменить никем другим. Она стала мне ещё дороже и… недоступнее. Я сам отдалил её на недосягаемое расстояние. И очень раскаивался о содеянном.
Но возвратимся к Аарону. Он действительно обладал особой привлекательностью. На его продолговатом лице с небольшим горбинкой-носом и безупречного очертания чуть припухлыми губами не только светилась манящая полуулыбка – глаза, большие карие глаза, опушённые длинными чёрными ресницами, как у младшей сестры его Розки, полагаю, стали омутом, в котором утонула ни одна девичья любовь. Улыбка Арончика, обнажавшая ровный ряд белых зубов, подсвечивалась «фиксой», и ни какой-нибудь дешёвенькой коронкой, выточенной из патрончика «мелкашки», а откованной из царского червонца. Фиксы в это время представляли блатной канон моды и статус носителя их. Каким же вором слыл Арончик? Карманником высшего класса. Пацаны, близкие к блатной «элите», говорили, что даже сами щипачи называли его «фокусником».
Не скрою, мне нравился Аарон, хотя был жуликом, в моём понимании – представителем позорной, несправедливой профессии. Такое двойное, противоположное восприятие, такие контрчувства испытывал я к Аарону Фридману, пожалуй самой яркой личности среди свободских блатных. Мне же он был просто интересен как необыкновенный человек. И я пытался его понять.
Когда он в конце концов попадался (никогда с поличным!), ему давали год или два. И всё повторялось, как спектакль на сцене театра.
Но однажды мне удалось наблюдать действо, которое в корне изменило «героический» облик Арончика.
…Возле сортира собралась хевра. Среди воров, а нам отличить их от других прочих было довольно просто, я не мог не заметить блистательного Аарона. О чём «шёл толковище» в «хевре», не знаю, нас близко не подпустили. Тем более в их разговоре месились феня и матерщина, да и далековато мы, пацаны, от них отстояли.
Но приказание «держись!», произнесённое Арончиком, все мы расслышали. Один из пяти-шести собравшихся «качать права», закинул обе руки за голову и сцепил пальцы на затылке. Арончик, стоявший к нам почти в фас, вынул из правого голенище сапожный «косой» нож и полоснул им крест-накрест по лицу «коллеги», державшего за головой сцеплённые в замок кисти рук.
Я невольно ойкнул, но на мой восклик никто не обратил внимания. С ужасом подумалось, Арончик перерезал несчастному горло!
Двое из компании моментально по-милицейски завернули порезанному руки за спину и повели через двор к проёму ворот.
Когда его проводили мимо нас, а мы скучились возле сеновала, то кровища густо залила светлую рубашку пострадавшего, а моментально удалившаяся через забор в соседний двор «хевра» не оставила после себя ничего, словно она никогда не появлялась, – только лужицу крови, мираж!
Порезанный плакал, всхлипывая. Арончик аккуратно, двумя пальцами, длинными и тонкими, как у пианистки Матильды Берх, вынул из наружного карманчика накинутой на плечи «лепёхи» кружевной платочек с вышитой надписью «лублу» и красного цвета сердечком в уголке, встряхнул его, брезгливо вытер бритвенной остроты лезвие, вновь засунул его за отворот голенища и, поднявшись на ступеньки сортира, открыл дверь и оаустил «марочку» [382]382
Марочка – носовой платок (феня).
[Закрыть]в «очко». [383]383
Подобный ритуал, точь-в-точь, мне пришлось увидеть в пятидесятом году в камере номер двадцать семь во время «опущения» в чём-то провинившегося заключённого. Правда, вместо орудия наказания был применён так называемый на воровской фене кожаный нож (см. рассказ «Опущение» в трилогии «В хорошем концлагере», книга третья «Опущение»).
[Закрыть]После он подошёл к рукомойнику жёлтой меди, висевшему на стенке тамбура над ведром, и тщательно вымыл руки. Будто чужую кровь можно смыть и остаться чистеньким.
Лицо Арончика светилось безмятежностью, словно бы ничего особенного и не произошло.
Лишь отец, не прерывавший ни на минуту работу, произнёс что-то на непонятном языке.
– Не надо нервничать, папа. Вы напрасно волнуетесь: ничего не было.
Лишь дорожка из потемневших под солнцем капель напомнила: всё-таки это произошло. И по-моему – страшное!
С тех пор я стал Аарона побаиваться, признаюсь честно. И симпатии к нему поубавилось.
А в то утро, в сорок седьмом, подойдя к дяде Лёве с сеткой стоптанной и рваненькой обуви, я наткнулся на Аарона. Меня пронизала, подобно лучу инженера Гарина, улыбка знаменитого карманника, который впервые в моей жизни обратился ко мне лично:
– Мальчик, я слышал: у тебя есть Есенин.
Откуда, от кого он мог узнать о моём сокровище, если, похоже, только чуть ли не вчера «выскочил» от «хозяина»?
– Будь добрый, доверь мне на время. Розка в тетрадку перепишет.
Видя мою нерешительность, добавил:
– Не бзди. Свою вещь получишь… через неделю. Или две. Слово вора.
Я всё же не решался расстаться с запавшей мне в душу книгой. Никому, даже на день, не собирался отдать сборник. Соображая, что ответить, молчал.
– Вижу, ты минжуешься. [384]384
Минжеваться – трусить, бояться, находиться в нерешительности. А вообще-то минжа – «влагалище» (феня).
[Закрыть]Не знаешь, пацан, что такое воровское слово. Оно твёрже финаря. [385]385
Финарь (финак) – финский нож (феня). В просторечии – финка.
[Закрыть]Знай. Ну лады, не веришь – не надо. Бери задаток. Сколько хочешь?
И он ловко извлёк из кармана отутюженных брюк пачку аккуратно сложенных банкнот. Мне показалось – отутюженных, как брюки. Тем же утюгом.
Аарон, чуть насмешливо наблюдал за мной.
Нет, я его не боялся. Знал, что он не вынет из-за сверкающего голенища бритвенной остроты сапожный нож и не перережет мне горло. Да и тому, несчастному «коллеге» по ремеслу, он, может быть, всего-то по щеке полоснул.
– Вот тебе гроши. Держи. Наша жись – в тумане: коротка и обкакана, как детская рубашка. Сёдня – живой, завтра – зажмурился. Поэтому не верь никому. Все люди – бляди, весь мир – бардак.
И он сунул мне в свободную ладонь вылощенные зелёные тройки и красные тридцатки, как фокусник, – развернув их в пальцах веером и снова сдвинув в пачку.
Где-то в подсознании у меня промелькнула догадка: краденые… А может, у дяди Лёвы взял? Всё равно Есенина не могу продать. Ни за сколько.
– Не надо, – вдруг твердо ответил я. – Дам на две недели. Так. [386]386
Так – даром (уличное слово).
[Закрыть]Я Вам верю.
– Почему в отказную идёшь? – с подозрением спросил он, и что-то угрожающее померещилось мне в тоне его голоса.
– Чужие деньги не беру в руки. И в долг – тоже.
У Аарона приподнялись стрельчатые воронёные брови. Его мой ответ, вероятно, удивил.
Он ловко врезал купюры, которые только что мне предлагал, в пачку и как бы небрежно засунул её в карман. Он демонстративно равнодушно, даже с явным оттенком презрения, относился к деньгам. Странно, что и я никогда не испытывал к ним тяги. Ни малейшей. Никогда. Всю жизнь.
Я же свои деньги всегда держал крепко в кулаке, чтобы не обронить, – они и матери, и мне трудом давались. [387]387
Но фетишем так никогда и не стали. Деньги я не брал и не беру в долг, найденные возвращаю владельцу или раздаю другим, незнакомым, людям. Эта привычка всегда спасала меня от бед. (2008 год.)
[Закрыть]
– Папа, примите у этого мальчика (а этому «мальчику» уже пятнадцать!), пожалуйста, его заказ. И сделайте без очереди. А он сбегает домой. Он напротив живёт, и принесёт книгу Серёжи Есенина. Мне, папа. Вы это можете оценить.
А меня сверлила мысль: как можно так легко искромсать лицо человеку, оставить его на всю жизнь уродом и быть вежливым, почти ласковым к другому? Хотя бы – к отцу. И ко мне. Ведь он ни разу не обмолвился со мной грубым словом. Но, оказывается, знал, где я живу и что у меня есть.
Молча положив обувь возле детского стульчика дяди Лёвы, недоумевал, насколько легко согласился дать самую любимую свою книгу в чужие руки. Но отступать или переиначивать – поздно. Не выполнить своё обещание, не сдержать слово – позор. Этого я не мог допустить.
– Что, уже сдал? Так быстро? – удивилась мама.
– С утра народу мало, – отговарился я, – сейчас вернусь, книжку занесу. Пообещал.
– Кому? Сапожнику? – ещё больше удивилась она.
– Нет, Игорю, – бессовестно обманул я маму.
– Потом унесёшь. Не к спеху. Сейчас воды принеси.
– Вот по пути и принесу, – выкрутился я.
И про себя в тысячный раз отметил: стыдно маму обманывать. Но не открыть же ей правды – она тут с ума сойдёт: пошёл в «неблагополучный» барак, да ещё к кому! По её понятиям, Аарон тут же научит меня по карманам шарить. Даже мама от соседок наслышана, кто такой Арончик. И я решил, что поступил правильно, скрыв, кому предназначена книга, которую извлёк из-под подушки. Вообще-то маму мало интересовало моё книжное собирательство, это лучше, рассуждала она, чем с «плохими» мальчишками знаться.
В разговоре с отцом, который неодобрительно относился к приобретению мною литературы на копейки и рубли, добываемые в пунктах приёма макулатуры, стеклотары и металлолома, а теперь из своего мизерного заработка. («В бюджет, в семью отдавал бы, чем тратить на всякую ерунду», – однажды заявил он мне, хотя охотно читал «на сон грядущий» мои книги, особенно часто «Бравого солдата Швейка».) Мама в сердцах вставила:
– Перестань, Миша. Постыдился бы. Он тебя не объедает.
И ушла на кухню. Потом я долго размышлял над услышанным. И жалел маму. Если те копеечные сбережения я стал бы отдавать маме, она расходовала бы их на еду. А гурманом в семье всегда был один человек – отец. В его желудок попали бы вкусности, купленные на мои заработанные крохи. [388]388
Так, или почти так, случилось после «мобилизации меня по указу от 04.06.1947 года» на «стройки коммунизма» – часть собранных мною книг отец продал, чтобы купить Славке велосипед. У него не нашлось необходимой суммы на приобретение младшему сыну, вероятно, понадобившееся ему средство передвижения. А после гибели брата – продал этот «велик». Сомневаюсь, что он отдал деньги маме.
[Закрыть]В виде водки, по его выражению, «под хороший закусон».
Прихватив ведра, я направился к Фридманам. Заодно и по воду, к колонке.
– А я подумал, что ты двинул динамо, мальчик, – объявил Арончик, поджидавший меня.
– Я своё слово держу, – не без гордости заявил я. – И я не мальчик, дядя Аарон. Меня звать Юра. Георгий, точнее.
Слушая меня, Арончик снисходительно улыбался и одновременно разглядывал томик.
– Это всё? – недоверчиво спросил он.
– Что – всё? – не понял я.








