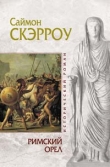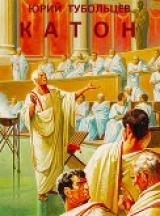
Текст книги "Катон (СИ)"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 50 страниц)
Множество раз враги Катона в курии и на форуме пытались смутить его и вывести из равновесия, но это им никогда не удавалось. И вот теперь, когда он, закончив ратный труд на поле битвы за Республику, снял с себя железные латы воли и сделался уязвимым для обид и страстей, как всякий человек, ему пришлось снова воевать, причем по ничтожному поводу да еще со своими домочадцами. Сознавая унизительность такого положения, Марк приходил в ярость, и когда, наконец, появились рабы, которые опять пытались отмолчаться в ответ на его гнев, он ударил самого упорного молчуна в лицо. Всю свою злость, накопившуюся за долгую, кишевшую врагами, как грязный чулан – тараканами, жизнь, он вложил в этот удар и разбил правую руку в кровь. Раб уполз прочь, и о нем более никто, кроме Катона, не вспоминал. А Марк продолжал кричать и размахивать руками, разбрызгивая кровь по стенам комнаты. Наконец вбежал сын и со слезами на глазах бросился успокаивать отца. Он еще во время обеда, услышав пространную речь родителя, все понял и выкрал его меч. Катон отстранил сына и, припечатав его к стене грозным взором, резко спросил:
– Где и когда меня уличили в безумии? Почему со мною никто не разговаривает? Почему от меня прячут острые предметы? Если кого-то что-то не устраивает в моих намерениях, пусть меня попробуют разубедить, но не препятствуют мне следовать своим правилам, отбирая оружие!
– Разве тебе возразишь? – неуверенно оправдался молодой человек, – ты тремя словами любого обезоружишь.
– Что же ты, милейший, делаешь? – с прежней строгостью говорил Катон. – Ты еще вдобавок свяжи отца, скрути ему за спиною руки, чтобы, когда придет Цезарь, я уже и сопротивляться не мог! Да, сопротивляться, ибо против себя самого мне не нужно меча – я могу умереть, задержав дыхание или размозжив себе голову о стену.
Сын зажал лицо руками и выбежал из комнаты, следом вышли и другие. Остались лишь философы Деметрий и Аполлонид. Катон ожидающе посмотрел на них, и глаза его сверкнули гневом. Греки потупились, но продолжали сидеть. Катон собрался закричать и на них, но вместо этого вдруг усмехнулся. Искренним сочувствием эти люди сняли с него психологический груз переживаний, и его настроение изменилось.
– Неужели и вы думаете силой удерживать среди живых человека в таких летах, как мои, и караулить меня, молча сидя рядом? Или вы принесли доводы и доказательства, что Катону не стыдно ждать спасенья от врага? Может быть, вы попытаетесь внушить мне, чтобы я отбросил убеждения и взгляды, с которыми прожил целую жизнь, и позаимствовал некой новой мудрости у Цезаря?
Понурым видом греки признали безосновательность своей позиции, но оставались на прежних местах. Они не могли расстаться с Катоном, потому что их тянуло к нему, как любой человек в затхлом подвале тянется к окну в потолке, дарящему свет и глоток чистого воздуха.
Катон понял состояние друзей и растрогался. Хорошо было читать на пергаменте: "Я не испытывал жалости, потому что он казался мне счастливым человеком". Но жизнь – не книга, и наяву все по-другому.
– При всем том, – примиряющим тоном сказал Марк, – я еще не знаю, как мне с собою быть, но, когда приму решение, должен иметь силу и средства его исполнить. Решать же я буду в какой-то мере вместе с вами, то есть, сообразуясь с тою философией, которой держитесь и вы. Итак, будьте спокойны, ступайте и внушите моему сыну, чтобы он, не умея уговорить отца, не прибегал к принуждению.
Деметрий и Аполлонид все так же молча вышли, а через некоторое время раб принес меч. Катон вынул его из ножен и внимательно осмотрел. Убедившись, что все в порядке: острие цело и лезвие заточено – он сказал: "Ну, теперь я сам себе хозяин", – и, водворив меч на его законное место на стене, вернулся к ложу со свитком Платона.
"Я-то, видимо, сегодня отхожу – так велят афиняне", – прочитал Марк фразу Сократа и задумался. Он почувствовал эти слова кожей, каждой клеткой и каждым нервом, всем своим существом, и они напитали его вселенским покоем.
Затем следовали рассуждения о благе смерти, но недозволенности само-убийства, слишком формальные, чтобы реалистичный римлянин принял их всерьез. "Однако ко мне это вообще не относится, – подумал Катон, – я не самоубийца. Наоборот, я до последнего нес груз жизни и, между прочим, не гнулся под ним, как некоторые. Если же теперь я остановился, то лишь потому, что далее некуда идти. Я проделал весь путь, моя жизнь более не вмещается в этом мире".
"Знайте и помните, это я утверждаю без колебаний, – говорил далее Сократ, – что я отойду к умершим, которые лучше живых, тех, что здесь, на Земле, я предстану перед богами, самыми добрыми из владык". Однако едва Сократ начал раскручивать виражи философских рассуждений о потустороннем мире, который для него означал торжество души, избавившейся от тела, как его предупредили, что оживленный разговор мешает усвоению яда и может так статься, что придется пить отраву два или даже три раза.
"Ну и пусть, – отмахнулся Сократ, – лишь бы палач делал свое дело и давал мне яду и два, и три раза".
Катон улыбнулся. Ради дела он тоже готов принять смерть многократно.
"Философ всю жизнь совершенствует душу и подавляет низменные потребности тела, – утверждал Сократ, – а смерть и есть отделение души от тела", – то есть она является идеальной целью философа.
Катон, будучи римлянином, представителем цивилизации, великой своим гражданским духом, не очень-то верил в обособленность души от земной жизни. Платон полагал, что разумом мы постигаем чистую идею, суть всех вещей и процессов, каковые являются лишь слепками с божественной формулы, а чувственное восприятие только искажает картину мира. Но Катон отдавал себе отчет в том, что его душа взята не с небес, а соткана из тысяч подвигов, страданий и доблестей римского народа. Так и должен был понимать суть вопроса стоик, поскольку эта философия утверждает, что все в мире от мала до велика пронизано космической душой. Он не верил в возможность отделения души от тела, но все-таки надеялся в каком-то виде сохраниться в мире. Продолжить же свое существование за пределами жизни он мог только так, как вели посмертное бытие его предшественники, которые наполнили своими мыслями, чувствами и делами душу самого Катона. Поэтому он всегда и жил так, чтобы своею жизнью одухотворить потомков.
Тем не менее, рассуждения Платона, вложенные им в уста Сократа, радовали Катона игрою мысли, богатством образов, наблюдений и обобщений.
"Малого стоит воздержание от телесного удовольствия ради сохранения возможности получать еще большие удовольствия в будущем, воздержание от дурного ради худшего, – читал Катон и причмокивал от одобрения, – нет смысла разменивать их одно на другое такое же, словно монеты. Есть лишь одна правильная монета – разумение, лишь в обмен на нее следует все отдавать, лишь в этом случае будут неподдельны и мужество, и справедливость".
Возвысив душу саму по себе, Платон, естественно, приступил к обоснова-нию возможности ее автономного существования. Его доказательства были не столько убедительны, сколько величественны, утверждая о бессмертии души, они и воздействовали в первую очередь на душу, как бы призывая ее восторжествовать над смертью. Впечатление от них было таким сильным, что даже у Катона зародилась некоторая надежда вознестись в высший мир, где "в храмах обитают сами боги". Однако "верно ли я старался и чего достиг, можно узнать точно, лишь сошедши в Аид", – говорит философ. Каждому, увы, приходится самостоятельно решать задачу о сошествии в загробный мир.
"Ну пора мне, пожалуй, и мыться: я думаю, лучше выпить яд после мытья и избавить женщин от хлопот, – сказал Сократ, закончив теорию, – не надо будет обмывать мертвое тело".
"Как хорошо, что я вовремя сходил в баню", – с удовольствием подумал Катон и в подробностях вспомнил тот предвечерний час, когда он принимал ванну, казавшийся ему теперь неизмеримо далеким.
"А как нам тебя похоронить?" – спросил Сократа один из его собеседников. Сократ высмеял нерадивого ученика, который так и не понял, что хоронить он будет лишь тело философа, но никак не его самого. Однако для Катона этот вопрос не был праздным. С римским почитанием мертвых он не мог не сожалеть о том, что его прах останется в Африке. С горечью подумав об этом, Марк представил себе Рим с его холмами, храмами, трущобами и почти круглосуточным гамом на площадях и улицах. "Более всего в Риме умирают от невозможности выспаться из-за шума", – писал позднее Сенека. Катона тоже раздражал нескончаемый гвалт простолюдинов и праздной аристократической молодежи, однако в тот момент он готов был отдать половину жизни, если бы она у него была, за то, чтобы на несколько мгновений окунуться в суету форума. Воспоминание о родине оказалось настолько острым, что сердце защемило, как от раны, и Марк снова взялся за трактат Платона, прибегнув к нему как к самому действенному средству для ус-покоения души.
На одном дыхании Катон еще раз перечитал книгу.
"Таков был конец нашего друга, человека – мы вправе это сказать – самого лучшего из всех, кого нам довелось узнать на нашем веку, да и вообще самого разумного и самого справедливого", – дочитал он и положил свиток на полку. Там же лежали еще с полсотни его любимых книг, путешествовавших с ним по миру. Он с сожалением посмотрел на них, провел рукою по полке и решительно погасил светильник.
Очень скоро по всему дому уже раздавался его храп, возвещая о победе стоического духа над земными страстями.
Около полуночи Катон проснулся и позвал двух вольноотпущенников, которые, получив свободу, добровольно остались при нем. Одного он послал к морю, чтобы узнать, все ли, кто хотел, отплыли, а другому дал перевязать руку, распухшую от удара, нанесенного слуге. Все в доме всполошились от радости, полагая, что Катон решил остаться в живых. Однако никого более Марк к себе не впускал. Он в одиночестве дожидался возвращения из порта своего посланца. Вернувшись, тот сообщил, что на корабль вот-вот взойдет последний путник, все будто бы нормально, только ветер начал крепчать. Марк представил себе море, ночь, ветер и поиски судьбы во тьме неведомого будущего. У него вырвался тяжелый вздох о тех, кто вынужден продолжать свой путь и заботиться о завтрашнем дне. Как много завтра отнимает у сегодня! Насколько ярче видится мир настоящего, когда нет будущего! Мы жаждем будущего, как будто оно соткано из особых нитей времени, и ткем свою жизнь наспех, надеясь, что судьба вот-вот преподнесет нам в дар золотую нить, которая украсит полотно жизни незабываемым узором, и ждем чуда, пока нить не оборвется...
– Нет, Бут, ты знаешь, я не люблю незавершенности, – обратился Катон к вольноотпущеннику, – прошу тебя, еще разок сходи в порт и дождись, когда эвакуация полностью закончится. Тогда сообщи мне. Но даром времени не теряй, я буду ждать.
Бут ушел, а Катон продолжал сидеть в ночной тишине, как никогда объемной и многозначной. Эта тишина для него была наполнена хором голосов, словно необозримый Космос уже вел с ним беззвучный диалог о вечности.
Вдруг звонкое безмолвие пронзил крик петуха. Жизнь ворвалась под ночной полог смерти и всколыхнула душу Катона. "В последний раз... – подумал Марк, – в последний раз я слышу этого предвестника утра".
"В последний раз..." – самые страшные слова для всего живого, поскольку означают остановку, тогда как сама жизнь – движенье. Однако для каждого человека все привычное когда-нибудь происходит в последний раз, более того, вообще все, что происходит, происходит в первый и последний раз, и смерть овладевает живым организмом постепенно, мгновенье за мгновеньем. Когда же приходит пора испустить последний вздох, чаша жизни оказывается уже пустой, лишь на самом дне слезою блестит ее последняя капля.
Все это было известно стоикам. В течение многих лет они упражнялись в подобных рассуждениях, чтобы не потерять равновесие в тот час, когда земля уйдет у них из-под ног, а небо еще не откроет им свои врата.
В последний раз... Катон подумал, что через несколько часов наступит утро, на первый взгляд такое, как и другие, только его самого уже не будет, взойдет солнце, только он его не увидит. Крик петуха замутил его душу, поднял в ней осадок нереализованных жизненных сил, и в своем круговороте они одурманили его разум. Стоит ему на мгновенье перестать быть Катоном, изменить принятое решение или хотя бы отложить его, и он... увидит утро и зеленую траву...
"Один день мудрого человека длиннее самой долгой жизни профана", – процитировал Катон стоическое изречение. – А я прожил отличный день. В нем были и труды на благо сограждан, и дружеская беседа, и философский диспут, и баня... Да, я должен быть чист от колебаний и сомнений".
Снова пропел петух, и на этот раз его оптимистичный клич подхватили собратья. В груди у Марка, прорвавшись сквозь броню холодных рассуждений, забил горячий источник жизни. С калейдоскопической быстротой в мозгу понеслись воспоминания детства и молодости – периода, когда он еще надеялся, что жизнь ему друг, а не враг. Жизнь, расцвеченная красками надежды – феерическое зрелище. Однако оно уже не принадлежало ему даже как воспоминание. Незримая преграда отделила его от каких-либо проявлений жизни. Минувшие события смешивались друг с другом, преодолевая годы и десятилетия, скрещивались с настоящим, создавая удивительные миры, потом распадались на части и слагали новые узоры. Но Марк наблюдал эти импровизации на теми собственной судьбы словно через стекло. У него уже не было ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Видя себя маленьким мальчиком, столкнувшимся на бегу со смешливой, сияющей, как маленькое солнышко, девочкой; подростком, сжимающим кулаки при встрече с всесильным диктатором, обрекшим на дрожь полмира; молодым сенатором, извергающим гневную речь против Катилины; сорокасемилетним старцем, со сверхусилием штурмующим пустыню, – видя себя там, по ту сторону пре-грады, он испытывал жалость и боль за того человека, который когда-то был им самим, он чувствовал себя виноватым за то, что ничем не может помочь ему.
Теперь знание, даруемое предсмертным часом, вознесло его на вершину, и он смотрел на свою жизнь, словно с горы, единым взором охватывая все ее поля, леса, овраги, реки, холмы и дороги, но все это было недосягаемо далеко и с каждым мгновеньем становилось все дальше, потому что невидимые силы уносили его в небеса. В головокружительном полете земная панорама вертелась перед ним быстрее и быстрее, постепенно сливаясь в одно пятно, все жизненные пути сходились в точку. Пространства более не оставалось, время кончилось.
"Это душа мечется от страха, – отметил Катон, с беспристрастностью ис-следователя наблюдая собственные переживания. – Моей душе нечего бояться небесного суда. Я сделал все, что мог, и, если результат столь плачевен, в том нет моей вины: насильно человечество не спасешь. Значит, она боится самой смерти. Судя по всему, там ничего нет. А потому надо сохранить свою жизнь здесь. Надо завершить жизнь так, чтобы она навечно осталась в этом мире, среди живых людей".
Итог подведен, все, что требовало внимания, им обдумано и дальнейшее движение мысли могло привести лишь к новым душевным метаниям, поэтому Катон усилием воли подавил размышления и воспоминания и погрузился в дрему.
Пришел Бут и доложил, что все, кто желал, благополучно отплыли из Утики. Никто не возвращался, и, несмотря на ветер, условия для морского путешествия приемлемые. Марк поблагодарил его и велел уходить, сделав вид, будто укладывается спать. Однако, едва тот вышел, Катон встал и взял меч. "Ну, теперь все в порядке", – сказал он и вонзил клинок в живот, все свои жизненные силы вложив в этот стремительный рывок к смерти. Слепящая боль в теле озарила обретшую покой в исполнении долга душу.
Прошло несколько мгновений, и человеческой воли уже недоставало для обуздания физических мук, а смерть медлила с тем, чтобы набросить на эти страдания спасительное покрывало бесчувствия.
"О, судьба-злодейка! – вскрикнул Катон. – Всю жизнь ты пытала мой нрав, препятствуя любым моим начинаниям, вредила во всем, используя свою трансцендентную силу. А теперь перечишь мне и в этом, последнем деле! Но, если ты и в этот час не хочешь оставить меня в покое, значит, понимаешь, что так и не сумела одолеть Катона! Ты не позволила мне победить, но и сама не победила, а потому наш спор продолжит вечность!"
Ведя этот диалог с самым ненавистным и упорным своим врагом, Катон продержался еще какое-то время, потом терпение кончилось, и он стал метаться на ложе и корчиться от боли. В муках он свалился на пол и покатился по комнате. Шум услышали в доме, прибежал сын, а с ним и все, кто окружал Катона в последний день его жизни. Причитая, ахая и обливаясь слезами, они уложили Катона на кровать, врач вправил ему внутренности и зашил рану.
Марк жестом показал, что все в порядке и сделал знак всем удалиться. С некоторой заминкой его приказ был исполнен. Однако, уходя, сын унес окровавленный меч, а слуги забрали прочие острые предметы, хоть сколько-то годные для того, чтобы причинить вред телу.
Боль не утихала ни на мгновенье и могло бы показаться, что она даже усиливается, если бы это было возможно. Он никогда не думал, что у него такое большое, просто необъятное тело, способное вместить целую бездну боли.
"Ну что ж, отлично, – сказал Марк, – судьба предоставила мне шанс еще раз побыть Катоном. Неужели она думает, будто эти физические страдания мучительнее, чем созерцание поля боя под Диррахием, чем "Фарсал", чем расставанье с Римом?"
"Впрочем, я сам виноват, – перебил он свои размышления, – удар оказался неверен из-за того, что я разбил руку. Вот какова цена вспышки гнева, несдержанности. Раз в жизни я потерял самоконтроль, обидел человека, пусть даже раба, и вот расплата. Поделом мне..."
"Только бы не потерять сознание, – вдруг забеспокоился Марк, – надо торопиться и что-то предпринимать".
Он, сколько позволяли его возможности раненого, посмотрел по сторонам и не нашел ничего подходящего для исполнения своей цели.
"Ну что ж, пусть будет так, – сказал он и, собрав силы для последнего вздоха, тоном судьи, объявляющего приговор, произнес: – Трепещите тираны всех будущих веков при имени моем! Знайте, что какое бы множество людей вы ни обратили в рабство, Катоны вам неподвластны!"
Он вонзил пальцы в рану, разодрал живот и в том же порыве рванул скользкие внутренности наружу, чтобы никакой врач не смог вернуть их на место.
Силы покинули его, сознание стало затухать на фоне все разрастающегося огненного пятна боли.
"Теперь можно, – прошептал он, – дело сделано".
31 марта 2002 г.
П О М П Е Й Ц Е З А Р Ь Ц Е З А Р Ь Ц Е З А Р Ь Ц И Ц Е Р О Н