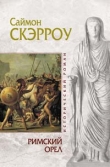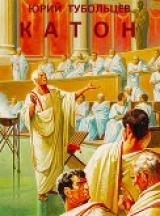
Текст книги "Катон (СИ)"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 50 страниц)
Но даже этого совета римляне не выполнили. Помпея все называли главнокомандующим, но диктатором его не назначили, формально он оставался проконсулом среди других проконсулов и консулов. Кроме того, вокруг событий толпилось множество консуляриев, цензориев, всевозможных жрецов, богачей – людей, в основном абсолютно неспособных к деятельности в экстремальной обстановке, но благодаря апломбу и риторическому образованию умеющих усугубить ситуацию и сделать неразрешимой любую проблему. Помпей вынужден был уважительно обращаться с этой публикой и облекать свои приказы в форму просьб и советов, что не способствовало оперативности управления. Эти консулы и проконсулы вяло исполняли его распоряжения, но резво обсуждали их. А некоторые позволяли себе еще и импровизировать. Первым на этом поприще показал себя Луций Домиций Агенобарб. Помпей послал его в город Корфиний, чтобы до прибытия врага вывести оттуда несколько тысяч новобранцев. Но Домиций возжелал стать героем, а потому вступил в бой. В результате, он потерял всех людей, которые большей частью перешли к Цезарю, а сам попал к нему в плен.
Помпей привык вести войну обстоятельно. Его стратегический и организаторский таланты позволяли ему сразу охватывать своими операциями несколько стран и задействовать многие армии. Однако он должен был располагать войсками, деньгами, временем и абсолютной властью. Ни одно из этих условий не выполнялось, поэтому Помпей походил на океанское судно, застрявшее в пруду. Очень плохо он чувствовал себя и в моральном смысле. Ему никак не удавалось настроиться на войну с тем, с кем еще совсем недавно состоял в родстве и к кому относился как к другу. Он был разочарован одновременно и в нем, и в себе, а также в сенаторах, еще вчера агрессивных и жаждавших войны, а сегодня впавших в панику и во всех бедах винивших его одного.
Когда Цезарь стремительно двинулся на Рим, сенаторы поняли, что стре-лять в его полуварварское войско речами проку не будет, а другим оружием они не располагали. Столица, как и вся Италия, оказалась незащищенной. Два легиона, полученные от Цезаря для парфянского похода, посылать в бой против их недавнего чрезвычайно щедрого императора не следовало, потому Помпей отошел с ними на юг Италии. Вновь набираемые рекруты тут же разбегались. Боеспособного войска у Республики не было. Правда, консулы и проконсулы, гордо выпячивая грудь и грозно шурша фасцами, заявляли, что с малыми силами, которые находились тогда при Цезаре, можно справиться и с одними новобранцами, но Помпей имел иное мнение. Он знал, что из Галлии по разным дорогам скорым маршем движутся в Италию победоносные легионы, способные в одночасье растерзать любого противника. Ему было ясно, что в считанные дни армия Цезаря достигнет гигантской, по римским масштабам, величины, а потому, отбросив тактику, перешел к стратегии. Однако спорить с сенатским окружением было бесполезно. Когда он попробовал указать на недостаток сил, Фавоний, напоминая о его хвастливом высказывании, предложил ему топнуть ногою, дабы вызвать войска из-под земли. Помпей же в ответ на подобные насмешки сенаторов говорил, что они получат войска, если последуют за ним и не побоятся оставить Рим, а коли потребуется, то и Италию, подобно тому, как некогда афиняне не побоялись оставить свою Родину Ксерксу, чтобы потом возвратиться туда с победой. "Не поместья и дворцы являются славой мужей, а доблесть, которая в конечном итоге вернет им все утраченное", – утверждал он.
Стратегический план Помпея предусматривал отход основных сил в Македонию, чтобы держать под контролем Восток с его огромными ресурсами. На Западе, то есть в Испании, у Помпея было семь боеспособных легионов. Морем тоже владели республиканцы. В распоряжении Цезаря в этом случае оказались бы только Галлия и Италия. Однако Италия экономически зависела от других стран Средиземноморья и, будучи отрезанной от них, очень скоро стала бы для Цезаря не подспорьем, а тяжелой обузой. Сформировав войско из контингентов восточных провинций, Помпей намеревался одновременно ударить на Галлию из Иллирии и Испании, чтобы лишить противника его главного плацдарма, а потом взять в осаду Италию.
6
Вторжение Цезаря стало серьезным экзаменом для римлян. Подобно тому, как в математике исследуют функцию через ее экстремумы, судьба пытает людей бедами или счастьем, а кризис государства дает оценку целому народу и его отдельным классам и слоям. Война расколола общество по многим граням. Разверзлась пропасть и между поколениями. Квинт Гортензий, сын знаменитого оратора, аристократа и оптимата оказался в лагере Цезаря. Там же был молодой зять Цицерона Корнелий Долабелла. Заигрывал с Цезарем и сын Цицерона, а ученик философа и оратора, его друг и последователь в мирное время Марк Целий Руф с началом войны сделался врагом. Двойная мораль молодых римлян, эта трещина души, лишающая личность цельности, наглядно проступала в поступках и словах Целия. Накануне войны он писал Цицерону: «При внутренних разногласиях, пока борются как граждане, без применения оружия, люди должны придерживаться более честной стороны, как только дело дошло до войны и похода – более сильной и признавать лучшим то, что безопаснее, – а в конце добавляет, – только было бы дос-таточно времени для оценки сил и того и другого и для выбора стороны». Целий успел сориентироваться и сбежал к Цезарю. В тот раз двойная мораль позволила ему выгадать и уцелеть, но через несколько лет все обернулось по-другому. Увы, будучи типичным представителем переходной эпохи, Целий не сумел полностью избавиться от совести и чести, мораль старика Цицерона засела в складках его души и в неподходящий момент выглянула наружу: он неосторожно высказал господину собственное мнение, ослушался его и за это принял от него смерть вместе со своими единомышленниками. Так он заплатил за постижение истины, гласящей, что даже сытое рабство – не более чем рабство, а самый добрый, милосердный и щедрый господин – всего лишь господин.
Цицерон же сразу заявил, что предпочитает погибнуть с честными, нежели победить с негодяями. Кроме того, он уже тогда понимал сам и разъяснял друзьям, что победить с Цезарем – значит, стать рабом.
Два – три года назад Цицерон искренне восхищался Цезарем, его победами, "Записками о Галльской войне", а также квалифицированным вниманием, которое великий полководец уделил трудам великого оратора. Но теперь Цицерон убедился, что таланты еще не составляют личности. Оценивая Цезаря как личность, он писал: "О безумный и жалкий человек, который никогда не ведал даже тени прекрасного! Я предпочел бы один раз погреться с другом на солнце, чем обладать всеми царствами в этом роде, или лучше умереть тысячу раз, чем однажды задумать что-либо подобное".
Эмоции кипели в душах почти всех сенаторов. Однако эмоции эмоциями, а ситуация требовала действий. Цицерон тогда писал: "Никогда государство не было в такой опасности, никогда у бесчестных граждан не было более подготовленного полководца". Поэтому, бросая словесные громы и молнии, аристократы спешно собирали свой скарб, садились на повозки и катили к Помпею. Некоторые уезжали из Рима вместе с семьями.
Когда Цезарь, победив римлян без единого сражения, вторгся в столицу и созвал сенат, его повелительному взору предстали лишь трибуниции да эдилиции с кое-где вкрапленными в эту серую массу преториями. Из консуляров присутствовали только двое: соперник Катона на выборах Сервий Сульпиций и тесть императора Кальпурний Пизон – да и с теми Цезарь вскоре поссорился и изгнал их прочь.
Цезарь вообще не уживался с большими личностями – обычная участь апологетов индивидуализма. В отношениях с соратниками он отличался от Ганнибала и Александра только лицемерием. Цезарь окружал себя исполнителями. Таковыми были либо добросовестные посредственности, либо лихие авантюристы, чья порочность заведомо ставила их ниже вождя, либо талантливая молодежь, которая, подрастая, вступала в конфликт с учителем.
Самой заметной личностью в штабе Цезаря был Тит Атий Лабиен. Этот человек из незнатного рода был ярым популяром и участвовал чуть ли не во всех авантюрах Цезаря. Вместе они расшатывали устои Республики, вместе побеждали галлов и вместе достигли вершины. В Галлии Лабиен всегда проводил самостоятельные боевые операции, либо командуя флангом в войске Цезаря, либо во главе нескольких легионов совершая марш-броски и вступая в сражения. Император доверял ему абсолютно и был прав: Лабиен выиграл все свои битвы. Имея от него большую выгоду, Цезарь и сам был щедр к нему. Лабиен чудовищно разбогател, но к разочарованию повелителя Титу этого оказалось недостаточно. Он не измерялся деньгами, и, когда Цезарь в открытую пошел войною против государства, Тит Лабиен порвал с ним и примкнул к республиканцам. При этом он стал чуть ли не самым непримиримым врагом Цезаря и при всяком случае поносил его с таким же остервенением, с каким тот нападал на Катона.
Республиканцы были очень рады, что в их лагере оказался единственный серьезный соратник Цезаря, однако они так до конца и не поняли, перешел ли он к ним по идейным соображениям или из-за ссоры со своим императором!
Все сколько-нибудь значительные личности покинули Рим. Поэтому Цезарь был разочарован. Он хотел стать диктатором, но по закону диктатора мог назначить только консул на основании решения сената. А в наличии не было ни сената, ни консула. Победителю же срочно требовался какой-либо титул, дабы хоть как-то облагообразить свой поступок, выдать преступление за благодеяние. Он попытался подкупить консула Лентула, для чего отправил к нему тайное посольство, но тот отказался торговать своею властью и Отечеством. Видя, сколь он непопулярен в столице и в Италии вообще, Цезарь избрал для отношений со своими бывшими согражданами девиз: "Милосердие". Отмечая, что жестокостью никто не смог удержать победу на долгий срок, он писал друзьям: "Пусть это будет новый способ побеждать – укрепляться состраданием и великодушием". Итак, "сострадание" и "великодушие" к соотечественникам являлись для него новым видом оружия, предназначенным для борьбы с ними же.
Цезарь отпустил из плена Домиция, отдав ему даже его имущество, ласково обошелся с пленными солдатами, забрав их в свое войско. Кроме того, он оберегал от разграбления брошенные дома аристократов, писал сладкие письма Цицерону и другим авторитетным сенаторам. С Цицероном он даже встречался в окрестностях Рима, но получил от поборника согласия сословий резкую отповедь за свое предательство и лицемерие. Наконец-то Цицерон смог разговаривать с Цезарем с высоко поднятой головой, но, увы, это была не последняя их встреча.
Вообще, Цезарь очень милостиво обошелся с павшим Римом. Единствен-ным деянием, которое запомнилось горожанам, стал взлом казначейства и раз-грабление государственной казны. Трибун Метелл грудью преградил императору путь в эрарий, но Цезарь пригрозил ему смертью, пояснив при этом, что для него труднее произнести приговор, нежели его исполнить. И впрямь, развязывая гражданскую войну во имя защиты достоинства одного трибуна, почему бы ни казнить другого?
Так Цезарь снова стал богатым и щедрым к войску и нужным ему политикам. Он украл даже неприкосновенный резерв, который римляне создали после первого поражения от галлов и копили почти четыреста лет на случай нового нашествия варваров. "Я снял этот запрет, навсегда сделав галлов безопасными!" – с усмешкой объяснил свое поведение Цезарь. Но в народе сей эпизод был истолкован по-иному: галлы, действительно, вторично захватили Рим и изъяли предназначенные для борьбы против них средства.
В самом деле, Цезарево войско трудно было считать римским, поскольку значительную часть его легионов составляли галлы, незаконно получившие от полководца права гражданства, а конница и вовсе была сформирована из галлов и германцев, воевавших против римлян за деньги.
Разобравшись с казной, Цезарь посчитал, что программа столичного визита исчерпана, и пустился на юг навстречу Помпею. Наступая с резко возросшей армией на Брундизий, где находился лагерь республиканцев, Цезарь продолжал забрасывать Помпея всяческими мирными предложениями, каковые, однако, по существу были адресованы не ему, а столичным обывателям, дабы внушить им мысль о Цезаревом миролюбии. Но однажды Помпей и сенаторы тоже поддались на эту приманку. Помпей серьезнейшим образом ответил на послание Цезаря, в котором, по согласованию с сенаторами, выразил готовность принять все его требования. Это письмо было высечено на камне и выставлено для всеобщего обозрения в Риме, тогда еще свободном от галлов. Вся Италия пришла в волнение от пробудившейся надежды, лишь Цезарь остался равнодушен. Он, по всей видимости, даже не читал ответа на свое предложение. Зато он использовал возникшее в обществе благодушие, чтобы еще глубже внедриться в Италию. После этого уже все сенаторы по отношению к Цезарю превратились в Катонов. Но Цезарь не краснел, он слал новые письма. Теперь его миролюбие явилось свету в идее об аудиенции с Помпеем. Очевидно, это была попытка вбить клин подозрительности между сенаторами и их полководцем. Впрочем, возможно, Цезарь и в самом деле надеялся договориться с Помпеем о каком-нибудь разделе мира по-ихнему, по-царски. Однако Помпей показал, что его доверчивость небезгранична.
Расставшись с иллюзией решить дело миром, сенаторы еще какое-то время питали иллюзию о возможности сохранить за собою Италию и, хотя Помпей давно созывал всех республиканцев в Брундизий, горе-полководцы разъезжали по Италии, маневрируя перед Цезарем. За вторую иллюзию пришлось расплачиваться утратой резервов из кое-как навербованных рекрутов, которые с приближением Цезаря либо рассеивались, либо переходили на его сторону, а также потерей времени. Поэтому Цезарю удалось настигнуть республиканцев в Брундизии и атаковать их. Помпею пришлось в срочном порядке выстраивать оборону города и осуществлять переправу войск в экстремальных условиях, отбиваясь от наседающего врага. Тем не менее, задача была успешно выполнена, но тот факт, что Великий Помпей отступил перед Цезарем и не просто отступил, а едва унес ноги, дурно повлиял на моральное настроение республиканцев, зато произвел большое впечатление на всех колеблющихся.
7
На одном из последних заседаний сената перед его бегством из столицы были сделаны новые назначения проконсулов и пропреторов, вызванные начавшейся войною. В основном они имели целью заменить наместников, лояльных к Цезарю, на более надежных и проводились с расчетом на реализацию стратегического плана Помпея.
В соответствии с этим распределением Катону предстояло в ранге пропретора отправиться на Сицилию. Его сборы были недолгими. Он не суетился среди тюков тряпья, не погонял слуг, не заставлял их таскать сундуки, как то происходило в соседних домах. Его багаж был минимальным для сенатора такого ранга. Большую трудность представлял вопрос о судьбе семьи. Старшего сына Катон решил взять с собою, а младшего сына и дочерей хотел отправить на юг Италии к Мунацию, где у того было небольшое поместье. Но перед отъездом он встретил Марцию, которая тайком пыталась попрощаться с детьми, и это изменило его план.
Новой семьи у Марции не получилось. Гортензий умер, и она осталась одна в чужом доме. Беда, постигшая государство, изменила масштаб оценок жизни, и теперь, глядя на свою бывшую жену, униженную судьбою, Марк не испытывал ничего, кроме сочувствия. Его собственная обида была слишком ничтожна в сравнении с трагизмом этого часа. И он, подойдя к Марции и взяв ее за руку, предложил ей вернуться в тот дом, где она была хозяйкой много лет.
"Может ли слабая женщина не искать опоры в том, в ком ищет защиты сама Республика, в том, кто один устоял в бурю общественных невзгод, в том, кого не способна согнуть никакая стихия, никакие мировые потрясения, потому что он сам – целый мир!" – сказала в ответ Марция.
Катон быстро отдал распоряжения, вносящие изменения в подготовку к путешествию. Теперь он брал с собою только сыновей, а дочерей оставлял в столице вместе с Марцией. Едва заключив новый союз с прежней женой, Катон тут же отправился в путь. Он выехал из города в ночь, объяснив это спешкой, вызванной наступлением врага. Поверила ли ему Марция или нет, осталось неизвестным.
Повторный брак Катона с Марцией удивил сограждан, но не очень; они свыклись с мыслью, что этот человек удивителен сам по себе и потому в его удивительных поступках нет ничего удивительного. Впрочем, тогда у всех было слишком много собственных забот, чтобы обсуждать еще и чужие.
Активнее других отреагировал на этот шаг Катона тот, кого он меньше всех касался. Цезарь снова укололся о свое "шило", и из этого человека, как из распоротого брюха, полилась желчь ненависти. "Для хитреца и неуемного корыстолюбца Порция брак – всего лишь доходный промысел, – заявил Цезарь. – Он с самого начала хотел поймать Гортензия на эту приманку, и ссудил ему Марцию молодой, чтобы получить назад богатой!" Охарактеризовав таким образом поступок Катона, Цезарь дал яркую характеристику самому себе.
Тем временем Катон в последний раз смотрел на храмы и холмы родного Рима. Он знал наперед судьбу государства, а значит, предвидел и собственную участь. Думал ли он тогда, что больше не увидит этого города? В любом случае Катон понимал, что если ему и доведется возвратиться сюда, то ненадолго. Болезнь римского общества, продолжавшаяся более ста лет, все это время точившая титана изнутри, теперь прорвалась наружу; сгноив душу, приступила к разрушенью тела. Настал кризис, государство билось в предсмертных конвульсиях. Одна будет судорога, две, десять или больше – не имело значения, трагедия заключалась в том, что выздоровление уже стало невозможным.
Сумерки поднимались над Римом, затопляя тьмою низины с площадями, где днем бурлила жизнь, карабкаясь по склонам холмов, поглощая дворцы знати и многоэтажные муравейники бедноты. Еще какое-то время белым мрамором светились храмы на вершинах холмов, но скоро чернота объяла и их: боги тоже покинули город, устремившись за уходящим солнцем к свету небес.
Катон уезжал из Рима, уезжал навсегда. Точнее, он уходил, а не уезжал, поскольку везде и всегда, если только не был болен, ходил пешком. Он шел по Аппиевой дороге босиком в одной тоге и с непокрытой головой, хотя был январь. Ледяной булыжник жег холодом его ступни, но он этого не чувствовал, потому что его сердце горело болью расставанья с тем, что было для него несравненно больше жизни, ибо заключало в себе и его собственную жизнь, и жизни всех людей многих поколений, которые были ему дороги. В огромном городе, оставшемся за его спиною, каждый камень означал чью-то смерть и чью-то славу, светился отпечатками счастья ступавших по нему людей и кричал о грядущих страданиях, вещал о былом величии и стонал в ожидании предстоящего унижения. И все эти камни, все жилые дома и общественные здания, все храмы, алтари и статуи римских героев, до сих пор охранявших город, смотрели вслед уходящему Катону. Он чувствовал угрюмую тяжесть их вопросительного взора. Вдоль Аппиевой дороги стояли гробницы знатных родов, где хранился прах полководцев, победивших весь мир, а также кладбища тех, чьими руками, сердцами и волей были достигнуты эти победы. Над длинными рядами усыпальниц торжественным парадом реяли души всех римлян, кто, уйдя из жизни, не оставил Родины. Они тоже смотрели на уходившего Катона. Он слышал их требовательные голоса. И не было для него набата громче, чем их беззвучные упреки, не было ноши тяжелее, чем их взгляд.
Как хотелось ему хотя бы на час перестать быть Катоном, чтобы хотя бы однажды в жизни отдаться стихии чувств и с их потоком излить нестерпимую боль! Как хотелось ему упасть, чтобы избавиться от неподъемной ноши сознания своей вины перед этими камнями, храмами, статуями, могилами и бессильным прахом в них! Но, для того чтобы упасть или даже просто споткнуться, нужно было перестать быть Катоном, а именно этого он и не мог себе позволить.
Несмотря на поздний час, тысячи римлян в этот вечер вышли на улицы, чтобы проводить Катона и других сенаторов, покидавших столицу перед нашествием врага. В качающемся свете факелов Катон видел сверкающие глаза сограждан. Весь ужас надвигавшейся войны, все ее беды, все страдания от грядущих утрат и разрушений уже подступили к ним вплотную и стиснули их холодными объятиями страха. Они будто бы уже частично потеряли самих себя, словно свет факелов и черный мрак, полосами чередуясь на их лицах и фигурах, таким же образом поделили на черное и белое их души. И в этом состоянии они смотрели, как из Рима уходит Катон, хребет сената, твердыня форума. Да, подчиняясь необходимости, он покидал их, но оставлял им свое имя. От того, как он уйдет сегодня, будет зависеть, как они завтра встретят Цезаря и к кому они примкнут послезавтра. Последним оружием Катона стало его имя, и он должен был распорядиться им так, чтобы нанести упреждающий удар легионам Цезаря. Поэтому Катон шел размеренно и прямо, твердо ступая по скользким от мороза камням, ни один мускул не дрогнул на его лице, глаза, не моргая, прощались с родными холмами, а их взгляд был направлен вперед, как будто там можно было увидеть что-либо, кроме смерти.
С этого дня Катон не стригся, не брил бороды, обедал сидя вразрез с римским обычаем вкушать трапезу, возлежа на ложах. До конца своей жизни Катон ни разу не улыбнулся, ни разу не сверкнул в его глазах радостный блеск, и в победах, и в пораженьях он неизменно хранил скорбный суровый вид.
Прибыв в Падую, где находились консулы и многие сенаторы, Катон за-держался на несколько дней. В то время там шло обсуждение одного из самых заманчивых предложений Цезаря. "Поскольку мы оказались не готовы к войне, – высказал свое мнение Катон, – то надо принимать все условия Цезаря, если только он действительно выведет войска из Италии". Его слова удивили сенаторов. "Уже сам Катон согласен быть рабом, лишь бы не воевать", – писал Цицерон, как раз тогда мучительно раскаивавшийся в своем минутном приступе смелости и страдающий в поисках щели, куда бы ему спрятаться от надвигающихся событий. Однако вскоре выяснилось, что миролюбие Цезаря – всего лишь сверкающий цветами радуги в лучах пропаганды мыльный пузырь, и Катон продолжил путь на юг. В Бруттии он заехал к Мунацию, оставил его попечению младшего сына, а сам вместе со старшим сыном Марком переправился на Сицилию.
Там Катон поначалу развернул активную деятельность. Он строил флот и формировал воинские контингенты для Помпея, а также заготавливал продовольствие для его армии. Сделав своей ставкой Сиракузы, Катон, тем не менее, постоянно разъезжал по всему острову, лично контролируя ход дел. Однако, когда Помпей покинул Италию, его энтузиазм остыл.
Цезарь теперь выглядел победителем. Перед ним пресмыкались главы италийских общин. В каждом городе, через который он проходил, устраивались помпезные празднества, подобные тем, какие недавно гремели в честь Помпея. При этом любвеобильные италики стыдились своих прежних чувств и уверяли Цезаря, будто в тайне всегда вожделели к нему одному, а Помпею льстили лишь по необходимости. Аналогичным образом вели себя и тяжелобрюхие сенаторы. Многие из тех, кто вчера, бия себя мясистым кулаком повыше своего главного сокровища, объявлял: "Я – оптимат", сегодня моляще простирали руки к Цезарю и выражали готовность проповедовать любую идеологию, лишь бы им вернули право владения дворцами да виллами.
Собирая дань продажного поклонения, Цезарь не прекращал активной деятельности. Став господином Италии, он спешно переправился в Испанию, где находились лучшие легионы Помпея, лишенные, однако, квалифицированного командования.
Едва только после первых тяжелых битв испанская Фортуна начала симпатизировать Цезарю, он незамедлительно отрядил несколько легионов для захвата Сицилии и Сардинии. Этой операцией командовал Курион, человек, столь же стремительный и самоуверенный, как и его повелитель. Поэтому, напав на Сардинию, он одновременно атаковал и Сицилию, послав туда во главе авангарда будущего историка Азиния Поллиона.
Когда Помпей без борьбы оставил Италию, а Цезарь устремился завоевывать Испанию, Катону стало ясно, что его провинция обречена. Располагаясь в центре Римского государства, Сицилия уже давно утратила военное значение. В ней не было войск, лишь в наиболее крупных городах стояли гарнизоны из местных ополченцев. При необходимости Катон мог бы, мобилизовав ресурсы острова, организовать сопротивление врагу и продержаться несколько недель. Однако помощи ему ждать было не от кого. Уж если Помпей оставил Италию и бросил свои легионы в Испании, то, очевидно, он не станет рисковать из-за Сицилии. Увы, в скорректированном по итогам последних событий стратегическом плане маститого полководца уже не было места ни для Сицилии, ни для Сардинии. Он принес в жертву Катона, как в битвах порою жертвуют каким-либо подразделением, выполняющим отвлекающий маневр или другое специальное задание.
Катон больше других сенаторов поддерживал Помпея в его решениях, но теперь и он осудил его. Катону не довелось руководить армиями и возглавлять военные кампании, потому ему было сложно оценить действия Помпея. Однако не отсутствие опыта и не обида за пренебрежение к его участку фронта явились решающим фактором в неприятии стратегии полководца. Сама психология гражданина республики восставала против глобальной гражданской войны. Вопреки голосу разума он хотел, чтобы все решилось как можно быстрее в короткой схватке с врагом в Италии. Когда же стало ясно, что Помпей и Цезарь развернули масштабную гражданскую войну на многие месяцы или даже годы с привлечением варварских полчищ чуть ли не со всего мира, Катон подобно Цицерону и другим сенаторам испытал шок и разочарование. Всю жизнь он вынужден был наблюдать постепенную нравственную гибель своего народа, но возникшая теперь угроза физического уничтожения огромного числа римлян в чудовищной бойне на потеху тщеславию презренных авантюристов, не помещалась ни в его сознании, ни в его душе. Постигшая Отечество трагедия была столь огромна, что республиканское мировоззрение Катона отвергало ее в принципе. Никакая стратегия, никакие добрые замыслы, по его понятиям, не могли оправдать этой жертвы. Он проклинал Цезаря и готов был проклясть Помпея за то, что тот не сумел вовремя нейтрализовать источник смертоносной эпидемии.
Поэтому, когда Азиний Поллион с передовыми отрядами войска Куриона вторгся в Сицилию, Катон решил не затевать напрасного кровопролития и оставил остров. Он мог бы противостоять Поллиону, но в дальнейшем, с приходом трех легионов Куриона, сопротивление теряло бы всякий практический смысл, ввергать же тысячи людей в братоубийственную бойню без надежды на реальную пользу для общего дела он не желал. Свойственное цезарианцам стремление встревать в любую авантюру, чтобы ценою гибели сограждан заявить о себе, продемонстрировать полководческие таланты, было глубоко чуждо Катону.
Он собрал своих помощников и, сказав им, что после отступления Помпея дело обороны Сицилии лишено перспективы, приказал готовиться к переправе на Балканы. Сицилийцев Катон призвал покориться судьбе и, не усугубляя беды Отечества напрасными жертвами, терпеливо ждать, когда участь государства решится на главной арене гражданской войны. Самому Азинию Поллиону он при личной встрече заявил, что отдает ему провинцию без боя, а потому по закону международного права и совести требует от него миролюбивого отношения к местному населению. "Будь спокоен, Порций, мы сейчас воюем милосердием", – с усмешкой процитировал в ответ своего господина Поллион.
Так Катон покинул Сицилию и прибыл в лагерь Помпея в Македонии. Многие сенаторы осудили его за этот поступок, причем особенно категоричны оказались те из них, кто остался в Италии и заигрывал с клевретами Цезаря. Источал возмущение невоинственностью Катона и Цицерон, в ранге проконсула в окружении ликторов и с лавром на фасцах прятавшийся под Капуей и от Помпея, и от Цезаря и обменивающийся любезными письмами со своим будущим убийцей Марком Антонием, оставленным завоевателем Италии в качестве наместника покоренной страны. Увы, успех Цезаря стал тяжелым ударом для Цицерона, и от этого удара его принципиальность снова дала трещину. Он не подчинился Помпею и не последовал за ним в Эпир. Находясь фактически в стане врага, Цицерон вел мысленный судебный процесс с совестью, и в свете этого поединка трудный с моральной точки зрения поступок Катона представлялся ему косвенным оправдательным доводом в свою пользу, потому и вызвал у него приступ злорадства.
Однако сам Помпей встретил Катона хорошо. Он был рад увидеть человека, по-настоящему болеющего за дело. В лагере императора собралось более двухсот сенаторов, в основном, высших рангов. Этот цвет Палатина регулярно сходился в шатре полководца и проводил нечто вроде сенатских заседаний. Эти люди называли себя советом трехсот (число триста соответствовало римской традиции), поскольку, будучи в эмиграции, юридически не могли именоваться сенатом. Все они были речисты, артистичны и амбициозны, все они дни напролет метали громы, однако без молний, ибо не могли высечь из своих размякших от роскоши и безделья душ даже искры. Они производили много шума, суеты и язвительного пессимизма, чем создавали в лагере гнилостную атмосферу, губительную для всякой честной идеи и мысли. Катон же в этих условиях воспринимался как кусок чистого льда в душный день.
Впервые Помпей искренне обрадовался Марку. Относительно Сицилии он сказал, что в сложившейся ситуации Катон поступил правильно. "Нам теперь не до Сицилии или Сардинии, – пояснил он, – наша главная задача – собрать боеспособное войско и обустроить ему удобную арену для широкомасштабных действий". С этими словами император повел Катона по лагерю, показывая и рассказывая, что ему удалось сделать в этом направлении, а чего следовало добиваться в ближайшее время. "Испанский корпус – крепкий орешек, – продолжал он, – и Цезарь изрядно пообломает об него свои хищные зубы. Он надолго увязнет в Испании и, даже если победит там, проиграет здесь, потому как за это время мы создадим силу, способную одолеть его свирепых варваров. Исход войны решают не только легионы, дорогой Марк, как ты, конечно же, знаешь. Битвы и победы – лишь сияющие сквозь дымку веков снежные пики горных хребтов, но сами эти горы воздвигнуты многодневными будничными трудами воинов, моряков, военных строителей, корпораций изготовителей и поставщиков оружия, снаряжения и провианта, в их основании лежат перемещения гигантских масс людей, флотов, обозов, а также дипломатия, идеология, пропаганда. И все это движение выражает мысль и волю одного конструктора – полководца. Война – это поединок двух миров, двух цивилизаций, каждая из которых порождена своим создателем, своим творцом. Каждый из них громоздит горы человеческого материала, словно осадные насыпи у городских стен, стремясь в решающий момент оказаться выше противника, обосноваться на более выгодной позиции, чтобы обрушиться на него сверху, с высот своих укреплений и низринуть его в пропасть небытия".