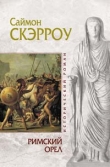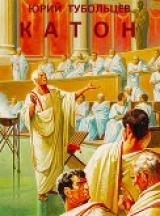
Текст книги "Катон (СИ)"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 50 страниц)
ПРИНЦИП ПРОТИВ ОБРЕЧЕННОСТИ
1
Когда объявили результат голосования, мир для Катона изменил цвета, упругое, стремительное до того время резко затормозило свой ход, как горный поток, который, прорвавшись сквозь последние пороги, утоп в беспредельном океане, вселенная сжалась в одну точку, не имеющую измерений. Чуть ли не с первых лет жизни, получив нравственный импульс от погибшего за Отечество Друза, Катон готовил себя к решающей схватке за Республику. Все свои силы, способности и страсти он властью воли спрессовал в одно стремление, подчинил единой цели. Марк всегда ощущал в себе особый потенциал для деятельности государственного мужа именно в тогдашнем, угнетенном пороками обществе, чувствовал, что на этом поприще он может сделать больше, чем кто-либо другой, а также знал, что никто, кроме него, не способен спасти Республику. И вдруг в один день все пошло прахом, его силы оказались никому не нужными, стремленья – тщетными, труды – напрасными. Его жизнь была подобна непрерывному упорному восхождению на огромную гору, при котором он отказывал себе во всем, что не способствовало продвижению вперед. И вот, когда он достиг вершины, обнаружилось, что там ничего нет, его объяла пустота, и он со всего маха ухнул в этот провал, откуда уже не было возврата. В результате падения на земле оказалось только тело, а душа со всем ее нравственным и интеллектуальным багажом, не сумев реализоваться в жизни, не смогла и низринуться вместе с телом в пыль, а потому рас-творилась в небытии.
Кто стоял тогда на Марсовом поле перед бурлящей толпою в позоре отверженья? Лишенный проницательности плебс все еще полагал, будто видит живого Катона, к которому он, как то бывало прежде, может воззвать в любой момент. Совершив варварское убийство, толпа даже не заметила этого и по-прежнему считала, что труп Катона и есть Катон, а сама она – народ римский. Однако не за горами было горькое прозренье. Морем крови и слез заплатила она за ошибку, потомков своих обрекла на деградацию и рабство досадным заблуждением, а свою цивилизацию минутной слабостью отправила на свалку истории.
2
Ненавистники Катона злорадствовали, остальные сочувствовали, но все вместе они полагали, что теперь долго не увидят его в публичных местах. Отвергнутые соискатели консулата обычно тяжело переживали неудачи, а у Катона оснований сетовать на судьбу было больше, чем у других. Потому казалось, что после такого унизительного поражения он надолго засядет в своем доме, как побитый волк, в глубокой норе зализывающий раны.
Но так-то сограждане знали Катона! Он тут же, на Марсовом поле, натер свой крепкий торс маслом, как было принято у атлетов, и стал играть с молоде-жью в мяч. Затем не спеша вернулся в город, а вскоре его уже можно было ви-деть, традиционно босого и в одной тоге дефилирующим с друзьями по форуму. Он был ни грустен, ни весел и внешне оставался таким, как всегда.
Отвечая кому-то из знакомых, кто выразил удивление его спокойствием и беззаботностью, Катон сказал:
– Я беззаботен потому, что у меня теперь нет забот. Государству я оказался не нужен и отныне принадлежу самому себе.
– Ты ответил, как настоящий стоик, – отозвался один из сопровождавших Катона друзей, – однако следовало добавить, что, обретя самого себя, ты станешь принадлежать мудрости. Потому твоя свобода не будет долгой, она реализуется в...
– Твоя свобода будет недолгой, – с деловитой решительностью перебил теоретика всегда находившийся справа от Катона Марк Фавоний, – потому что через год нам нужно все повторить, и тогда тебе, Катон, уже не удастся ускользнуть от государства. Оно обязательно заловит тебя и сделает примипилом своего легиона.
– Нет, повторения не будет, – отрезал Катон.
– Почему? – прозвучало сразу со всех сторон.
– Ведь претуру ты тоже покорил не с первого раза, – напомнил Сервилий.
– Претуру я не получил из-за происков врагов вопреки воле народа, потому пошел на второе соискание, – ответил на это Катон, – но теперь выборы были честными – благо, мы наконец-то справились с подкупом и насилием – и я убедился, что сограждане относятся ко мне неприязненно из-за моего нрава. А человеку серьезному не пристало ни менять свой нрав в угоду другим, ни, оставаясь верным себе, снова терпеть неудачу.
Никакие уговоры друзей не изменили его решения. Весть о том, что Катон навсегда отказался от консулата, быстро облетела город и поразила римлян своей простою логикой с одной стороны, и непостижимостью для человека их эпохи – с другой.
Помпей посчитал, что таким образом Катон сделал выбор в его пользу, и воспринял это как поворот от соперничества к сотрудничеству. Он встретил Катона на форуме и, сияя от счастья, похвалил его как примерного гражданина, не преминув, однако, намекнуть, что тот легко станет консулом, если возьмется представлять его интересы.
– Я уже принял решение, и оно окончательное, – отреагировал на Помпеевы намеки Катон.
– Да-да, я понимаю: мудрец никогда не меняет своего мнения, – подхватил Помпей. – Милейший Катон, ты пробудил во мне интерес к стоицизму, и я заново проштудировал Посидония. Однако позволь мне все-таки напомнить тебе, что жизнь наша далека от идеала теории. Ты, Марк, излишне строг, ты слишком уж принципиален.
– Нельзя быть слишком принципиальным, как нельзя быть принципиаль-ным чуть-чуть, – хмуро заметил Катон, – можно быть либо принципиальным, либо беспринципным.
Помпей Великий понял, что он снова ошибся в обращении с Катоном, и, желая уберечь свое, уже съехавшее набекрень от разящих Катоновых поучений величие, поспешил изменить курс. Со своим полком свиты под смешки Фавония, Мунация и Брута он устремился на Комиций, дабы осчастливить собою менее привередливых сенаторов.
3
Итак, Катон не состоялся как государственный муж уровня Сципиона и Фурия Камилла, как государственный человек, способный спасти Отечество. Он не сумел вырвать Республику из порочного водоворота истории, не смог разомкнуть круг обреченности и вывести Рим на новую орбиту. Цель всей его жизни оказалась неосуществленной. Республика была для него смыслом существования, объектом приложения всех знаний и талантов, она заменяла ему семью и дом, была его богатством и его любовью. И теперь все кончилось, по-настоящему так и не начавшись.
Естественным исходом в сложившейся ситуации виделся последний шаг стоика, тот резерв, который эта философия оставляла своим приверженцам в качестве условия независимости личности от внешних невзгод. "Готовность к добровольной смерти есть залог духовной свободы при жизни", – гласит жестокое правило стоицизма.
Ступив на этот порог, Катон остановился в задумчивости, прислушиваясь к голосу судьбы. Нет, он еще не чувствовал себя настолько свободным, чтобы низринуться в провал небытия и раствориться в вечном мраке холодной пустоты. Его все еще тяготила ноша жизни. Это был уже не груз ответственности за государство, которое отвергло его, а собственный интеллектуальный и нравственный багаж. Он не израсходовал свой потенциал, не использовал способностей, посеянных в нем природой, взращенных обществом, всею почти семисотлетней историей Рима, и преобразованных его волей и трудом в особую силу. Она и держала Катона на земле, требуя исхода. Найти способ реализации этой силы и стало для него сверхзадачей.
Итак, перед ним стояла именно сверхзадача ввиду ее значимости и нераз-решимости.
Конечно, Катон мог пройти в консулы на будущий год, но для этого ему пришлось бы попрать свои принципы, а значит, разрушить собственную личность и, следовательно, изменить вектор той силы, которая являлась исходной причиной деятельности. Таким образом, реализация извратила бы саму цель. Не изменяя принципам, он мог быть полезен Республике и в нынешнем качестве претория, нравственного лидера аристократии и, возможно, советника первого лица. Однако такая полумера не являлась сверхзадачей, а Катон мог жить только ради сверхзадачи.
Некогда незаслуженно отстраненный от дел Лукулл искал утешения в праздности, комфорте и роскоши. Цицерон, не раз оказываясь в подобных ситуациях, начинал писать поэмы и философские трактаты. Отвергнутый современниками, он обращался к потомкам, стремясь передать им свои знания, мудрость и воплощенные в произведениях искусства таланты. Катон тоже немало часов просидел перед листом папируса, но лист так и остался чистым. У него не было риторических, а следовательно, и литературных способностей Цицерона, и это значило, что его мысль по дороге к читателю понесет невосполнимые потери. Но главным было другое. Потенциал Катона имел иной спектр, этот человек должен был действовать, а не писать, создавать шедевры в жизни, а не на бумаге, и этого же требовала критическая ситуация, в которой находился Рим. В первую очередь Катон должен был изыскать способ помочь своим нынешним согражданам и только после этого думать о потомках, тем более что грозящая катастрофа могла привести к такому состоянию общества, когда философия ему уже не понадобится.
Подводя итог раздумьям, Катон мог сделать вывод о том, что единственный путь, ведущий к цели, был для него закрыт, а остальные дороги являлись не более чем тропинками, петляющими в непроходимой чаще. Однако он должен был найти выход.
Растительная жизнь Лукулла не удовлетворила даже его самого и принесла ему преждевременный конец от мук, порожденных противоречием между телесным пресыщением и духовной пустотой. Самовыражение через искусство и науку, к которому прибегал в трудные дни Цицерон, тоже не годилось для Катона. Право на смерть он еще не заслужил, а значит, был обязан во что бы то ни стало создать из своей жизни нечто особенное и неповторимое. Катон мог расквитаться с небесами, лишь явив миру шедевр, только тогда он оправдал бы свое существование, только тогда умер бы Катоном. И он нашел способ решения этой сверхзадачи, потому что действительно был Катоном. Прежде он мечтал сделать своим шедевром Республику, но теперь, утратив такую возможность, вознамерился превратить в произведение искусства собственную жизнь, создать из нее нравственный шедевр.
По мнению Катона, катастрофическое развитие событий в Риме вскоре должно было привести к прозрению людей. Ему не раз доводилось видеть, как плохое воинское подразделение, состоящее из разнородных элементов, ориентированных на сугубо личные цели, оказавшись в смертельной опасности, обретало единство, сплоченность, коллективное сознание, а значит, и силу. Возродившись как целое, оно преодолевало любые препятствия и побеждало всех врагов. Правда, так выходило не всегда. Если общие интересы не одерживали верх над частными, консолидации не получалось, а в условиях войны это означало поражение и гибель, либо рабство. Вот и римлянам очень скоро предстояло оказаться перед подобным выбором. И когда они остановятся, как думал Катон, на краю пропасти, куда их заведет вражда, посеянная корыстными страстями, и посмотрят вокруг в поисках пути к спасению, их взорам предстанет нравственный пример Катона, который и даст им знать, что существует другая жизнь, бывают другие ценности, созидающие, а не разрушающие, что честность и справедливость – не демагогические абстракции, а реальность, доступная человеку. В такой ситуации живой образ нравственного героя мог сыграть гораздо более существенную роль, чем фи-лософские схемы и теоретические рассуждения о морали и добродетели. Стремление к достижению этого образа и стало целью Катона.
4
Изменение смысла жизни вызвало внутреннюю перестройку в душе и соз-нании Катона, но не повлияло на его поведение и облик. Никто из окружающих не заметил произошедшего в нем перелома, никто не видел, что он живет через силу, лишь напряжением воли. Для всех он остался принципиальным, несгибае-мым оплотом и энергетическим центром аристократии. Катон с прежней активностью участвовал в государственных делах, будь то заседания сената или судебные процессы. А проблем в Риме накопилось столько, что каждому гражданину надлежало стать таким же упорным гребцом на государственном корабле, как Катон.
На Востоке после разгрома армии Красса некоторые территории отпали от Рима, а парфяне перешли Евфрат и вторглись в провинцию Сирия. Уцелевший в бойне квестор Красса Кассий Лонгин с остатками войска занял города и отсиделся за крепостными стенами, пока у противника не иссяк пыл.
В Азии назревала большая война. Встал вопрос о том, кого сделать преемником Красса. В последние годы в магистраты метили большей частью хапуги с единственной целью – обобрать какую-нибудь провинцию. В Сирии такому наместнику делать уже было нечего, потому что предприимчивый Красс, при всей кратковременности пребывания в должности проконсула, успел все-таки разграбить самые знаменитые города и храмы. Необходим был новый подход к назначению должностных лиц в провинции. Стремясь иметь хоть какой-то выбор кандидатов, сенат совместно с Помпеем издал закон о том, чтобы магистраты отправлялись царствовать в дальние страны не сразу по окончании исполнения должности в столице, а лишь через пять лет. Это позволило сенату в то время избирать наместников по своему усмотрению из довольно большого числа бывших магистратов, в свое время по каким-либо причинам не управлявших провинциями. Авторы этого закона преследовали и другую цель, о которой стало известно позднее. Пока же на его основании в Сирию был отправлен Бибул, а в другую беспокойную страну Киликию – Цицерон.
Прибыв на место, Бибул убедился, что пополнить войско из местного населения невозможно, так как азиаты, во-первых, были очень трусливы, а во-вторых, ненавидели римлян из-за проконсулов, подобных Крассу и Габинию. Существующее войско было невелико, и в первых же стычках с врагом Бибул потерпел неудачу. Оставалось лишь вести оборонительную войну. Поэтому он поставил гарнизоны в важнейших городах и таким способом отразил второе нашествие парфян, которые совсем не умели осаждать укрепленные пункты. Неудачи парфян породили в их стане брожение и междоусобицы, как то характерно для народов всех низкоорганизованных стран, и война Азии с Европой не состоялась, однако ее угроза еще долгое время черною тучей висела над горизонтом.
Таким образом, Бибул выполнил возложенную на него задачу в объеме программы-минимум. Цицерон преуспел еще больше. В опровержение тех стремительных и безапелляционных в своих суждениях людей, которые объявляют бездарностью всякого государственного человека, если он не стремится к захватническим войнам, миролюбивый Цицерон, когда его к тому вынудила логика событий, провел успешную военную кампанию против агрессивных племен и получил от солдат титул императора. Кроме того, он удивил и расположил к себе местное население мягким справедливым правлением и доброжелательным отношением ко всем людям. "Настоящий мудрец у власти", – сказал о нем Катон.
После того, как Цицерон сделал заявку на возврат в стан оптиматов и от-крыто выступил в нескольких судебных процессах против приближенных Помпея и Цезаря, его отношения с Катоном заметно улучшились, однако оставались скорее официальными, чем дружескими. Тем не менее, Цицерон теперь смелее обращался к Катону. В частности, великий оратор старательно и, конечно же, красноречиво уговаривал Катона повторно добиваться высшей должности, доказывая, сколь нужен государству в ответственный период такой консул, как он, но доказал лишь свою неспособность понять его образ мыслей и душу.
Когда Цицерон прогремел на весь римский мир победой над азиатами, он возомнил себя Помпеем и возжелал триумфа. В качестве предварительной замаскированной заявки на величайшую римскую почесть киликийский проконсул через друзей обратился в сенат с просьбой объявить молебствия по случаю его успеха. Зная, сколь велико в Курии влияние Катона, он послал ему длинное письмо с подробным отчетом о своих действиях и с пожеланием получить официальное одобрение его просьбе. Катон очень щепетильно относился к подобным мероприятиям, тем более что в то время триумфы и овации нередко присуждались не за великие дела, как бывало встарь, а либо за деньги, либо благодаря протекции влиятельных лиц. Он яростно боролся с любителями фальшивой славы, отстаивая достоинство государственных наград, а порою входил в конфликт даже с друзьями. Успех Цицерона Катон считал весьма существенным особенно в свете тогдашних проблем на Востоке, однако не заслуживающим триумфа. А молебствия представлялись ему и вовсе неуместными, поскольку должны были иметь своим смыслом воздаяние благодарности богам за явную и необычную помощь государству в момент наивысшей опасности, каковой, например, можно считать угрозу парфянского нашествия. Кроме того, будучи непримиримым ко всяким хитростям, он в душе протестовал против просьбы Цицерона именно ввиду ее неискренности, поскольку тот желал не самих молебствий, а лишь шага к триумфу. Совмещая принципиальность с обращенной к нему дружеской просьбой, Катон при обсуждении вопроса о молебствиях произнес похвальную речь Цицерону, по-влиявшую на настроение сената, вынесшего положительное решение, но сам при голосовании воздержался.
Свою позицию по этому делу Катон изложил в коротком, но монументальном письме киликийскому императору. Он объяснил, что сделал то, что мог сделать в согласии со своими убеждениями, а именно, воздал хвалу самому Цицерону за продуманные действия, а не счастливой случайности в лице божественного провидения. "Я для твоего возвеличивания желал того, что я признал самым значительным, – писал он, – но радуюсь осуществлению того, что предпочел ты".
Насколько подход Катона отличался от действий других сенаторов, можно судить по тому, что многие проголосовали за молебствия, стремясь выглядеть друзьями Цицерона, однако не желая их и будучи уверенными в запрете трибунов, а трибуны в свою очередь не наложили вето на это постановление, чтобы насолить таким сенаторам.
Цицерон прислал в ответ почтительное и одновременно язвительное пись-мо, в котором искусно, по-цицероновски сочетались уважение к Катону и на-смешка над его идеализмом.
"Приятно прославление от тех, кто сам прожил со славой, – писал он. – Если бы, не скажу все, но хотя бы многие были Катонами в нашем государстве, в котором существование одного казалось чудом, то какую колесницу и какие лавры сравнил бы я с прославлением с твоей стороны?" Однако поскольку Катонов в Риме было мало, а некатонами являлись почти все, Цицерон не хотел отказываться от формальных почестей и, говоря о триумфе, писал: "... Прошу тебя... когда ты своим суждением воздашь мне то, что признаешь самым славным, – порадоваться, если произойдет то, что я предпочту". "Не надо мне Катонова журавля в небе, дай мне в руки мою синицу", – примерно так звучала мысль Цицерона в переводе с дипломатического языка на обыденный.
Вообще-то, Цицерон высоко оценил поведение Катона в этом деле, и его неприятно удивило злорадство Цезаря, который поспешил сообщить ему в письме, что Катон не голосовал за молебствия и при обсуждении высказал особое мнение, не указывая, однако, какое именно. Поистине ненависть Цезаря к Катону торчала из него, как шило из мешка.
Правда, Цицерон резко изменил свое отношение к Катону, когда узнал, что позже тот голосовал за молебствия по случаю успехов Бибула. Сирийский проконсул, ведя оборонительную войну, не блистал победами, но добился главного – отступления парфян обратно за Евфрат, а это был враг, гораздо более серьезный, чем тот, с которым имел дело Цицерон. Однако Цицерон не ставил этот итог в заслугу Бибулу, усматривая в нем счастливый случай, и потому возмущался, как ему казалось, несправедливостью Катона, будто бы отдавшего предпочтение Бибулу как своему зятю. Эта обида Цицерона показала, что для него принципы Катона по-прежнему существовали лишь в качестве теоретической абстракции. В своем недовольстве он забыл, что Катон как раз и считал молебствия выражением благодарности судьбе, а не личности.
Итак, римляне приструнили врага на Востоке и перевели взор на север. А там Цезарь, проведя блистательную военную кампанию, одержал полную победу над объединенными силами галлов, заставив их навсегда распроститься с мечтою о свободе. Впрочем, Цезарь тут же начал заигрывать с побежденными, ведь эта страна теперь стала его плацдармом для войны с Италией. Однако действительно ли Цезарь собирался открыть боевые действия против римлян? Об этом утвердительно мог сказать только Катон, а обыватели бросали в воздух чепчики и ликовали по поводу победы, пока их восторг не захлебнулся в крови. Скорее всего, и сам Цезарь не мог ответить на этот вопрос. Правда, он всегда завидовал Александру Македонскому, человеку, безнадежно больному сумасшествием властолюбия, а еще шутил, что предпочел бы стать первым в альпийской деревне, чем оказаться вторым в Риме, однако его взрастила республика, общество, где слово "царь" все еще являлось самым страшным проклятием. Поэтому вряд ли Цезарь изначально вынашивал планы о достижении единовластия. К этой вершине или, точнее, черной дыре его толкала логика функционирования индивидуалиста в омуте политики агонизирующей Республики.
В прежние эпохи римляне совершали подвиги во славу государства, и народ платил им любовью и уважением. Эти любовь и уважение были мерилом значения личности. Будучи избранными на высшие должности аристократы использовали власть опять-таки для приращения своей славы. Но, после того как Рим был завоеван деньгами тех, кого он победил доблестью, общество стало постепенно утрачивать способность оценивать граждан по их качествам. Слава сделалась ненадежным критерием, любовь и уважение народа стали поверхностными, а следовательно, неустойчивыми чувствами, и строить на них карьеру было рискованно. Куда основательнее выглядели богатство и власть – количественные, а не качественные показатели престижа. Сколько денег ты накопил, столько ты и стоишь, если, конечно, в силах отстоять свои сундуки. Сколько захватил власти, скольких людей подчинил себе, над столькими ты и возвысился. Все просто и понятно, а главное, доступно тем, кто за собственные качества никогда бы не удостоился ни уважения, ни почета.
Этой схеме следовали Красс и Цезарь. В мировоззрении Помпея преобладала первая система ценностей, но присутствовали и элементы второй, особенно проявившиеся при триумвирате под воздействием его однозначных коллег. В этой двойственности и состоит противоречивость натуры Помпея, вызвавшая страдания позднейших историков, их недоумение, гнев, топот ногами и припадание к стопам понятного им Цезаря в качестве спасительной реакции.
Влекомый круговоротом интриг в пучину политической борьбы Цезарь стремился из каждой схватки на форуме или в курии выйти с приращением власти, подобно тому, как предприниматель стремится из каждой сделки извлечь прибыль. Сколько власти нужно было Цезарю? А сколько денег нужно богачу? Он не задумывается, зачем ему золото, потому что оно не средство, а цель. Если же целью является количество, то она недосягаема, поскольку числовой ряд бесконечен. Такой человек обречен вечно ползти по бесплодной пустыне с неподъемным грузом на спине навстречу всегда ускользающему миражу. Так же бессознательно и Цезарь жаждал власти, карабкался выше и выше по ступенькам, сулящим возрастание могущества, не замечая, что его движение подобно бегу белки в колесе.
Закончив порабощение Галлии, перерезав миллион местных жителей и сколько-то, сколько – история умалчивает, римлян, заковав в кандалы еще миллион людей, исторгнув реки слез и крови, Цезарь уже хотел новых свершений. Сколько бы он ни захватил городов и стран, сколько бы миллионов людей ни уничтожил, ему все было мало. Каждый день властолюбие Цезаря, ставшее способом реализации его талантов, требовало новых и новых жертв.
Как он мог удовлетворить свою страсть в той ситуации? Будь Цезарь римлянином в классическом смысле слова, он справил бы триумф, а потом сложил бы с себя власть и распустил войско, пожиная при этом плоды народной любви. Однако он получил провинцию, по сути, незаконным путем, на срок, превышавший установленный традициями, и развязал преступную, захватническую войну. За это ему по возвращении в Рим неизбежно пришлось бы нести ответственность. А его консульство, по римским понятиям, и вовсе было чередою злодеяний. Если же какое-то его действие и не являлось преступленьем, то, будучи направленным против знати, все равно могло быть интерпретировано сенатом как таковое. Катон публично заявил, что считает Цезаря государственным преступником и берется доказать это в суде. И уж если судом ему грозил Катон, то было ясно, что даже богатства всей Галлии не спасли бы его от обвинительного приговора. Таким образом, получалось, что, поступи Цезарь согласно римскому порядку, он не только утратил бы возможность и дальше самоутверждаться за счет государства, но и потерял бы гражданство. Слишком далеко он зашел по пути нарушения республиканских норм, чтобы теперь возвращаться в лоно попранного им государства. Отсюда следовала альтернатива: либо Цезарь открыто идет войною на Рим, либо возвращается в столицу как консул, защищенный от карающего меча Фемиды и ненависти аристократов государственным империем. Однако что могло означать для римлян второе консульство Цезаря, если первое было бесцеремонным нарушением конституции и насилием над гражданами? Силой или под видом законности, но Цезарь мог вернуться в Рим только диктатором. А это означало смерть Республики.
Несмотря на весь свой трагизм, такая перспектива страшила не всех римлян. Многим из них Республика уже не была матерью, а приходилась мачехой, как почти за сто лет до этих событий сказал Сципион Эмилиан. Правда, он имел в виду чужеземцев, заполонивших столицу, теперь же отторжение республиканских ценностей чуть ли не всех римлян превратило в чужеземцев на своей собственной земле. Плебс уже перестал мыслить такими категориями как Республика, государственные интересы, общественное благо и ориентировался в политике по именам и ярлыкам, как-то: Помпей, Цезарь, Клодий, демократия, проклятая знать. Назревающий конфликт обывателями воспринимался как соперничество между Помпеем и Цезарем. Причем в своем отношении к главным действующим лицам чернь походила на избалованного ребенка, который любит того из родителей, кто в данный момент отсутствует, но вот-вот должен вернуться со сладким гостинцем, и ненавидит того, кто стоит рядом и заставляет есть кашу и вытирать нос. Ясно, что при таком качестве оценок симпатии масс были на стороне героя, во славе возвращающегося из-за далеких Альп под грохот тысяч телег с серебром. Грохот этих телег влиял и на политические убеждения многих почтенных сенаторов. Но все же главной социальной опорой Цезаря были его легионы, чья дальнейшая судьба напрямую зависела от статуса их императора в столице. Большие надежды Цезарь возлагал и на население северной части Апеннинского полуострова, называемой Ближней Галлией, которое он осыпал всяческими благами, раздаривая права латинского и римского гражданства, ничуть не считаясь при этом с сенатом, будто он уже был монархом. А еще галльского проконсула весьма любили предприниматели, поскольку он сначала позволил им нажиться на войне, а потом сдал в бессрочную эксплуатацию огромную страну с населением, намного большим, чем в Италии.
Цезарю противостояла единственная последовательная республиканская сила – аристократия, а также составлял конкуренцию в притязаниях на высший престиж Помпей. Но в данном случае Помпей выступал не просто личностью. Вместе с ним сенат получил в свое распоряжение ветеранов восточных походов и действующие легионы в Испании и Африке, которые находились в подчинении у Помпея как у проконсула. Кроме того, Помпея поддерживали многие италийские города, а также народы восточных провинций, где его уважали как непобедимого полководца, разумного правителя и довольно порядочного человека.
На этот расклад политических и социальных сил серым фоном накладывалась гигантская масса идеологически инертного населения огромного и рыхлого государства. Так, например, жителей провинции абсолютно не интересовало, сохраниться ли в Риме республика или утвердится монархия, будет ли там по-прежнему издавать законы сенат или станет диктовать свою волю Цезарь. Даже столичный плебс утерял гражданскую гордость и за щедрую подачку готов был отдаться во власть какому-нибудь добренькому хозяину. Хуже того, и в самом сенате преторско-эдильская масса не имела четкой идейной позиции, и ее политическое кредо состояло в том, чтобы вовремя примкнуть к победителю, кем бы он ни был.
В ходе совещания триумвиров в Лукке Цезарь выговорил себе продление империя в Галлии и второе консульство сразу по возвращении в Рим. Первую часть своих обязательств Помпей выполнил, был готов реализовать и вторую. Сенат тоже не возражал против притязаний Цезаря на высшую магистратуру, но настаивал, чтобы, добиваясь должности, он действовал по законам государства, которым намеревался управлять. А эти законы требовали от кандидата прибыть на выборы частным лицом, сложившим с себя прежние полномочия. "Пусть Цезарь, если он считает свои заслуги неоспоримыми, ищет награды у сограждан как частный человек, а не добивается ее с оружием в руках", – говорил Катон.
Требования сенаторов были не только законными, но и справедливыми, поскольку войско в подчинении у одного из кандидатов являлось сверхмощным орудием давления на избирателей. Однако, изначально поставив себя над законами и справедливостью, Цезарь уже не мог вернуться в их рамки. Стоило ему прибыть в Рим простым гражданином, и Катон тут же вызвал бы его в суд. Защититься от обвинений Цезарь мог только силой оружия, поэтому он обратился в Рим с просьбой баллотироваться в консулы заочно.
Сенат, конечно же, отреагировал на эту дерзость негодованием, но трибунам затея галльского проконсула показалась многообещающей. Народные трибуны в то время являлись самым дешевым политическим товаром, и Цезарь скупал их оптом, по целому десятку. Достаточно ему было под каким-либо предлогом ограбить один-два галльских города, и добычи хватало на то, чтобы весь трибунат на ближайший год оказывался у него в кармане. Вот и тогда блюстители народных интересов за весьма умеренную плату признали доводы Цезаря убедительными и состряпали законопроект, гласящий, что вообще-то заочно на консулат претендовать нельзя, но Цезарю – можно. Помпей, бывший тогда единоличным консулом, поддержал трибунов, и проект стал законом. Однако через несколько месяцев Помпей выступил с целым пакетом предложений по оздоровлению государства, которые в основном были приняты и сенатом, и плебсом. Новыми законами фактически отменялось прежнее решение о заочном выдвижении кандидатуры Цезаря, каковое, впрочем, изначально являлось неконституционным, поскольку было привилегией. Таким образом, Помпей обозначил готовность поддержать прежнюю дружбу, но сделал вид, будто оказался вынужденным уступить объективному ходу событий, а в итоге возник повод для споров.