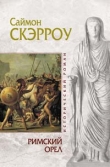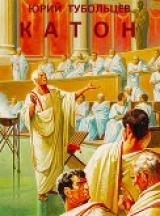
Текст книги "Катон (СИ)"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 50 страниц)
Однако такая система имела и достоинства. Во-первых, обеспечивалась эффективность сбора налогов, а во-вторых, Риму не нужно было содержать гигантский чиновничий аппарат, что в свою очередь позволяло избежать коррупции. Правда, взятки все же были, иначе невозможно в мире, где правят деньги, но получали их не мелкие чиновники, а крупные государственные мужи в окружении цензора, распределявшего откупа. Существовало и третье преимущество: этим бизнесом занимались всадники, а они составляли второе из господствовавших в Риме сословий, и на страже их благ стояло государство, важным элементом которого они являлись. Причем выходило так, что все плюсы откупной системы сосредотачивались в столице, а все минусы вычитались из провинциалов, поэтому и сенат, и плебс мирились с таким положением дел и лишь иногда слегка журили ретивых бизнесменов, если реки слез бесправного люда слишком заметно краснели от потоков крови.
Очевидно, что при распределении откупов, как и во всяком деле, сулящем сверхприбыли, шла свирепая борьба между субъектами наживы. Она разворачивалась и на глазах у публики в виде своеобразного аукциона, и за кулисами событий. А борьба в мире бизнеса требует денежных жертв, также – официальных и теневых.
В случае с Азией откупщики, выигравшие битву за эту гигантскую провинцию, одержали Пиррову победу. Их затраты были чрезвычайно велики, а страна, разоренная войною, не могла дать ожидаемых барышей. Обманутые в своих лучших чувствах предприниматели попытались применить к неблагодарной провинции третью степень устрашения, но никакие истязания не помогли ощипанной курице снести золотое яичко. Тут-то вопль их разочарования услышал Красс и пообещал придти на помощь разинувшим жадный зев сундукам. Откупщики поспешно перемахнули море и пали ниц перед великим стратегом финансовых битв.
На следующий день неудачливые дельцы явились в сенат и забрызгали славное собрание мутным фонтаном своих страстей. Слезно поведав об обру-шившихся на них трудностях, они попросили отцов Города снизойти к их обманутым вожделениям и уменьшить откупную плату.
Выслушав необычную делегацию, сенаторы пришли в крайнее возбужде-ние, а Катон покраснел от возмущения и внешне был больше похож на разрумянившегося от нехитрых удовольствий эпикурейца, чем на аскетичного, питающегося лишь высокими думами стоика. Однако его поведение быстро развеяло это обманчивое впечатление.
– Значит, вы выиграли конкурс, заплатив большую сумму, а теперь, когда, соперники оказались устранены с пути, желаете отделаться меньшей? – обличительным тоном обратился он к просителям, нарушая принятую очередность высказываний в прениях.
– Пересмотр откупной суммы – неслыханное дело, это подорвет доверие деловых людей к государству! – поддержал его негодование будущий консул Метелл Целер.
– Мы взяли на себя столь высокие обязательства необдуманно, в порыве азарта! – попытались оправдаться откупщики.
– В безумии алчности! – хотите вы сказать. – Уличил их Катон, отмахиваясь от председателя собрания, старавшегося его остановить.
– Можно сказать и так, – покладисто признали просители, предварительно обменявшись взглядами с Крассом.
– А теперь под влиянием той же алчности стремитесь отказаться от своих обязательств! – не унимался самый стоический из римских стоиков.
В конце концов председательствующему магистрату удалось навести порядок в Курии, однако к этому моменту у сенаторов уже сложилось крайне отрицательное отношение к просьбе откупщиков. Учитывая господствующее настроение, друзья Красса попытались помешать рассмотрению дела, и после долгих споров вопрос был перенесен на следующее заседание.
Далее в ход пошло "общественное мнение", быстро сформированное деньгами Красса, и повторилось то, что произошло при попытке осудить продажных судей, только в большем масштабе.
"Надменные нобили притесняют всадников! – кричали наемные глашатаи свободы на каждом углу. – Сенаторы демонстративно отказываются устранить очевидную ошибку в деле добросовестных откупщиков, каковые пострадали лишь из-за своего неуемного рвения, из-за желания принести Отечеству макси-мальный доход, превосходящий их возможности!"
Так дело о кучке зарвавшихся хапуг трансформировалось в противостояние сенаторов и всадников при активном задействовании масс. Под давлением обстоятельств мнение Курии изменилось, большинство готово было удовлетворить любые требования откупщиков лишь бы погасить конфликт. Снова со сладкими проповедями о согласии сословий выступал Цицерон, убаюкивая коллег.
Когда дело дошло до официального обсуждения навязанного сенату вопроса, все отцы Города, кроме Метелла Целера, высказались в пользу откупщиков. Катон свой протест заявить не успел, так как в качестве сенатора низшего ранга должен был говорить одним из последних, солнце же, не вынеся лицемерного словоблудия солидных мужей, скрылось за горизонтом прежде, чем очередь дошла до квесториев и трибунициев.
Невысказанная речь распирала душу Катона мучительной неудовлетворенностью. Не в силах вынести этой тяжести, он продолжал сидеть на своей скамье и тогда, когда участники собрания начали расходиться. Прошло какое-то время. Тихое отчаяние не приносило облегчения, и он медленно пошел к выходу. Кое-где у колонн группами стояли сенаторы и обменивались впечатлениями. Марк мимоходом слышал обрывки их фраз, но не придавал им значения, однако голос Цицерона помимо воли привлек его внимание.
"Ненавистное дело, постыдное требование и признание в необдуманности, – доверительно говорил знаменитый оратор узкому кругу своих друзей. – Эти выходки всадников едва можно вынести, а я не только вынес, но даже возвеличил их".
Гнев ударил в голову Катона, и он, резко обернувшись, посмотрел в глаза Цицерону. Тот, не ожидая столь стремительной атаки, не успел изгнать с лица выражение самодовольства и был застигнут врасплох во всем безобразии своего лицемерия.
"Ненавистное дело и постыдное признание... которое я не намерен возвеличивать", – перефразировал высказывание идейного оппонента Катон и, ударив противника вспышкой презрения, сверкнувшей из глаз, пошел прочь.
В целях самозащиты Цицерон беззаботно усмехнулся, но на душе у него стало гадко. Упрек Катона проник сквозь толщу его идеологических умопостроений и нанес рану в самую сердцевину его существа, туда, куда сам он не смел заглядывать. В том и заключалась сила Катона, что он умел обращаться к глубинной сути людей, казалось бы, безвозвратно погребенной под хламом ложных ценностей и установок.
– Ты, Порций, словно цепной пес: всегда голодный и злой! Никого не пропустишь не облаяв! – грубо крикнул вдогонку Марку кто-то из свиты оратора.
– Не надо, друзья, бранить его, – грустно сказал Цицерон, – он нападает на нас потому, что ценит нас выше, чем мы сами.
Последнего Катон уже не слышал. Он вышел на улицу. В нем кипели воз-мущение и обида, и декабрьская прохлада не остудила его. Контраст между высказываниями Цицерона в Курии и в кулуарах угнетал его больше, чем сам отрицательный итог официального обсуждения вопроса в сенате. Придя домой, Марк не сдержался и обо всем рассказал жене.
Римские женщины разбирались в политике и часто помогали мужьям советом, а иногда и делом, влияя на сенаторов через их жен, поскольку сами составляли как бы теневой сенат. Но Катон, будучи стоиком, все свои проблемы держал при себе, и если говорил Марции о политических баталиях в Курии, то лишь в описательном духе, удовлетворяя ее любопытство, но не ища помощи. Однако на этот раз он излил ей все свое отчаяние. "Как можно воевать с вражеским войском, имея в своем строю только предателей и трусов? Эти люди подобны болотной топи; кто попытается опереться на них, утонет в тухлой жиже, прежде чем сойдется лицом к лицу с неприятелем! – сумбурно восклицал Марк. – Понимаешь, он осознает собственную подлость и бравирует ею! Если он таков, то что же спрашивать с других? А ведь у него огромные возможности. Мне бы его способности! Однако все способности таких, как он, на службе у порока, и я один... Я больше не могу биться головой о непробиваемую стену... но не могу и отступить. Скорее бы мне погибнуть в этой безнадежной битве! Если бы два года назад там, на ступенях храма Диоскуров, наемники Непота оказались удачливее, я мог бы отмучиться еще тогда. Это была бы достойная смерть, не хуже, чем у Гракхов..."
Марция долго молчала, напряженно покусывая тонкую губу, а потом тоном авторитета, не допускающего возражений, изрекла: "Оставь, Марк, эту борьбу; ты ничего не добьешься. Тебе не совладать с ними".
Услышав это, Катон разом взял себя в руки, только с ненавистью посмотрел на жену, однако то была последняя вспышка его слабости. Он словно протрезвел, как пьяница под ледяным душем, и устыдился своему поведению. Марция нанесла ему более страшный удар, чем Цицерон с его расчетливым и артистически-изящным лицемерием, ибо самая тяжкая обида, какую способна причинить женщина мужчине, это высказать сомнение в его силах, предречь ему поражение.
На следующем заседании сената Катону, наконец, удалось выступить по делу об откупщиках, и, не имея риторических талантов, много уступая Цицерону в красноречии, он произнес такую речь, что Цицерон не посмел и рта раскрыть. Сенаторы снова изменили мнение и отказали жертвам алчности в их ходатайстве. Правда, закрыть этот вопрос не удалось, так как сторонники Красса опять сумели добиться отсрочки.
9
Эпиграфом к следующему году послужил очередной скандал. Жена знатного сенатора Марка Лукулла была уличена в связи с другим сенатором Меммием. Разгневанный Лукулл дал ей развод в надежде найти себе новую жену из числа еще не уличенных. Из-за этого развода оказались сорванными традиционные жертвоприношения богам, за которые отвечал Лукулл, что суеверными римлянами было воспринято как крайне дурное предзнаменование.
Первый политический акт года вполне соответствовал желто-грязным тонам эпиграфа. Народный трибун Гай Геренний подготовил проект закона, облегчающий Клодию переход из патрициев в плебеи, что тому было нужно для получения доступа к должности трибуна. Такой вопрос мог быть решен собранием всех граждан, а не только плебса, поэтому курировать его надлежало курульному магистрату, то есть консулу или претору. За это недостойное с точки зрения аристократии дело взялся Метелл Целер, целый год твердивший о своей приверженности интересам знати. Парадокс объяснялся тем, что женою Целера была самая ославленная из прославленных сестер Клодия. Перед своими товарищами по партии оптиматов Метелл оправдывался тем, что, официально внося на рассмотрение законопроект Геренния, он рассчитывает на вето со стороны других трибунов.
Все произошло так, как и обещал консул. Он обнародовал постановление о Клодии, а один из плебейских трибунов, верно служивший аристократии, наложил на него запрет. Клодий остался патрицием и был вынужден будоражить плебс лишь исподволь, не имея на то законных полномочий.
В целом же обстановку в Риме можно было охарактеризовать как предкризисную. Едва восстановленный авторитет сената оказался снова подорван поражением в ходе суда над Клодием. Всадники, при поддержке которых сенат отстоял Республику в консульство Цицерона, теперь большей частью были настроены враждебно по отношению к высшему сословию, а плебс, находившийся в оппозиции к власти уже несколько десятилетий, проклинал и сенаторов, и всадников, жадно прислушиваясь к призывам авантюристов о ниспровержении существующего порядка.
Разрушительная энергия масс, помимо объективных причин, определялась еще и субъективными, заложенными в характере самого римского народа того периода. Прежде основу плебса составляли крестьяне. Они твердо стояли на земле и благодаря труду знали цену жизни, а потому четко осознавали свои интересы. А на закате Республики форум заполнила разношерстная масса нахлебников, кормящихся подачками государства. Безделье разрушает хребет личности, делает ее аморфной и дезориентирует в мире. Народ, состоящий из таких людей, превращается в толпу, падкую на лозунги и сиюминутные эффекты, стремящуюся заполнить пустоту существования хоть какими-то действиями. Массы перестают быть самостоятельной политической силой и становятся орудием амбициозных личностей.
Однако, несмотря на шаткость положения государства, все пока оставалось по-прежнему благодаря отсутствию реальной альтернативы существующему строю.
Против подобной альтернативы как раз и боролись оптиматы во главе с Катоном. Поэтому, когда Помпей в расчете на помощь своего консула Луция Афрания внес на рассмотрение сената сделанные им в Азии распоряжения, вокруг них развернулась ожесточенная дискуссия. Именно в военной славе Помпея аристократы видели главную угрозу Республике, тем более что тот, кого еще в юности назвали Великим, никак не хотел становиться рядовым сенатором. Он все время держался особняком, на празднествах и во время игр щеголял в триумфальном одеянии по праву, добытому ему подхалимствующим Цезарем при посредстве Лабиена, и больше молчал, чем говорил, полагая, будто молчание для славы – то же, что холод для продуктов; в нем она лучше сохраняется.
Противодействуя Помпею в вопросе об утверждении законов относительно Азии и соответственно – о закреплении славы азиатских побед, оптиматы отчасти руководствовались и соображениями справедливости. Такие люди как Катон хорошо понимали, что сломил могущество Митридата не нынешний герой, а забытый в народе и пребывающий ныне в небрежении Луций Лукулл, Помпей же лишь собрал воедино осколки его рассыпавшейся в результате неповиновения войска победы. Конечно, Помпей как человек, достигший конкретного результата и придавший успеху Рима на Востоке новый масштаб, заслуживал первостепенного признания, однако нечестно было бы полностью игнорировать и достижения Лукулла. Мероприятия же Помпея во многих случаях имели целью перечеркнуть все, сделанное предшественником, и демонстративно попирали его славу.
Имея в виду эти соображения, Катон уговорил павшего духом и отстранившегося от дел Лукулла вернуться к активной политической жизни и обеспечил ему мощную поддержку в сенате. В данном случае друзьям Катона удалось объединиться с врагами Помпея, такими как Красс и Метелл Критский, и создать сильную коалицию. Тот же, на кого в первую очередь уповал Помпей, Луций Афраний, наоборот, оказался никчемным политиком, и его консульство Цицерон называл пощечиной Помпею.
Терпя поражение по многим пунктам своей программы и разочаровываясь в тех, кто его окружал, Магн все более нахваливал Цицерона, рассчитывая на его длинный язык. Высочайшее поощрение подвигло великого оратора на дальнейшую конфронтацию с Катоном. Цицерон по каждому поводу упрекал Катона в возникшем противостоянии сената и всадничества и на всех собраниях выступал в пику ему. Катон же в свою очередь ставил конфликт между сословиями в вину Цицерону, утверждая, что именно его потакания взяточникам и корыстолюбцам вдохнули в них дух борьбы.
Однако поддержки Цицерона не хватило Помпею для победы, и он стал искать окольных путей к цели. Одним из главных вопросов для него было обеспечение своих ветеранов землей. Если бы он не смог выполнить обещание, данное солдатам, то его авторитет как императора рассыпался бы во прах, а это означало бы конец его влиянию в государстве. Но именно такая перспектива воодушевляла оптиматов на противодействие земельному закону, выдвинутому трибуном Флавием по наущению Помпея.
Законопроект действительно был слаб и абсолютно неинтересен столичному плебсу. Достоинства в нем находил только Цицерон, разгромивший за свою карьеру множество земельных законов, но активно пропагандировавший именно этот и в сенате, и на форуме, причем тем увлеченнее, чем больше плюсов Помпей прилюдно обнаруживал в минувшем консульстве Цицерона. Так эта кукушка хвалила петуха и попутно старалась сгладить острые углы в предлагавшемся мероприятии, облагородить его и, самое главное, сделать безущербным для богачей. Все было напрасно. Столичная масса, пристрастившись к безделью, словно к алкоголю, уже не могла вернуться к нормальной жизни; ей требовались подачки и зрелища, но никак не земля, суровая по отношению к тунеядцам. Кроме того, подобные законы выдвигались чуть ли не ежегодно, и римляне привыкли к тому, что вся эта шумиха поднималась выскочками исключительно в карьеристских целях. Поэтому в данном случае плебс привлекала в происходящем только возмож-ность поскандалить со знатью, и эта возможность была использована им в полной мере. Дело дошло до того, что довольный своим центральным положением на сцене трибун Флавий вздумал сыграть действительно главную роль в этой пьесе и отважился на замечательно экстравагантный шаг: он заключил под стражу противившегося законопроекту Метелла Целера. "А чего мне бояться консула, – видимо, подумал Флавий, – когда за моею спиною возвышается сам Помпей Великий!" В ходе действия консульские ликторы сначала взялись за фасцы, чтобы выпороть трибуна-эксцентрика, но Целер их остановил и, смирив гордыню аристократа, демонстративно подчинился безродному плебею. Оптиматы подняли шум и обвинили Флавия в покушении на Республику, а его документ представили орудием разрушения государства. То, что при других обстоятельствах и при других людях было бы высокой драмой, в тогдашнем Риме стало пошлой комедией. Флавий выглядел шутом, а закон о земле оказался окончательно дискредитированным. Поэтому Помпей поманил пальцем оконфузившегося служаку и велел ему официально отозвать свой законопроект. На том все и кончилось.
Сенат одержал победу над Помпеем и плебсом, но настроение в Курии не было победным. Из-за конфликта со всадниками и раскола в среде нобилитета сенат уже полгода не мог принять ни одного постановления. Все начинания либо тонули в разногласиях в самой Курии, либо блокировались в собрании. Вдобавок умер Лутаций Катул, признанный лидер нобилитета, фигура, при всех своих минусах, по тем временам значительная.
Между тем административный год подошел к своей традиционной кульминации. Настала пора выборов.
Первым разочарованием для Катона стала неудача его друга Марка Фавония, не прошедшего в трибуны из-за происков конкурентов. Вначале Фавоний и Катон попытались восстановить справедливость через суд, но затем оставили эту малоперспективную затею, чтобы сконцентрировать все силы на борьбе с более опасным противником.
Накануне выборов в столицу вернулся из Испании Цезарь, который использовал свое кратковременное пропреторство с наивысшей эффективностью. Несколько месяцев назад он уезжал из Италии будучи мелким политическим авантюристом и крупным должником, его отъезд походил на бегство от кредиторов, теперь же он возвратился в Рим богачом и императором, жаждущим триумфа и фасц. Молва гласила, что Цезарь покорил дикие племена Лузитании, уладил финансовые споры между провинциалами и столь щедро одарил солдат, что удостоился от них звания императора, каковое теперь предъявил сенату в качестве обоснования притязаний на высшую почесть.
Если Цезарь, даже не имея средств, умел покорять народ щедростью, то, разбогатев, он довел своих почитателей до исступления. Любовь солдат и целенаправленная щедрость до такой степени усилили его популярность, что победа над скромным горным народом, никогда прежде не вызывавшим аппетита римских наместников, сравнилась в представлении обывателей с завоеванием Азии, и о военных достижениях Цезаря говорили даже больше и громче, чем о победах Помпея.
Затопив Рим лавиной внезапной славы, сам Цезарь остался в окрестностях столицы, чтобы добиваться уже официальной славы в виде триумфа. Торжества требовали подготовки, и парадный въезд полководца в город мог состояться только после выборов. Это не устраивало императора, так как он хотел слышать не только восхищенные возгласы и аплодисменты народа, но и скрип курульного кресла. Поэтому Цезарь подал прошение в сенат о позволении ему заочно баллотироваться в консулы.
Сенаторы были рады продемонстрировать лояльность по отношению к этой новой, нежданно вспыхнувшей звезде политического небосвода, сияние которой выглядело особенно слепящим на суровом фоне войска. Увы, со времени Суллы сенаторы привыкли смотреть на человека, сопровождаемого легионами, сквозь искривленное стекло страха перед проскрипциями, и их разум при его оценке всецело подчинялся эмоциям. Едва они перестали опасаться диктатуры Помпея, как у стен города вновь появилось войско и следующий претендент на трон. Однако не только легионеры за стенами, но и толпы народа внутри стен активно побуждали отцов города идти навстречу пропретору с распростертыми объятиями. Да и в самом сенате была сильна группа поддержки Цезаря, существенно пополнившаяся его кредиторами, воодушевленными воскресшей из праха надеждой получить старые долги.
Против насилия над безгласными законами в угоду звенящему оружием Цезарю, конечно же, выступил Катон, который с обычным упорством в одиночку пытался перекрыть шум лицемерного восхищения. Однако на этот раз чуда не произошло: Катона не услышали. Зато хорошо услышали Цезаря. Соискатель консульства счел себя достаточно сильным, чтобы не просто отбиваться от острых выпадов Катона, как то бывало прежде, а – перейти в контрнаступление.
Цезарь чувствовал, что Катон видит его насквозь, хотя и не признавался себе в этом. С Катоном бесполезно было играть в доброжелательность, милосердие, демократию и, тем более, в щедрость. Этот странный человек пребывал в ином измерении, он жил в мире сущностей, тогда как другие обитали в хаосе явлений. Если бы Цезарь вступил с ним в открытый бой, то мгновенно оказался бы разоблаченным, лишенным роскошной пропагандистской тоги, расшитой золотом красивых слов, а в его планы не входило показываться народу во всей наготе своих истинных стремлений. Поэтому этот искусный стратег стал издали забрасывать опасного противника метательными снарядами особого свойства. Используя специфику восприятия своего поколения, ориентирующегося в жизни по формальным признакам предметов, событий и лиц, он постарался изменить образ Катона в глазах масс.
Исказить его до такой степени, чтобы превратить в злодейский, выглядело делом безнадежным, и Цезарь, как тонкий политик, не стал повторять ошибку Непота, а придумал для Катона новый имидж, идею которого, впрочем, почерпнул в речи первого насмешника Рима Марка Цицерона, произнесенной им во время суда над Муреной. Цезарь решил обрядить своего врага в пестрый балахон клоуна. Тогда, по мысли Цезаря, чтобы тот ни делал и чтобы ни говорил, люди всегда будут видеть и слышать только шута, следовательно, и реакция их окажется соответствующей. В этом случае трагедия им покажется комедией, под смех которой он, Цезарь, сможет обстряпать свои дела. Именно тогда к репутации Катона были приклеены ярлыки, не смытые до сих пор. "Это – чудак, потонувший в вымышленном мире греческих словес, узколобый догматик, ничего не понимающий в жизни, – говорили о нем с подачи Цезаря, – он ищет законы там, где их не может быть, ибо единственный закон для людей – свобода!" Однако Цезарь не удержался в рамках разумной интриги и неосторожно обнажил собственное нутро, прибегнув к махровой клевете. "А ведь наш Порций – малый не промах! – на-шептывал он сплетникам, всегда готовым растиражировать все, произнесенное приглушенным голосом, все, что отдавало гнильцой. – В сенате он разглагольствует о стародавней добропорядочности, а сам проводит ночи в беспробудных пьянках со своими дружками, коих со свойственной ему патетикой именует философами, и жену, между прочим, уже не одну поимел. Перед народом он зудит о бескорыстии, а в былое время крупно попользовался состоянием племянницы, когда определился быть ее опекуном. Уж я-то знаю об этом из первых уст, мне Сервилия сама об этом говорила. Но и это не все! Он обшарил умершего брата Цепиона и выгреб всю мелочь, так сказать, просеял его прах через сито в надежде найти крупицы золота! Так-то вот! Хотите, верьте, хотите – нет. Я лично, глядя на него, готов поверить чему угодно. Скользкий тип. Слишком принципиальный, когда дело касается других, а сам..."
Позицию Катона в вопросе с триумфом Цезаря и его заочным соисканием консульства спродуцированная молва объясняла просто: он завидует чужому успеху, потому как сам – бездарь, не способный ни на что, кроме повторения избитых устаревших истин. До выборов оставались считанные дни, и сенат торопился провести закон о незаконном избрании Цезаря. Против Катона были даже друзья. "Пусть он лучше получит консулат из наших рук, чем возьмет силой диктаторский жезл, – говорили они, – человека, стоящего во главе легионов, раздражать опасно". Когда настал день обсуждения законопроекта в сенате, Цезарь уже казался просто-таки обреченным на консульство и триумф. Однако Катон решил биться до победы.
Прения не были долгими. Сенаторы поочередно вставали, произносили имя Цезаря, увенчивали его словесным лавром и коротко оповещали Курию о том счастье, которое они испытывают, удовлетворяя желание победителя лузитанских скалолазов. Довольно скоро наступило время Катона.
"Напомню вам, отцы-сенаторы, – в привычной, несколько тяжеловесной манере начал он, – что два года назад мы отказали одному заслуженному императору в его просьбе относительно изменения порядка проведения магистратских выборов, а сегодня чуть ли не с ликованием стремимся угодить в похожем деле другому просителю. Чем же вызван столь крутой поворот?
Поскольку все предыдущие ораторы ликовали, а это похвальное занятие несовместимо с прозой скучного анализа, то придется мне, сухому человеку, не склонному к беспричинным восторгам, взять на себя обузу размышления над происходящим. Однако провести свои рассуждения я надеюсь с вашей помощью.
Так почему же мы на тот же вопрос, что звучал два года назад, готовы дать другой ответ? Изменились мы сами?
Мне не хотелось бы испытать стыд подобного признания, а потому отло-жим ответ до окончания собрания, дальнейший ход которого, возможно, отменит сам вопрос.
Рассмотрим другой случай. Если мы не стали хуже, то, значит, второй проситель достойней первого? Может быть, так и есть? Может, его деяния действительно значительнее? Может быть, Лузитания для нас важнее Азии? Десяток горных хребтов на западном побережье Иберии больше Понта, Каппадокии, Пафлагонии, Армении, Мидии, Колхиды, Альбании, Сирии, Киликии, Месопотамии, Финикии, Палестины, Иудеи и Аравии вместе взятых? Может быть, избиение бедных варварских племен, не сделавших нам ничего дурного, почетнее победы над Митридатом, уничтожившим более ста тысяч наших сограждан в трех продолжительных войнах? Или захватывать лузитанские города исключительно с целью получения добычи, врываться в добровольно открытые ворота и грабить сдавшихся, сея повсюду ненависть к Риму, есть большая доблесть, нежели восстанавливать целые страны, пришедшие в упадок, и возрождать народы Азии, обращая их в наших союзников? Может быть, обирать провинцию и объявлять войну невиновному ради удовлетворения требований своих кредиторов приличнее римскому магистрату, чем наполнять государственную казну законной добычей, завоеванной у настоящего врага? А может, бросить провинцию до срока, даже не дождавшись преемника, чтобы успеть на выборы, благороднее, нежели опоздать на них ради лучшего устройства дел в порученной твоему попечению стране? Может быть, Цезарь и впрямь принес больше пользы государству, чем Помпей, и потому заслуживает уступки в том, в чем было отказано Помпею?"
Катон остановился и обвел Курию выразительным взглядом, ожидая под-держки. Но он увидел полнейшее равнодушие зала: уши сенаторов слиплись от сладости похвал Цезарю, и Катона никто не слышал, кроме его недругов, ибо недруги, как известно, никогда не дремлют.
– Сравнение просьбы Цезаря и Помпея неправомерно, – бросил Тит Лабиен, принадлежавший к числу последних.
– А ему-то что? – усмехнулся Курион, молодой задиристый человек из окружения Клодия. – Порцию лишь бы возражать, лишь бы злобствовать. Для него все враги, кто выше его самого. Пусть победа над Лузитанией не столь масштабна, как над Азией, но Катону и такого успеха никогда не добиться, потому он теперь нападает на Цезаря, как еще вчера – на Помпея!
В курии раздался злобный смешок.
Катон опешил. Ему захотелось уйти прочь и резко хлопнуть дверью, чтобы демонстративным протестующим поступком навсегда воздвигнуть преграду между собою и этими людьми. Но он был Катоном, а потому остался на месте и заговорил почти спокойным тоном.
"Вот вы, отцы-сенаторы, не услышали меня, но живо откликнулись на ед-кую реплику. Вы поверили, будто человек, выступающий перед вами, обуреваем низменными помыслами. Вы легко верите в дурное и совсем не верите в доброе, а такие люди не могут отличать истинного от ложного. Однако чувство истины является главным нравственным чувством и его отсутствие означает моральную слепоту. Мораль же – это то, что регулирует отношения между людьми в обществе. Представьте, будто волк лишился нюха, газель – слуха, а орел – зрения. Волк и стервятник неминуемо погибнут от голода, а газель станет легкой добычей первого же хищника. В природе невозможно ориентироваться без физиологических чувств, а в обществе – без нравственных. Люди с атрофировавшимся чувством истины являются легкой добычей негодяев. Кто-то может вступиться за них и вызволить из беды один раз или два, но в конечном итоге они все равно обречены, если только вдруг не прозреют.
Вот и вы сейчас полагаете, будто человек, сумевший сказочно разбогатеть на государственной должности за какие-то полгода, бескорыстен, а выступающий против того, кому, по общему мнению, теперь выгодно угождать, движим алчностью. Вы верите, будто человек, равняющийся на Александра Македонского, утверждающий, что лучше быть первым в альпийской деревушке, чем вторым в Риме, взявший себе жеребенка с дефектом копыта только потому, что некий халдей предсказал его хозяину господство над миром, демократичен и печется об общем благе. Вы считаете, будто человек, требующий попрать закон ради его избрания в консулы, станет законопослушным консулом!
Какая участь ожидает тех, кто руководствуется подобной логикой? Это уже не слепота, а нечто еще более худшее. Это некое антизрение. Овца с таким видением мира кинется не от волка, а прямо к нему в пасть! А разве не так поступают многие из нас? Например, сегодня?"
– Прекрати свои происки, Порций, – раздался голос из окружения Клодия, – ты, трибуниций, говоришь уже дольше, чем все консуляры и претории вместе взятые!