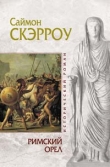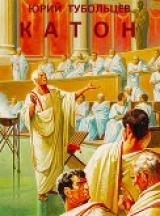
Текст книги "Катон (СИ)"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 50 страниц)
В ЖИЗНИ – СМЕРТЬ, А В СМЕРТИ – ЖИЗНЬ
1
Рок обреченности выпил краски жизни из восприятия Катона подобно тому, как осеннее ненастье обесцвечивает природу унылой серостью. И с этим бледно-немощным, словно лицо умирающего, образом мира циничным сарказмом контрастировал шумный хаос вульгарного торжества нобилей. Они мнили себя победителями на века и беззаботно ждали лета, тогда как их успех был всего только проблеском солнца в ноябрьском сумраке перед надвигающейся зимой цивилизации.
Прожорливые сенаторы ощипали лавр Помпеевой победы, оставив от него лишь голые прутья воспоминаний. Пока они праздновали и делили на части успех, Цезарь успел мобилизовать разбитые легионы, снова подчинить их своей воле и отвести на безопасное расстояние.
Правда, Помпей попытался предпринять преследование отступающего противника. Цезарь еще с вечера, сразу после битвы, отправил обоз с ранеными и поклажей в свою ставку в Аполлонии, а под утро вывел и легионы. Помпей полдня уговаривал нобилей пойти и наконец-то взять ту победу, о которой они так много и браво рассуждали. Потеряв меньше времени, чем хотелось бы сенаторам, Помпей выступил в поход. Однако штабное настроение снизошло в массы и внесло в войско разброд. Дисциплина в легионах Цезаря основывалась на уважении к императору и многолетней выучке. Порядок в армии Помпея поддерживался авторитетом полководца, но в еще большей степени страхом перед противником. Теперь, когда последний фактор исчез, солдаты с недоумением воспринимали приказы центурионов и трудно следовали им. С такой армией да еще на пересеченной местности угнаться за Цезарем было невозможно. Отступающие успешно добрались до Аполлонии. Тогда Помпей принял другое решение.
В то время, когда Великий Помпей усиленно воевал со своим бывшим тестем, к нему на помощь с Востока во главе двух легионов шел его новый тесть Метелл Сципион. Цезарь отрядил против него легата Домиция Кальвина с соответствующим войском. С тех пор Метелл и Кальвин маневрировали друг относительно друга в поисках позиционного преимущества, но без достижения такового. Теперь Помпей вознамерился стремительным марш-броском настичь Домиция и расправиться с ним прежде, чем грозный хищник в образе Цезарева войска успеет зализать раны. Однако не таков был Цезарь, чтобы позволить дважды опередить себя. Он немедленно выступил в поход со своими двужильными легионерами и, двигаясь труднодоступными горными тропами, сумел вызволить Домиция из беды. Затем он сделал попытку атаковать Метелла Сципиона, но Помпей в свою очередь не позволил ему этого.
Таким образом, два императора вновь оказались лицом к лицу, причем в примерно равных условиях. По всей видимости, войско Цезаря численно несколько уступало Помпеевой армии, особенно в коннице, но, конечно же, не в два раза, как заявлял великий император-писатель. Если бы информация Цезаря соответствовала действительности, Помпей не уклонялся бы от сражения, и вообще, его тактика была бы иной. Однако Цезарь выиграл уже в том, что перенес центр событий в глубь материка, подальше от моря, где противник имел подавляющее преимущество.
После победы у Диррахия перед Помпеем открылось несколько путей к окончательной победе. Те, кто все еще страшился матерых Цезаревых легионеров или хотел свести на нет людские потери, советовали ему возвратиться в Италию, поскольку там предполагался легкий и быстрый успех. Обосновавшись в столице, Помпей в глазах всего мира обрел бы статус официального главы государства, а Цезарь выглядел бы изгоем, да еще лишенным былого ореола непобедимости. Такая стратегия действительно сулила Помпею большое преимущество, однако только на некоторое время. Очевидно, что Цезарь сумел бы удержать войско в повиновении и постепенно утвердил бы свои позиции на Востоке, тем более что он мог воспользоваться материальной базой, подготовленной Помпеем. За бравым строем патриотических речей таких советников просматривалось желание нобилей поскорее вернуться в свои дворцы и виллы к ордам слуг и гаремам рабынь. В другом случае Помпей мог бы не преследовать Цезаря, а, контролируя побережье, как бы держать его в осаде в небогатой ресурсами стране, вынуждая вновь и вновь предпринимать рискованные шаги. Однако такой вариант действий означал бы утрату только что добытой стратегической инициативы и моральное поражение, что в гражданской войне чревато наихудшими последствиями.
Помпей поступил самым разумным образом, пустившись преследовать побежденного противника, чтобы довести победу до логического завершения. Достичь нужного результата ему помешали праздные настроения штаба и, конечно же, энергичные и безупречно точные действия Цезаря. Тем не менее, шансы соперников перед решающей схваткой выглядели как равные. Подавляющее качественное превосходство воинов Цезаря компенсировалось подавляющим численным преимуществом конницы Помпея.
Однако и теперь время все еще работало на Помпея, так как Цезарю трудно было содержать войско во враждебной стране и ему приходилось грабить города, усугубляя всеобщую ненависть к себе и попутно описывая в своих "Записках...", как радовались местные жители вторжению его "вандалов". Поэтому Помпей не спешил сразиться, но и не уклонялся от битвы.
Он готов был вступить в бой, но на выгодной позиции. Цезарь же не хотел давать противнику позиционного преимущества и каждый раз после демонстрации силы у своих укреплений отводил легионы обратно в лагерь.
В очередной раз не дождавшись, чтобы противник сошел вниз со своего холма, Цезарь решил вновь изменить стратегию и покинуть Фессалию, вконец истерзанную его молодцами. Однако едва он отдал приказ к отступлению, как увидел, что строй противника дрогнул и зашевелился. Помпей, будто почувствовав смену настроения соперника, словно движимый роком, в последний раз в своей жизни дал сигнал к бою. Цезарь, воспрянув духом, с готовностью ответил тем же.
Помпей главный упор сделал на атаку конницы и легкой пехоты, чтобы, опрокинув фланг противника, зайти ему в тыл и ударить по железным легионам, завоевателям Галлии, с двух сторон. Единственное, что мог в этой ситуации противопоставить врагу Цезарь, это выделение специальных подразделений пехоты, которые прикрывали бы уязвимый фланг и тыл войска; другой фланг был защищен рекою. Так он и сделал, построив позади обычной фаланги из трех линий четвертую линию для отражения конного нападения.
И вот римские всадники, цвет государства, сенаторские сынки в роскошных золоченых доспехах на прекрасных скакунах, украшенных драгоценной сбруей, высокообразованные, ухоженные, напомаженные, с тщательно уложенными локонами, модные, умеющие произносить многочасовые помпезные речи на форуме, философствовать за пиршественным столом с кубком сказочно дорогого вина в одной руке и дешевой проституткой – в другой, владеющие искусством обращать в проституток жен друзей и своих сестер, проматывать отцовские состояния и любящие жаловаться на несовершенство мира, упадок нравов и нерешительность Помпея, захватывающим дух аллюром неслись на серые ряды Цезаревых ветеранов, не обладавших богатствами, чуравшихся роскоши, как заразной болезни, и не умеющих ничего, кроме как биться насмерть и побеждать любого врага. Когда самоуверенное блистательное богатство со всего маху налетело на стену простой доблести, оно разбилось об нее, как морская волна – о гранитный пирс, и пеной разбрызгалось по равнине. Богатство узрело выгоду в немедленном бегстве: увы, оно, как вода, всегда течет туда, где ниже. Римская аристократическая молодежь того времени, эти дети роскоши и разврата, не привыкли встречать сопротивления и ударились в панику при первом же полученном отпоре. Кроме того, Цезарь нанес им психический удар. Он велел солдатам поднять копья выше обычного и бить всадников в лицо, о чем милосердно умолчал в своих "Записках...". Писаные красавцы устрашились попортить доблестно лелеемую внешность и предпочли утратить миф о своих внутренних достоинствах.
Едва Помпей увидел, как бежит его конница, он воскликнул, что его предали как раз те люди, на которых он более всего полагался, и с тем удалился в свою ставку. И впрямь, что он мог сделать для Рима, если те, кто считался лучшими сынами Отечества, оказались трусливее азиатов и ничтожнее крыс, бегущих с тонущего корабля, ибо со страху опрокинули корабль, который был на плаву.
2
«Если победит Цезарь, я умру, если Помпей – уйду в изгнание», – сказал Катон друзьям перед тем, как началось преследование отступающего Цезаря. Его слова разнеслись по лагерю и дошли до Помпея. Однако Великий не поверил в столь миролюбивое настроение Катона. Помпей не мог охватить своим разуменьем личность Катона, и то, что лежало за пределами его понимания, пугало неизвестностью. Кто такой Катон? Составляет ли его душа десять легионов, как войско Помпея, или пятнадцать, а может быть, и все двадцать? Как строить стратегию, имея такого союзника, которому по силам превратиться в конкурента?
Помпей считал, что активным преследованием противника он помешает Цезарю собраться с силами и доведет его войско до полного распада. Вопрос о победе представлялся ему лишь вопросом времени, и он уже думал о будущем. Перспектива распустить армию и раствориться в сенате, как он делал прежде, не прельщала его. Во-первых, он не умел реализовывать себя в качестве сенатора; во-вторых, война окончательно выявила, сделала очевидным кризис государства, показала ничтожность знати и аморфность плебса; в-третьих, в ходе кампании он проделал такую гигантскую работу, что казалось глупым отказаться от ее плодов. Невозможность возврата к прежним республиканским порядкам понимал и Катон, что отразилось в его фразе о своей дальнейшей судьбе. Однако именно Катон мог стать центром кристаллизации всех республиканских сил и составить политическую конкуренцию Помпею. Подобную картину ближайшего будущего самыми что ни на есть адскими красками рисовали императору и подхалимы, которых он, так ничему и не научившись, по-прежнему считал друзьями. Ему казалось, будто они верно освещали ту загоризонтную область натуры Катона, которая была не доступна его взору, и он уверился, что там в самом деле зреют грозовые тучи. Поэтому, отправляясь в решающий поход, Помпей предпочел окружение этих друзей, а Катона оставил в Диррахии, поручив ему с пятнадцатью когортами охранять главную базу республиканцев. В помощь Катону он придал всех тех сенаторов, кто, по его мнению, мог помешать ему воспользоваться плодами победы над Цезарем. Катона он поставил во главе этого созвездия последних независимых душ Рима потому, что был уверен: в случае неудачи в битве с Цезарем именно Катон окажется самым верным его другом.
Катон слишком хорошо знал Помпея, слишком привык ко всеобщему недоверию и неудачам, слишком отчетливо ощущал рок, довлеющий над Римом, чтобы удивляться такому ходу событий. Он не смирился с пораженьем, но знал, что не победит. Сам факт борьбы стал для него смыслом, он простирал надежды вперед, за пределы своей жизни и видел цель в том, чтобы передать клокочущую в нем страсть борьбы и чувство правды потомкам. Зная, что не победит, он все же бился за победу и с римской непоколебимостью верил в нее. Но он верил в победу тех людей, кто будет достоин ее, и уже тогда шел в атаку в одном строю с ними, с теми, которые с неизбежностью сметут прочь всех Цезарей и Помпеев, с тою неизбежностью, с какою созидание должно восторжествовать над распадом, жизнь – над смертью.
Катон добросовестно исполнял свои обязанности коменданта лагеря. Хо-зяйство у него было огромное и забот хватало, чтобы врачевать душевные боли повседневным трудом.
И вот наступил день, которого не могло быть, который при всей прозорливости Катона и постоянном ожидания худшего, застал его врасплох, как врасплох застает всякого человека смерть, сколько бы он ее ни ждал и как бы он к ней ни готовился. Весть о поражении Помпея разом всколыхнула лагерь республиканцев под Диррахием, а следом потрясла весь средиземноморский мир, распространившись по свету со скоростью и разрушительной мощью цунами. Рухнула в бездонный провал истории гигантская семисотлетняя цивилизация. В тот день под Фарсалом заново погибли Фурий Камилл, Сципионы, Катоны и миллионы Децимов, Квинтов и Септимиев, всегда побеждавших при жизни, но оказавшихся уничтоженными трусостью ничтожных потомков. И над пропастью, в которой дымились руины римской цивилизации, остался стоять один-единственный, самовлюбленный, с неуемным тщеславием человек, один вместо всех.
Только узнав исход самого трагического для Рима сражения, Катон понял, сколь велика на самом деле была разница между Помпеем и Цезарем. При всей своей неудобности для Республики Помпей, однако, не означал ее гибели. Его победа дала бы Риму время, а, следовательно, и шанс на будущее, Цезарь же нес немедленную смерть.
Внешне Катон воспринял весть о поражении со стоической невозмутимо-стью. Он лишь переспросил название города, в окрестностях которого так зло решилась судьба государства. И при слове "Фарсал" ему вспомнилась каменистая фессалийская равнина, зараженная неведомой болезнью, где когда-то давно, в бытность службы в Македонии, в его обозе внезапно полегли все животные, а горожане отказали в помощи, сославшись на какие-то празднества. Как вычурна и предупредительна бывает судьба, сколько трагических меток расставляет она в жизни, чтобы в час беды с саркастическим злорадством указать на свое могущество и всеведение! Какое зловещее чувство вызвала тогда у Катона эта негостеприимная местность! И если бы он знал, что она готовит его Отечеству, то всю ее перекопал бы голыми руками и превратил бы в непроходимую пустыню! Но случилось наоборот, и теперь раскаленная до боли пустыня была в его душе.
Будучи стоиком, Катон, однако, имел сердце римлянина, и его видимое спокойствие было бесстрастием поля боя, залитого кровью и заваленного трупами, безмолвием кладбища, под саваном тишины скрывающим сотни трагедий и тысячи разрушенных надежд. Каждый римлянин являлся живой клеткой тела государства и одухотворялся его общей животворной силой, потому дух римлянина и был столь могуч. И вот теперь хребет государства, опираясь на который, каждый гражданин обретал уверенность и нрав победителя, рассыпался во прах, и люди превратились в живые песчинки, микроскопические "я", ползающие по огромному враждебному миру, пища от страха за свое существование.
Великий титан возрастом в семьсот лет и ростом во все Средиземноморье, живший в Катоне, как и во всех римлянах, являвшийся его душою, умом, гордостью, характером и славой, рухнул замертво, неподъемным грузом придавив к земле опустошенную тщедушную человеческую оболочку. Никогда более римлянину не поднять голову, никогда не увидеть неба, не узреть звезд и солнца, никогда ему более не бросить взгляд далее собственного чрева.
Катону казалось, будто он умер заживо, и осталась лишь одна грань жизни, позволяющая ему во всех подробностях, во всем кошмаре и безобразии видеть свою смерть. Он словно в полузабытьи медленно погружался под воду кверху лицом и в размытых очертаниях чуждой среды видел блики света на поверхности, там, где осталась жизнь. В этих бликах мерцали образы деревьев, свесивших ветви с берега, в их скачущем ритме чудилось пение птиц, реявших в синем небе, в них отражалось солнце. Но он погружался все глубже, и свет мерк, блики растворялись в большом бледно сияющем пятне, а в мозгу нарастал звон от давления студеного слоя, отделяющего его от поверхности. Сколь малы были проявления жизни, ставшие последним утешеньем и последним соблазном утопающему! Однако по ним как никогда ярко можно было судить о масштабе и красках настоящего мира, оставшегося там, наверху, куда уже не было возврата. Как значение воздуха для человека можно оценить тогда, когда его не хватает для дыханья и наступает удушье, так и значение потерянного мира в полной мере осознавалось только теперь, когда Катон тонул в пучину безвременья и ловил отсветы жизни в бликах воспоминаний на границе былого и небытия. Ему вновь и вновь виделась каменистая фессалийская пустыня, в своей скудости и безжизненности представлявшаяся циничным ликом судьбы Рима. И тогда не было для него врага страшнее, чем собственный мозг, слепящей болью высвечивающий ему могилу Отечества.
Цезарь похвалялся, будто у него погибло при Фарсале двести солдат, а у Помпея – пятнадцать тысяч. Правда, историк из его же лагеря дает число в шесть тысяч, но милосердный Цезарь не мог позволить потомкам судить о его доблести по столь незначительной цифре и потому в мемуарах увеличил количество убитых им соотечественников в два с половиной раза. Очевидно, этому человеку было невдомек, что при Фарсале погибли все римляне, сколько их ступало по земле во все века. Зато все эти смерти тяжким грузом возлегли на Катона. Он страдал за всех и за всех винил себя. Только теперь он в полной мере понял жестокость своей судьбы, проявившуюся в отказе Помпея взять его с собою в поход. Большая часть побежденного войска сдалась Цезарю и таким образом уцелела, но Катон, будь он там, конечно, не ушел бы с поля боя живым.
Да, судьба не позволила Катону вовремя и со славой уйти из жизни, взвалив на него ношу необходимости жить и после смерти, отвечать за все грехи соотечественников и искать выход из безвыходного положения. Было ли это наказанием небес или, может быть, наоборот, являлось высочайшим почетом, ибо кто другой был способен удержать на плечах смертельно раненное Отечество? Катон знал, что он все еще не имеет права умереть. Теперь, когда все земные труды пошли прахом, смерть осталась последним средством Катона, чтобы воздействовать на мир. Он был обязан вложить в свою смерть потенциал жизни, способный возродить цивилизацию, впрессовать в нее столько нравственной силы, чтобы, прогремев над человечеством, она, подобно космическому взрыву, рождающему новые миры, одухотворила дряхлую цивилизацию и подвигла ее к акту обновления.
3
Встав с ложа утром следующего после получения известия о фарсальском сражении дня, Катон с недоумением обнаружил на небе признаки рассвета и с тягостным чувством осознал, что и дальше над землею будет регулярно всходить солнце. Ему безразлично, на что смотреть и кому светить. Небеса не заметили драмы, произошедшей на земле. По-прежнему будут с рабской обреченностью отмерять круги в безбрежном океане абсолютного Ничто планеты и холодно сиять звезды. Космический механизм в отличие от людского не знает сбоев. Но где же божественный разум, где вселенская душа? Неужели она не дрогнула при виде земной катастрофы, не сжалась от боли? Но если она не способна ощутить глобальное страдание целой цивилизации, то какая же это душа? Может быть, она существует лишь в умозрительных конструкциях философов как абстракция, с помощью которой они вносят порядок в свой воображаемый мир, не умея утвердить его в реальности? Однако существует лишь то, что действует...
"Я все еще существую, а значит, должен действовать, – прервал череду своих стихийных размышлений Катон. Затем он зло сказал себе: – А воле к действию следует поучиться у Космоса, у этого солнца, у утра! Дрогнув, остановившись, они уничтожат мир, а, продолжая движенье, дают ему шанс..."
Он окончательно смыл с себя дурные сны и мысли в холодном бассейне и велел горнисту играть общий сбор.
"Воины, в Фессалии наше войско потерпело поражение, – резко объявил с возвышения претория Катон, когда солдаты выстроились на главной площади лагеря. – Это событие налагает особую ответственность на нас. До сих пор участь государства решали другие, мы лишь помогали им. Теперь же судьба Рима стала нашей судьбой. Мы сделались центром державы.
У нас есть все: снаряжение, продовольствие, укрепленья, флот. Мы должны принять всех сограждан, протестующих против порабощения римлян, дать им приют, помочь восстановить силы и вдохнуть в них дух борьбы. Здесь Республика нанесла первый значительный урон врагу, и отсюда она отправится в путь за победой во всей войне. И это движение должны организовать и возглавить мы. Нам с вами выпала почетная, святая миссия, но, что еще важнее, миссия обязательная. Мы оказались на передовом рубеже войны. Кроме нас теперь некому позаботиться о раненом Отечестве, кроме нас теперь некому поднять на борьбу последних настоящих граждан, последних свободных людей в наступающем царстве рабства. Мы должны это сделать, а значит, сделаем, ибо мы – римляне! Иного нам не дано, иначе быть не может, и не будет!"
После обращения к солдатам Катон зашел в избу, служившую преторием, и вызвал к себе военных трибунов и центурионов старших рангов. Им он приказал ужесточить дисциплину во вверенных подразделениях, отменить отпуска солдатам и выставить караулы на близлежащих дорогах, чтобы встречать отступающие из Фессалии остатки разбитого войска и организованно направлять их в лагерь.
Затем Катон начал переговоры с сенаторами и вождями союзных отрядов, а с некоторыми встречался наедине.
Среди высших сановников, находившихся в стане республиканцев, многие оказались там из личной привязанности к Помпею или заинтересованности в нем. Им Катон внушал, что полководец жив и благополучно спасся, иначе стало бы известно о его гибели или пленении. О том же, по его словам, свидетельствовали и поспешные действия Цезаря, бросившего победоносное войско и пустившегося в путь не иначе как на поиски своего соперника. "А раз Великий Помпей жив, наше дело не проиграно, – утверждал Катон, – и наш с вами долг удержать лагерь, собрать остатки разбитого войска и вверить их императору в качестве потенциала для будущей победы".
Другую категорию составляли недруги Цезаря. Им Катон объяснял, что милосердие завоевателя Галлии есть лишь политический ход, обусловленный логикой определенного этапа гражданской войны, и, когда минует этот этап, когда положение Цезаря упрочится, он расправится с объектами его нынешнего милосердия, как победитель расправляется с побежденными. Отбив у этих людей охоту с риском для жизни на себе испытывать искренность Цезаря, Катон ориентировал их на те же задачи по мобилизации всех оставшихся антимонархических сил.
И наконец, взывая к истинным республиканцам, Катон говорил, что поражение Помпея, до крайности осложнив ситуацию, одновременно очистило борьбу за спасение государства от всяческой корысти, от любых посягательств индивидуализма. "Жив Помпей или нет, готов к продолжению войны или сломлен неудачей – в любом случае его значение упало. Он теперь уже не повелитель, не "Царь царей", как называл его Фавоний, поражение сделало его простым республиканцем, однако более последовательным, чем прежде, он теперь такой же, как мы. Поэтому нам будет сложнее сейчас, но зато проще потом, – подытоживал Катон, – и если мы преодолеем нынешний кризис, то Республика уже точно победит! Теперь мы, наконец-то, можем идти в бой не за Помпея или против Цезаря, а за сам Рим!"
Проведя такую агитацию среди всех фракций своих союзников, Катон создал из них своеобразную коалиционную партию, заряженную на дальнейшую борьбу. На собрании этой партии были выработаны организационные и политические мероприятия, которые позволили Катону действовать как бы от имени Республики.
Первым делом он разослал гонцов ко всем легатам сенатских войск, рас-квартированных в разных уголках Средиземноморья, с призывом собраться на острове Керкира. Были направлены посольства к властям союзных общин и городов с тем, чтобы убедить их сохранить верность Республике. В район Фарсала отправились поисковые группы, чтобы разыскивать своих людей и организованно возвращать их в лагерь. Одновременно Катон начал работы по перемещению материальной базы республиканцев из-под Диррахия на Керкиру на случай прихода Цезаря. При сложившейся расстановке сил удержать прежний лагерь не представлялось возможным, тогда как Керкира была недоступна Цезарю из-за его слабости на море. Второй причиной, побудившей Катона стремиться на Керкиру, было желание в условиях распространения панических настроений утвердить свою власть над флотом, базировавшимся на этом острове. И вообще, Катон считал, что теперь войну следует вести в основном морскими силами, совмещая их действия с проведением отдельных операций на суше. В какой-то степени он намеревался позаимствовать стратегию пиратов, за двадцать лет до этих событий создавших нечто вроде морской республики и долгое время господствовавших в Средиземноморье.
Помимо этого, Катон постоянно выдумывал какие-нибудь работы для солдат, чтобы отвлекать их от дурных мыслей, так как, несмотря на его ободряющие обращения и другие меры по поддержанию дисциплины, в войске нередки были вспышки паники, случаи дезертирства и погромов в Диррахии. Легионеры все в большей степени становились профессионалами и все меньше были гражданами: их не интересовала Республика, они хотели служить платежеспособному преуспевающему императору, а таковым являлся Цезарь. Марк воспринимал подобные настроения войска как неизбежное зло своего века и, подавляя брезгливость стоической выдержкой, терпеливо возвращал солдат на путь гражданского долга.
Катон встречался с каждым отрядом, прибывающим из Фессалии, и подолгу расспрашивал воинов о роковом сражении, затем – о семье, доме, объяснял, что со всем этим станет в случае гибели государства, после чего коротко, но веско, по-стоически, убеждал их в необходимости дальнейшей борьбы. С офицерами и легатами он беседовал персонально. Многие из высших чинов сената производили более удручающее впечатление, чем потрепанные и израненные солдаты.
Явился к Катону и Цицерон. В фарсальской битве он участия не принимал по болезни. Катон так и не понял, была ли эта болезнь физической или дипломатической. Однако он и не стал особенно разбираться в этом вопросе, так как важнее было другое.
Вообще, Катон приветствовал Цицерона радостнее, чем кого-либо. Он был дорог ему и как друг, и как честный гражданин, и как проконсул. Увы, Катону не довелось стать консулом, и теперь ему, всего лишь преторию, приходилось фактически командовать сенаторами консульского звания. Для республики такое положение было ненормальным, и Катон стремился вернуть ситуацию в рамки законности даже ценою убытка самому себе и, что болезненнее, ущерба общему делу. Поэтому он подыскивал подходящую кандидатуру для передачи власти, и Цицерон, по его мнению, в своих положительных качествах подходил на роль предводителя республиканцев лучше других, тем более что он как проконсул все еще имел империй, звался императором и держал при себе ликторов.
Однако, едва взглянув на Цицерона, Катон понял, что его планам не суждено осуществиться. Цицерон был жалок, ничтожен, он был подавлен, если не сказать, раздавлен глобальными неудачами государства. Какая бы болезнь ни помешала ему принять участие в фарсальской битве, было ясно одно: его нынешняя болезнь неизлечима. Причем недуг, поразивший Цицерона, был проявлением той эпидемии, которая в большей или меньшей степени поразила всех, только на нем, как на натуре более чувствительной и богатой, ее язвы были глубже и заметнее. Предпосылкой для этого нравственного заболевания служила рыхлость мировоззрения, отсутствие в нем хребта идеи. Попадая в вихрь событий, люди с аморфным сознанием теряют ориентацию, испытывают головокружение и в тошнотворной слабости ищут спасения на скользкой тропинке предательства. Трагедия Цицерона состояла в том, что он в отличие от остальных осознавал метаморфозы, происходящие с ним, и казнил себя за малодушие, тем самым давая другим пищу для упреков в свой адрес.
Катон с первого взгляда понял, что Цицерон умер для дела, но обошелся с ним дружелюбно, помня о его былых заслугах и сочувствуя нынешним переживаниям. Он все же дал ему знать о своих планах в отношении его проконсульства, но сделал это намеком, чтобы не спугнуть его оробевшую от неудач душу. Как он надеялся, мысль о командовании республиканскими войсками, запав в сознание Цицерона малым семенем, со временем сможет прорасти там и взвиться ввысь мощным стволом одухотворяющей душу идеи, которая поднимет его с колен. Как бы там ни было, а Катон предоставил ему шанс воскреснуть.
В назначенный день на Керкире собралось весьма представительное общество. Сенаторов было столько, что за собранием сохранилось наименование совета трехсот. Среди видных фигур, способных претендовать на главенствующую роль в грядущих событиях, выделялись Метелл Сципион, Гней Помпей – старший сын полководца, ныне успешно командовавший значительной флотилией, внушительный фасцами и ликторами Цицерон, Тит Лабиен, Гай Кассий и, наконец, сам Катон, который все это организовал и теперь вел совещание. Однако многих республиканцы не досчитались: некоторые сенаторы ушли от дел и обосновались на чужбине, как, например, друг и соратник Катона Марк Марцелл, а кое-кто уже переметнулся к Цезарю.
Первым делом собрание оценило ситуацию, подсчитало убытки и наличные силы, после чего перешло к выработке стратегии дальнейших действий. Деловое обсуждение многократно прерывалось всплесками эмоций, пораженческие настроения сталкивались с преувеличенным оптимизмом, но ни то, ни другое не могло дать плодотворной идеи. "У нас еще семь орлов!" – браво заявлял сенатор Ноний, говоря о легионных знаменах и имея в виду соответствующее число воинских подразделений. "Это было бы замечательно, если бы мы воевали с галками", – в своем духе отвечал ему Цицерон, даже в отчаянии не терявший остроты слова. Сил у республиканцев действительно оставалось еще много, но сомнений было еще больше. "Если мы с огромной армией, возглавляемой лучшим полководцем, потерпели поражение, то на что нам рассчитывать теперь, когда целое распалось на части, и мы имеем лишь осколки былого могущества?" – вопрошал тот же Цицерон. Однако Катон, сумевший собрать вместе и свести на Керкире упомянутые "осколки" республиканских сил, и теперь отфильтровал из всего прозвучавшего хоть сколько-нибудь положительные мысли и соединил их в общую концепцию.
Поскольку оставшихся сил государства не хватало для создания мощного ядра, способного одолеть врага в генеральном сражении, было решено рассредоточить боевые действия по всему Средиземноморью, чтобы задействовать новые ресурсы и выиграть время. Предполагалось, что Цезарь, хорошо подготовленный к боевым операциям, не сумеет справиться с хозяйственными трудностями, оказавшегося в кризисе государства. Экономические лишения отрезвят людей, победная эйфория пройдет, начнутся волнения по всему римскому миру, и Цезарь утратит многих нынешних сторонников. В то же время политическая обстановка позволяла надеяться на успех республиканцев в Испании, где власть цезарианцев не имела корней в социальной структуре населения и где прославленного лихоимца ненавидели со времени его пропреторства, а также – в Африке, поскольку там господствовал давний сторонник Помпея нумидийский царь Юба. Ожидались волнения и на Востоке со стороны парфян, и в Египте, куда будто бы направился сам Помпей. И, конечно же, главной надеждой республиканцев оставался флот, который должен был парализовать Цезаря как государственного деятеля обширной империи, локализовать его силы и наоборот, осуществлять взаимодействие между республиканцами по всему средиземноморскому миру.