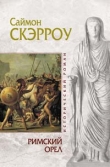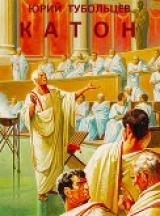
Текст книги "Катон (СИ)"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 50 страниц)
В речах двух других обвинителей больше было эмоций, чем смысла, поэтому они лишь затушевали впечатление от выступления первых двух ораторов.
Из защитников сначала представил свои соображения блистательный Квинт Гортензий, вторым на трибуну вышел Марк Красс, спешащий войти в союз с оптиматами, после того как рухнули его надежды, связанные с Катилиной, – оратор, не способный потрясти слушателей силой речи, но приятный и убедительный. Последним говорил Цицерон.
Он почти не затрагивал обвинения, предъявленные Мурене, зато много внимания уделил обвинителям. Сульпиция он представил человеком, хотя и порядочным, но ограниченным своей узкой специальностью законоведа. "Консул же в первую очередь должен быть полководцем", – утверждал консул, не бывший полководцем, и расточал красноречие воинским доблестям Мурены. Говоря о Катоне, Цицерон изобразил карикатуру на стоика. Из его слов следовало, что Катон оказался жертвой беспощадно жесткой и сухой философской доктрины.
"По мнению стоиков, все погрешности одинаковы, всякий поступок есть нечестивое злодейство, и задушить петуха, когда в этом не было нужды, не меньшее преступление, чем задушить отца, – потешался он над философией Катона. – Вот такие взгляды усвоил Марк Катон. Человек признает себя виновным и просит о снисхождении. – "Простить – тяжкое преступление", – но проступок невелик. – "Все проступки одинаковы". – Ты высказал какое-либо мнение... – "Оно окончательно и непреложно", – руководствуясь не фактом, а предположением. – "Мудрец никогда ничего не предполагает".
Оратор сопровождал эти передразнивания соответствующими интонациями и мимикой, словно актер, поэтому народ и судьи смеялись, как они смеялись и тогда, когда, говоря о Сульпиции, он выставлял в комичном свете деятельность юристов, обыгрывая их страсть к процедурным формальностям.
"Какой шутник у нас консул, граждане", – с оттенком презрения бросил реплику Катон, и судьи сразу смолкли, смекнув, что консулу не пристало выступать в роли шута. Однако Цицерон продолжал заливаться той же песней, как пташка на жердочке, и постепенно вновь увлек публику в водопад своих острот.
"Мудрец не знает гнева, ни над чем не задумывается, ни в чем не раскаивается, ни в чем не ошибается, своего мнения никогда не изменяет". Потому-то якобы Катон и оказался на скамье обвинителей, что попал в сети жестких догм стоицизма, и из-за пустых формул теперь вынужден выступать против товарища, с которым никогда по существу не расходился во взглядах на государственные дела.
Так, осмеяв с позиций обывателя, в чей образ он здесь крепко вжился, Сульпиция и Катона, Цицерон выставил их чудаками, а выдвинутые ими обвинения представил плодом недоразумения и формализма. Затем он принялся расхваливать Луция Мурену и доказывать, сколь он необходим государству в нынешней суровой обстановке.
В итоге и судьи, и народ, отдавая должное Катону и Сульпицию за принципиальность, склонились в сторону Цицерона и оправдали Луция Мурену.
Таков был удел Катона. В судебных баталиях ему обычно доставалась слава непримиримого борца за справедливость, а его противникам – победа в процессе. В этом парадоксе отражалась характерная особенность римлян той эпохи, которые еще не в такой мере отупели душою, чтобы не видеть нравственно прекрасного, но уже в достаточной степени переродились, чтобы утратить способность следовать зову голоса чести и совести.
По завершении процесса, когда народ стал расходиться, Мурена подошел к Катону, дружелюбно поприветствовал его и сказал:
– Ты грустен, Марк. Неужели ты не рад за меня, ведь мне грозила чудовищная опасность?
– За тебя, в твоем понимании, я рад, но скорблю об участи Отечества, – ответил Катон.
– Я постараюсь доказать тебе, что сегодня Отечество оказалось в выигрыше.
Между тем год подходил к концу, а боевые действия велись вяло. Это наводило на мысль, что Катилина чего-то выжидает. А ждать он мог только выступления своих сторонников в столице. Понимая это, Цицерон усиленно следил за оставшимися в Риме друзьями Катилины. В условиях обостренной политической борьбы различных группировок, он не мог позволить себе первым совершить нападение на противника, поэтому ждал, когда заговорщики начнут действовать сами, чтобы взять их на месте преступления с неопровержимыми уликами.
И вот третьего декабря Цицерон явился сенаторам с таким торжествующим выражением на лице, что сразу всем стало ясно: ему повезло. Вокруг него со значительным видом осведомленных людей расхаживали преторы Луций Флакк и Гай Помптин. Консул сказал несколько пышных фраз об исторической миссии, выпавшей на его долю, а затем ввел в курию человека всаднического сословия, которого представил как Тита Вольтурция. Вольтурций, запинаясь от волнения, сообщил о том, что накануне Корнелий Лентул, Корнелий Цетег и Гай Статилий вручили ему письма, адресованные Катилине. Потом его место перед сенаторами заняли послы галльского племени аллоброгов. Они тоже предъявили письма от тех же людей, но предназначенные их собственными вождям, а затем рассказали, что Лентул и его сообщники наметили поджоги и резню в Риме на день Сатурналий, то есть через полмесяца, и предложили галлам в союзе с ними вступить в войну с Республикой.
После этих ошеломляющих показаний поднялся с места Цицерон и поведал, как он раскрыл замыслы заговорщиков и в ночной засаде на мосту через Тибр с помощью преторов Флакка, Помптина и отряда преданных людей захватил их посланников с очевидными уликами преступления. "Эти улики, эти письма, я, отцы-сенаторы, даже не стал вскрывать, будучи уверен в их злостном содержании, – говорил он, – я предъявляю их вам в нетронутом виде, прямо с печатями".
В этот момент в сенатскую приемную привели вызванных консулом вождей движения Катилины. Получилось так, что, когда они проходили по форуму, на Капитолии устанавливали новую статую Юпитера, которую создавали несколько лет. Цицерон обыграл это совпадение, представив дело так, будто он вдохновлен на борьбу с врагами государства самими богами и выполняет их волю.
Заговорщиков по одному впускали в курию, предъявляли им для опознания печать на письмах, а затем вслух зачитывали эти послания. Всюду содержалась информация о предстоящем перевороте и давались указания для координации действий всех сил мятежников.
Оправившись от оцепенения, сенаторы постановили арестовать авторов писем, а также Луция Кассия, который, по существующим сведениям, вызвался быть организатором поджога города. Арест заключался в том, что каждый из заговорщиков поступал под надзор кого-либо из уважаемых граждан и размещался в его доме.
После этого Цицерон закрыл заседание и поспешил на форум, где рассказал обо всем происшедшем народу. Благодаря его оперативности, люди получили первую информацию о событиях, способных нарушить равновесие в умах простых граждан, сразу с их просенатской оценкой.
Четвертого декабря сенат собрался вновь. Продолжились слушания свидетелей, выявившие еще нескольких заговорщиков. Между прочим, тень пала и на Красса. Но сенаторы не отважились затрагивать эту массивную фигуру, восседавшую на пьедестале колоссального денежного мешка, и засадили в тюрьму того, кто на него донес. Итогом бурного дня стало объявление заговорщиков врагами государства. Вопрос о решении их участи был отложен на следующий день.
Вечером Катон отправился на обед к Дециму Силану. Силан как консул наступающего года завтра в Курии должен был первым высказаться по вопросу о мере наказания заговорщикам. От его выступления во многом зависел ход предстоящего обсуждения как в силу естественного психологического воздействия примера в коллективе, так и потому, что первый голос в сенате испокон веков принадлежал наиболее авторитетным людям, к которым римляне прислушивались с особенным вниманием. Именно понимание значения роли хозяина дома в завтрашнем деле привело Катона к пиршественному столу Силана, а никак не аппетит, каковой в ощущении собственного ничтожества вообще не смел беспокоить стоическую душу Марка в эти напряженные, наполненные драматическими событиями дни.
Однако Катону не удалось переговорить с зятем с глазу на глаз, так как вокруг будущего консула роились друзья, кое-кто из которых показался Марку подозрительным своей внезапной привязанностью к Силану. Шумная ватага сопровождала Децима по всему дому и несколько угомонилась, только приведя его в столовую и рассыпавшись возле него по ложам триклиния.
Обеденная процедура требовала соблюдения определенного ритуала и соответствующих тем для беседы. Катон томился вынужденным бездействием, но выработанной в философских спорах выдержкой подавлял нетерпение. Наконец все уставные формулы и все общие фразы были произнесены, и разговор зашел о том, что сейчас более всего интересовало присутствующих. Повозмущавшись некоторое время беспримерным преступным замыслом Катилины и его приспешников против собственного Отечества, гости естественным образом заговорили о возмездии, а значит, и о предстоящем заседании сената.
Катону не пришлось прикладывать особых усилий, чтобы сориентировать Силана на вынесение высшей меры наказания тем, кто покусился на государство. Всеобщее негодование было столь сильным, что Марк лишь постарался придать ему соответствующую форму. "Да, необходимо казнить смутьянов, чтобы пресечь мятеж в корне!" – синтезировал мнения своей компании Силан, и Катон успокоился. Однако спустя два часа, когда пирующие разомлели от обилия съеденного и выпитого, те самые личности, которые с самого начала казались Марку подозрительными, томно прижмуриваясь, завели речь о том, как прекрасна жизнь и как несправедливо лишать ее других людей. Смутив совесть сторонников крутых мер, они изменили мотив и, с прежним смаком проводя мысль о блаженстве спокойного существования, направили внимание присутствующих не на предполагаемые жертвы правосудия, а на самих себя. После воззвания к совести они разбередили чувство еще более беспокойное – страх. "Сторонники казненных не останутся в долгу и отомстят обидчикам", – нашептывали эти затесавшиеся в свиту Силана сирены. "Так что же, по-вашему, выходит, что, опасаясь рядовых преступников, мы должны пощадить главарей? Вы хотите, чтобы, страшась возможных последствий подавления заговора, мы позволили ему совершиться так, как он был задуман, и сами положили головы под топор?" – резко вопросил Катон. Испугавшись, что их поняли слишком точно, подозрительные элементы поспешили отречься от сказанного и представили дело так, будто они лишь высказали естественные опасения, дабы повысить бдительность своих товарищей.
В начале второй стражи гости разошлись. Вернувшись домой, Катон послал расторопных рабов с секретным поручением в город. Выслушав их утром, он поспешил к Силану и сообщил ему, что из сторонников Лентула и Цетега сформированы вооруженные отряды, готовые силой вырвать схваченных заговорщиков. "Надо как можно скорее решить это дело", – твердо сказал будущий консул и стал собираться в курию.
То, что удалось выведать разведчикам Катона, конечно же, знал и лучший детектив античности Марк Туллий Цицерон, поэтому все подступы к храму Согласия, где должно было состояться заседание сената, охранялись консульской стражей, набранной из молодых представителей всаднических родов, особенно преданных Цицерону. Охрана находилась и внутри храма. Весь форум и участки, непосредственно прилегающие к зданию, ставшему сегодня центром жизни Средиземноморской цивилизации, были заполнены тысячами простых граждан, волновавшихся за исход дела так же, как и сенаторы. Проходя сквозь эту толпу, сенаторы слышали напутствия быть твердыми и последовательными в своих действиях на благо государства.
Когда главный зал храма посветлел от белых сенаторских тог, на возвышение вышел Цицерон и открыл собрание. Он сообщил об и без того всем известной цели заседания и предложил сенаторам высказываться по рассматриваемой проблеме, а первое слово, как и следовало, предоставил Дециму Силану. Тот был краток и убедителен. Квалифицировав предприятие соратников Катилины как заговор против государства – самое страшное преступление в понятии римлян, – он потребовал для них высшей меры наказания в соответствии с октябрьским постановлением сената о чрезвычайной ситуации.
С его словами в зал словно снизошла с заоблачных снежных высот сама справедливость и овеяла сенаторов прозрачной чистотой беспристрастной истины. В торжественной атмосфере возвышенной суровости все консуляры один за другим высказались за высшую меру. В этот час они походили на Манлия Торквата, осуждающего на смерть собственного сына во имя непоколебимости римских принципов.
Когда заявили о своем решении сенаторы высшего ранга, очередь дошла до преторов и преториев. В этом ряду первым должен был говорить Гай Юлий Цезарь, избранный в преторы на следующий год. Вид Цезаря отнюдь не изображал присущей предыдущим ораторам суровой решимости, и будущий претор, поднявшись со скамьи, некоторое время помолчал, давая возможность сенаторам заметить его сомнения и немного привыкнуть к ним. После такого бессловесного, но, тем не менее, красноречивого вступления он, наконец, заговорил.
Первым делом Цезарь подверг критике именно то, чем сенаторы в настоящий момент более всего гордились, – их непримиримый настрой. "Разум человека не видит правды, когда его обуревают чувства, все равно, будь то чувства добрые или неподобающие большому человеку. Когда душа спокойна, ум направлен на поиски истины, но если его одолевает какое-либо желание, то именно оно и выступает целью, а разум служит желанию в достижении этой цели. Государственные же дела надлежит решать с ясной головой, исходя из их сути, а не – предвзятых мнений. Эмоции пагубны для политика. Я могу привести немало примеров из истории, когда как жестокость, так и жалость государственных мужей приводили к роковым последствиям". После этого вступления оратор упомянул несколько эпизодов из прошлого Римской республики, причем как раз таких, где непримиримость государственных деятелей оборачивалась неприятностями, а милосердие приносило благо.
Таким образом, он сначала, бросив лозунг о беспристрастности, отвратил сенаторов от их пристрастий, а потом ловкой односторонней интерпретацией исторических фактов посеял в них семена новых пристрастий, но уже противоположных первоначальным. Этим Цезарь опроверг собственный принцип о возможности отделить разум от чувств, зато достиг своей политической цели: сенаторы заколебались в целесообразности применения к заговорщикам крайних мер.
"Какие бы неблаговидные поступки ни совершал неприятель, – продолжал Цезарь, – наши великие предки, принимая важные решения, больше заботились не о воздаянии заслуженной кары провинившимся, а о том, насколько их постановления соответствуют достоинству Рима. Люди, изобличенные в сговоре с Катилиной, несомненно, виновны, но негоже нам, отцы-сенаторы, опускаться до их уровня и свирепой расправой над ними порочить самих себя, унижать собственное достоинство". Далее Цезарь некоторое время порассуждал о величии сенаторов и их особой миссии в обществе. В этой связи он подчеркнул, что поступки, совершенные по вспыльчивости рядовыми людьми, простительны, так как не влекут за собою серьезных последствий и скоро забываются, но решения государственных мужей имеют иной масштаб, и потому к ним снисхождения быть не может. Акцентируя внимание на ответственности сенаторов, он дал понять об угрозе возмездия за крутые действия со стороны многочисленных слоев граждан, симпатизирующих Катилине, а затем широко развил эту тему, переведя ее в иной ракурс. Заговорщики, безусловно, являются преступниками, но смертная казнь граждан запрещена законами, а потому сама может быть квалифицирована как преступление – такая мысль прослеживалась в его речи. Отозвавшись о Силане и его последователях в замысловато-уважительной форме, Цезарь одновременно представил их людьми, замышляющими противоправное действие, чреватое расплатой в скором времени, как только улягутся страсти вокруг заговора. Напоследок он добавил экспрессии и эффектными эмоциональными красками обрисовал процесс разрастания зла, когда малые нарушения закона, допущенные будто бы в благих целях, в дальнейшем приводили к неисчислимым бедам. "Мы все благодарно приветствовали Суллу за то, что он без суда казнил негодяя Дамасиппа, – вспо-минал Цезарь, – но что было потом? Какое море крови залило наш неуместный восторг!" Для убедительности он воспроизвел еще несколько исторических драм и совершенно запугал тех многочисленных сенаторов, которые думали не о том, как совершить что-либо, а лишь беспокоились, как бы чего не вышло.
Нагнав эмоций и страстей, против которых он выступал в начале речи, Цезарь в конце выступления вновь предстал собранию последовательным и беспристрастным борцом за справедливость, считающим, однако, высшим проявлением таковой законность.
"Заговорщики виновны, – заявил он уж в который раз, – и я полагаю, что к ним надо применить самую суровую кару, но, не нарушая при этом законов". После такой преамбулы он предложил подвергнуть арестованных бессрочному заключению в италийских городах, дабы скрыть их от столичных сообщников. "При реализации этого предложения нам нечего будет опасаться!" – закончил Цезарь и, прежде чем сесть на место, обвел возбужденный его выступлением зал торжествующим взором, любуясь произведенным эффектом.
В курии начался переполох. Собрание стало неуправляемым, и Цицерон взял слово, чтобы призвать сенаторов к порядку. Ему пришлось произнести целую речь, чтобы урезонить эту публику и в какой-то мере реабилитировать себя на случай ставшего возможным поражения. Цицерон с самого начала вел планомерную и непримиримую борьбу с заговорщиками и теперь, когда настроение Курии резко изменилось в сторону благодушия по отношению к арестантам, оказался в сложном положении. Поэтому он, призвав на помощь весь свой риторический арсенал, начал плести словесную паутину, которую намеревался использовать для уловления умов сенаторов, либо в худшем случае, то есть если все же доведется упасть, – для того чтобы подстелить ее под бок и смягчить удар.
Констатировав, что поступило два предложения: казнить заговорщиков и подвергнуть их пожизненному тюремному заключению – Цицерон призвал сенаторов к свободному выбору при голосовании, однако тут же постарался склонить их к первому варианту; он убеждал Курию руководствоваться только соображениями государственной пользы и не обращать внимания на, возможно, скорбную участь его, Цицерона, говорил о своей готовности к самопожертвованию, но таким образом, что это выглядело воззванием к состраданию; он хвалил милосердие Цезаря, но так, чтобы за этими славословиями был слышен грохот грядущих погромов гражданской войны. Однако, не надеясь на свои слишком робкие и слишком тонкие для трусливой аудитории призывы к радикальным мерам, Цицерон постарался заранее отмежеваться от будущего решения сената. Я свое сделал: выследил заговорщиков, вывел их на чистую воду и арестовал – а уж вы думайте, как с ними быть дальше, – проступала его позиция сквозь витиеватые и обильные красивыми словами рассуждения. Когда он смолк, сенаторы несколько угомонились, но по-прежнему пребывали в растерянности. Многие почтенные консуляры, раскаиваясь в своем былом рвении, были готовы вырвать себе неосторожные языки, но спасение оказавшимся под угрозой органам без костей пришло от их же собрата в устах Децима Силана. Пользуясь заминкой, нарушившей очередность выступления, поднялся с места будущий высший магистрат государства и, стараясь не смотреть на своего шурина, заявил, будто, предлагая высшую меру наказания арестантам, он имел в виду высшую законную меру, то есть изгнание или заточение, а никак не смертную казнь.
– И это консул римского народа! – горестно воскликнул Катон, но его возглас некому было услышать.
Предложенная трактовка объявленной ранее кары разом устранила все противоречия и принесла несказанное облегчение тем сенаторам, которые привыкли жить по двойной морали. Поэтому почти все консуляры принялись наперебой уверять друг друга, что они влагали в свои приговоры точь-в-точь такой же смысл, как и Силан. Спрятавшись от ответственности за лицемерными формулировками, они совсем успокоились, в курии установился порядок, и рассмотрение дела продолжилось. Выступавшие далее сенаторы преторского и эдильского рангов в большинстве своем, не утомляя слушателей, быстренько присоединялись к предложению Цезаря. Сенат капитулировал перед заговорщиками, и заседание стремительно катилось к позорному концу.
Цицерон поник головою, как в младенчестве, только тогда у него не хватало физических сил для гордой осанки, теперь же недоставало – моральных. Время от времени он беспомощно переглядывался с сидевшим неподалеку на преторском месте младшим братом Квинтом и черпал в его глазах то же отчаянье, которым полнилась собственная душа Марка. Увы, угроза расправы нависла не только над ним самим, но и над его братом, и всеми их родственниками, друзьями и близкими. Тем временем очередь выступать дошла до Катона. Увидев, с какой решимостью поднялся со скамьи будущий трибун, Цицерон встрепенулся, но едва забрезжившая в нем надежда тут же потухла, ибо чего можно было ожидать в такой ситуации, когда спасовали консулы, от сенатора низшего ранга?
Катон заговорил, и воцарившееся недавно в Курии благодушие мигом улетучилось. Очень скоро сенаторы забыли, что выступает человек, не бывший не только консулом, но даже претором, и напряженно внимали содержанию речи.
"Смотрю я на вас, отцы-сенаторы, и удивляюсь. Слушаю я вас, отцы-сенаторы, и удивляюсь еще больше, – неспешно, но уверенно и мрачно начал Катон. – Чуть ли не у стен Города стоит вражеское войско, в самом Риме созрел заговор против Отечества, волнуется Италия. Обстановка такова, что, если бы не бдительность нашего консула, уже никогда бы нам не сидеть на этих скамьях. Но, хвала богам, консул у нас бдительный. Чуть ли не в одиночку он расстроил планы заговорщиков, предотвратил немедленную гибель Отечества и дал нам шанс... И вот мы сидим на этих скамьях и решаем. Что же мы решаем? Как не дать распространиться мятежу? Как удержать в повиновении массы плебса и сохранить спокойствие в Италии? Как одолеть Катилину? Увы, не о том наши думы. Почтенные отцы-сенаторы натужно решают, как бы им ничего не решать, как бы уйти от ответа на стоящие перед государством вопросы. И ведь сколько ума и изощренности при этом выказывают! Если бы этот ум и эту изощренность направить на доброе дело, на государственные нужды, никакой Катилина не смог бы угрожать Отечеству, более того, никакого Катилины вообще не было бы, среди нас не возникла бы такая нечисть, как не может возникнуть болезнь в здоровом теле. Но, увы, центром жизни для многих из нас стали не форум и Капитолий, не храм Юпитера, не Курия и не вечный огонь Весты, а собственные усадьбы со статуями и карти-нами, составляющими их условную ценность, их престиж. Такие, с позволения сказать, сенаторы дремлют в курии и бодрствуют в своих банях и триклиниях. Но не пора ли им теперь проснуться, ведь, если мятежники сожгут Рим, как они грозят нам, сгорят и дворцы нобилей со всем их мраморным блеском и азиатской роскошью! Или, может быть, они полагаются на помощь бессмертных богов, многие века благоволивших нашему государству? Но не обеты и бабьи молитвы обеспечивали нашим предкам удачу, а энергия, напор, активная деятельность и разумные решения. Тем, кто одряхлел умом и телом, обрюзг душою в праздном безделье, взывать к богам бесполезно и даже опасно, ибо они разгневаны и враждебны. Так что никто не спасет нас и разукрашенные безделушками дома наши, отцы-сенаторы, если мы сами не позаботимся о спасении всего Отечества, никакой "бог из машины" не опустится на историческую сцену, чтобы избавить нас от врага, опутавшего сетью заговора всю Италию. Мы своею беспечностью вскормили чудовище, и только мы можем уничтожить его.
Однако, как можно рассчитывать на победу в начинающейся гражданской войне, если мы не в состоянии справиться даже с пятью заговорщиками, уже обезвреженными и посаженными под арест нашим славным консулом? Мы не можем совладать даже с ними и старательно ищем уловки, посредством которых удалось бы избежать решительных мер, мы боимся провиниться перед преступниками, угрожающими нам поджогами и резней! Но не проявишь активности ты, будет действовать враг. И он действует: нынешней ночью были сколочены бандитские шайки, для того чтобы вызволить из заточения главарей заговора, а теперь вот... – Катон сделал паузу, чтобы зрители не поняли, каким образом продолжение фразы соотносится с ее началом, но могли строить самые тревожные предположения, – теперь вот под сводами этого храма елеем растекаются сладкие слова о милосердии.
Что ж, мы уже привыкли и смирились с подменой понятий, когда раздавать чужое имущество и расточать средства союзников называется щедростью, удаль в разврате и пьянстве считается доблестью, авантюризм в дурных делах именуется храбростью, а попустительство казнокрадам и убийцам подается как милосердие.
Искусно построив свою речь, Гай Цезарь, человек и вообще весьма искусный, как раз и познакомил нас с подобной разновидностью расширенного толкования прекрасного слова "милосердие", поправил он наше представление и о таком понятии как "наказание государственным преступникам". "Смертная казнь – это что? Безделица, она лишь прекращает страдания осужденных, – утверждает он, – иное дело, заключение преступников под стражу муниципиев!" Но если верить ему, что тюрьма хуже смерти, то в чем же состоит его милосердие? Однако не о том речь. Давайте разберемся, что значит в нашем случае передача заговорщиков италийским городам, отцы-сенаторы. Если мы не можем быть уверены в надежности нашей охраны даже здесь, в столице, то чего можно ожидать от италийцев? Вполне очевидно, что в случае реализации данного предложения очень скоро все арестанты окажутся на свободе, и, как знать, не возглавят ли они при этом мятеж в тех самых городах, куда их передадут в оковах, ведь Катилина планировал поднять восстание сразу по всей Италии, и только энергичные действия консула помешали этому? И вот теперь предложение Цезаря..."
Катон осекся, поскольку, взглянув на того, о ком говорил, увидел, что к нему подошел пробравшийся меж скамей храмовый служитель и передал опечатанные навощенные дощечки. Цезарь перехватил взгляд оратора и лукаво усмехнулся.
С самого начала дела о заговоре Цезаря подозревали в сотрудничестве с Катилиной и его приспешниками, однако ему удалось уйти от ответственности. И вот теперь он, похоже, в своей дерзости решился вести интриги прямо в сенате.
– Да, не все дремлют здесь, в курии. Сей факт весьма примечателен и спо-собен, я думаю, привести в чувство остальных, – отреагировал Катон на происходящее, и все сенаторы, следуя глазами за его взглядом, посмотрели на Цезаря, еще не успевшего спрятать письмо в складки тоги. Но тот не дрогнул и сохранил невозмутимость, чуть подкислив ее надменной улыбкой.
– Так ты, Цезарь, выходит, можешь совмещать обсуждение государствен-ных дел в сенате с решением других вопросов, наверное, для тебя более интересных? – с угрюмым сарказмом поинтересовался Катон. – Вообще-то, я слышал, что ты умеешь одновременно диктовать несколько писем. Но скажи, доводилось ли тебе писать сразу два письма одному адресату, однако с противоположным смыслом?
– Что значат твои намеки, почтенный Порций? – отозвался Цезарь, вложив в голос богатую гамму интонаций неприязни, подернутую глазурью слащавой учтивости. – Ты меня в чем-то подозреваешь?
– В чем-то подозреваю, – сухо, без ложной любезности подтвердил Катон.
– Напрасно.
– Пусть нас рассудят сенаторы. Прочти в слух записку, ради которой ты пренебрег священным общественным долгом и отвлекся от государственных дел.
– Но она касается личного вопроса.
– Многие у нас в последнее время стали путать общественное с личным. Позволь же нам самим решить, чем ты занимаешься в Курии: государственным или, как ты уверяешь, частным делом. Прочти записку.
– Ты настаиваешь?
– И не только я. Посмотри вокруг: взоры всех сенаторов требуют от тебя объяснений.
– Любопытство, Катон, дурное чувство и порой доставляет немалые неприятности тому, кто страдает этим пороком...
– Мы ждем.
– А упрямство еще хуже любопытства, – продолжал отбиваться Цезарь.
Но чем больше он упорствовал, тем меньше имел шансов на отступление, поскольку нетерпение и негодование окружающих нарастало с каждым его воз-ражением. Однако он словно специально провоцировал Катона и других сенаторов, выдумывая все новые отговорки.
– Хорошо, – наконец сдался Цезарь, – я уступаю тебе, Катон, но прочти эту записку сам. Ты, не доверяющий никому, не внемлющий доброму совету обуздать свое упрямство, прочти сам, и сам же покарай себя за недостойное желание.
С этими словами Цезарь встал и направился к Катону.
– Два дня назад мы уже читали здесь кое-какие страшные письма, да не испугались, и теперь их авторам гораздо хуже, чем нам.
– Ну, этому-то автору было и будет так хорошо, как тебе, Порций, и не снилось, – усмехнувшись, заметил Цезарь, подавая таблички.
Тон последних слов насторожил Катона. Он почувствовал подвох и весь напрягся, приготовившись к самому худшему.
Однако, к чему бы ни готовился Катон, действительность оказалась ужаснее и отвратительнее всего, что он только мог измыслить. Раскрыв дощечки, Марк увидел любовное письмо своей сестры и жены Децима Силана Сервилии к Цезарю, в котором она с извращенным бесстыдством пресыщенности описывала свои восторги по поводу удовольствий, доставленных ей ловким партнером накануне и требовала новых утех.
В час, когда над Отечеством сгустились тучи гражданской войны, когда на волоске повисли жизни тысяч людей, когда сдали позиции борцы с общественным злом и капитулировал возглавлявший сопротивление консул Цицерон, когда он, Катон, мобилизовав все силы, в одиночку бросился на врага, как знаменосец, пытающийся своим отчаянным примером увлечь за собою бегущее войско, его сестра, которую он любил и почитал с детства, вонзила ему в спину испачканный грязью разврата и натертый ядом измены кинжал! Разум Марка помутился, и душа его стала черной. Дальнейшая жизнь показалась невозможной и бессмысленной. Для чего жить и бороться, если даже родной и прежде уважаемый человек оказался ниже тех, с кем он воевал?
Он медленно поднял взор на Цезаря и столкнулся с его пронзительным взглядом. Тот торжествовал и жадно пил из глаз Марка его боль и отчаянье. Вид Цезаря сразу сообщил Катону о смысле его жизни. С ним вновь произошла резкая перемена: только что он казался себе сделанным из ваты или слез, но теперь в один момент превратился в гранит неколебимой решимости, и дух его стал тверже, чем у самого стоического стоика.