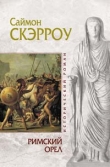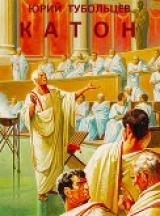
Текст книги "Катон (СИ)"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 50 страниц)
В своих обращениях к согражданам Бибул не только показывал формальную противозаконность мероприятий триумвиров, но и вскрывал мотивы, которыми те руководствовались. Он объяснял, что их заигрывания с народом, как и критика сената, – всего лишь популизм и лицемерие, что демократия используется ими в качестве штурмовой башни, с которой удобно атаковать Рим, в то время как истинная их цель – безраздельная, неконтролируемая власть.
Разоблачая политические интриги триумвиров, Бибул давал также яркие характеристики их личностей. Римляне понимали, что суть человека составляет его мировоззрение, включающее идеологию, нравственность и цели; оно определяет направление вектора личности, в то время как таланты, способности и профессиональные навыки складывают длину этого вектора. Для людей, конечно же, имеют значение деловые качества находящегося в их среде человека, но гораздо важнее для них знать, куда направлен вектор его личности: в сторону их общих интересов или против них. Римляне считали, что тот, кто украл у друга жену, предаст его и в сражении, тот, кто не смог воспитать достойных сыновей, не способен занимать руководящий пост и управлять гражданами, кто жаден в частной жизни, тот будет корыстен и на государственной службе, кто развратен телом, тот нечист и душой, а значит, не может быть честным политиком. Поэтому Катон Старший, будучи цензором, исключил из сената знатного вельможу за то, что он на глазах у дочери поцеловал жену. И малые поступки говорят о многом, поскольку указывают направление вектора личности человека.
Учитывая такой целостный подход римлян к оценке сограждан, Бибул в качестве иллюстрации к политической нечистоплотности триумвиров приводил примеры их неприглядных действий в частной жизни. Он напоминал соотечест-венникам о том, что пресловутый политический союз был скреплен заключением браков. "И одновременно с тем, как эти люди торговали дочерьми, они включили в свой гнусный торг и нас, квириты, – писал Бибул. – Цезарь продал земельный закон Помпею за вооруженное насилие над сенатом и Собранием, а Красс купил у Цезаря постановление о поощрениях алчности откупщиков за обещание организовать подкуп голосов граждан. Но главный итог этой сделки впереди. Пока вы имели возможность видеть, как Цезарь продает, но скоро узнаете, что он покупает. Будьте бдительны, граждане, не позвольте вновь обмануть себя!"
Иронизируя по поводу дружбы и пропагандируемого идейного единства триумвиров, каковые якобы стали причиной образования союза, Бибул описывал, как четыре года назад Красс и Цезарь пособничали Катилине в заговоре против государства, одним из главных пунктов которого значилось создание войска для войны с Помпеем, как потом Цезарь разошелся с Крассом, чтобы стать правой рукой эмиссара Помпея Метелла Непота. Вообще, у автора памфлетов было столько подходящей информации, что качества писца ему требовались больше, чем талант обличителя. Отрицательными сведениями о Крассе можно было исписать каждый булыжник форума. Жизнь Цезаря давала неисчерпаемый материал для интерпретаций его ходовой характеристики: мужа всех жен и жены всех мужей. А чтобы морально ранить Помпея, хватало всякий раз при описании антиславных деяний Цезаря и Красса упоминать его имя рядом с этими двумя.
На удобренной информацией о частной жизни триумвиров пропагандист-ской почве проще было рассмотреть сорняки их нынешней политики, поэтому всемогущие властелины забеспокоились.
"Это – компромат! На нас льют грязь!" – возмущались они.
"Это – правда! Жизнь ваша грязна, потому и правда о ней черна!" – отвечали оптиматы.
Огрызаясь на словах, триумвиры, однако, на деле вели себя так, словно задались целью подтверждать все упреки Бибула в свой адрес немедленно по мере их поступления. Дорвавшись до власти, они уподобились голодному нищему, вдруг оказавшемуся за пиршественным столом, который двумя руками набивает рот, хватаясь сразу за все блюда.
До сих пор Цезарь действительно работал в основном на своих могущественных друзей, а потому теперь спешил удовлетворить собственные запросы. Для римлян предшествовавших эпох консульство было вершиной карьеры и являлось предметом их мечтаний и стремлений, но Цезарю высшая республиканская магистратура требовалась лишь как средство к достижению более осязаемой и не зависимой от воли сограждан власти. Как сугубо практичный человек, не терзающийся думами о том, хороша ли окружающая его действительность или плоха, но старающийся извлечь из нее максимум личной выгоды, он давно понял, что наибольшую силу в его время человеку дает войско. Златокрылая птица Слава, за которой, по римской традиции, охотился Помпей, тогда уже утратила былое значение, так как души людей лишились способности к высокому полету, а деньги, предмет вожделения Красса, еще не обрели абсолютного могущества, поскольку в то время человек сохранял скелет нравственности, затрудняющий ему прогиб перед богатством, потому-то Цезарь и выбрал армию, варварским способом сочетавшую в себе качественные и количественные ценности.
Год назад, предвидя избрание Цезаря на высшую должность, сенат назначил консульскими провинциями мирные страны, где почти не было войск. Естественно, гиперактивный консул не мог удовольствоваться перспективой почетного отдыха в одной из этих стран. И вот народный трибун Цезарева пошиба Ватиний заявил, что крайне насущной потребностью народа является оснащение Цезаря войском и обеспечение плацдарма для масштабной войны, необходимой ему для самоутверждения. Он внес в собрание законопроект о назначении Цезаря наместником ближней Галлии, только что чудесным образом лишившейся своего проконсула Метелла Целера, с приданием ему власти также и над прилегающими землями. При этом будущему полководцу предусматривался ряд льгот. В частности, он мог назначать легатов преторского ранга по собственному желанию без традиционного согласования с сенатом и собранием.
Прошли те времена, когда плебс в случае несогласия с властями объявлял бойкот аристократии, бросал жилища и всей массой уходил в добровольное из-гнание, оставляя патрициев в окружении множества врагов и тем самым вынуждая их идти на уступки народу. Взахлеб восхваляя Бибула, отчаянно бранясь на своих кухнях по адресу триумвиров и неодобрительно шушукаясь за спиною Цезаря, тогдашние граждане Рима всякий раз по требованию консула послушно шли на форум и голосовали так, как того хотели власти. Аналогично случилось и в тот раз.
Когда Цезарь был утвержден проконсулом предальпийской Галлии, Катон сказал, что римляне сами впустили тирана в цитадель, о чем им вскоре придется сожалеть, обливаясь кровавыми слезами.
Галлия имела особое значение для римской державы. Поскольку в самой Италии не допускалось размещение легионов, то ближайшим к столице войском являлось то, которое было расквартировано в долине Пада, а, следовательно, наместник Галлии фактически являлся также и императором Италии. Пока эту должность занимали республиканцы, опасности для Рима не возникало, но едва она оказалась в руках Цезаря, оптиматы почувствовали серьезную угрозу, что немедленно зафиксировали эдикты Бибула.
Прочитав его очередное послание, обыватели всплеснули руками и вос-кликнули: "Ах, мы сами впустили тирана в цитадель!" – после чего отправились голосовать за следующий проект Цезаря.
И все же, несмотря на овечью покорность деградировавшего плебса, оппозиция деятельности триумвиров нарастала. Произошел раскол в самом антисенатском блоке. После гибели Катилины Цезарь сделался лидером демократических сил, которые по-латински назывались популярами, если только можно говорить о лидере сумбурного движения, основывавшегося не столько на конкретной политической программе, сколько – на протестных эмоциях. Именно в качестве вождя популяров он и был избран в консулы. Начало его консулата как будто соответствовало заданной роли, но после принятия земельных законов действия Цезаря уже не имели ничего общего с демократией, а методы были откровенно тираническими и грозили перейти в кровавый произвол, подобный тому, какой учинил Цинна. Это вызвало охлаждение к нему наиболее последовательных популяров таких, как Клодий и Курион. Однако Клодий, исходя из политического расчета, продолжал служить Цезарю, хотя и имел собственное мнение о том, что есть и как должно быть. Курион же открыто порвал с формальным вождем и сделался самым оголтелым его оппонентом. "Цезарь воспользовался демократией, как доверчивой женщиной, а теперь начал свататься к богатой старухе Монархии! – кричал он на народных сходках. – Опомнитесь, люди, осмотритесь вокруг и последуйте за тем, кто действительно заботится о благе простого народа!" Плебс озабоченно озирался, видел перед собою Куриона и выражал готовность объявить его своим новым богом. Обаятельный и энергичный молодой человек с неплохими ораторскими данными хорошо смотрелся на любом возвышении, окруженном влюбчивой толпой, и вскоре сделался очередным фаворитом взбалмошной дамы Демократии.
Агитация Куриона с одной стороны и страстные воззвания Бибула – с другой в конце концов внесли перелом в общественное мнение, и народ стал открыто выражать осуждение триумвирам. В амфитеатре во время их праздничных представлений, которыми богатевшие не по дням, а по часам триумвиры пытались задобрить плебс, публика восторженно приветствовала Куриона, ледяным молчанием встречала Цезаря, что было позором для консула, ропотом отмечала появление Помпея, недовольным гулом вела по трибунам стадиона Красса и яростно освистывала клевретов Цезаря, устраивавших зрелища. С подобным отношением плебса триумвиры сталкивались и в других общественных местах.
Оказавшись в роли отрицательных героев народной молвы, властители по-разному реагировали на происходящее. Красс находил утешение в наращивании капитала, что, в его понимании, было равнозначно росту масштаба личности, причем росту, гораздо более значительному, чем урон, наносимый дурной славой. Для практичного Цезаря важнее всего было его главенствующее положение в государстве, и, крепко держась за курульное кресло, он лишь снисходительно посмеивался над поношениями в свой адрес, если только они исходили не от Катона. По-настоящему страдал один Помпей, чье основное достояние заключалось в добром имени, которому теперь и был нанесен ущерб. Поэтому он при всякой возможности оправдывался перед плебсом и вел заочную борьбу с Бибулом. Вот как Цицерон описывал одно из выступлений Помпея на народной сходке, где тот упрашивал сограждан не придавать значения эдиктам оптиматов: "Он, который обыкновенно с таким великолепием красовался на этом месте, встречая горячую любовь народа и общее расположение, – как он был тогда принижен, как подавлен, как не нравился даже сам себе, а не только тем, кто был там! О зрелище, приятное одному только Крассу, но не прочим! Свалившись со звезд, он казался скорее упавшим, нежели спустившимся".
Насчет злорадства Красса, Цицерон подметил точно. Обнимаясь на публике, триумвиры в душе ненавидели друг друга, как и прежде и как должны были ненавидеть конкурентов индивидуалисты.
Постепенно волна возмущения стала принимать угрожающие размеры, и Цезарь сделал вид, будто возвращает свое правление в привычные для римлян республиканские рамки. Он разоружил ветеранов, стал мягче обращаться с народом и попытался созвать сенат. Естественно, ни Бибул, ни Катон, ни другие оптиматы в Цезарев сенат не пошли. Курию заполнили подхалимы Помпея, Красса и Цезаря, масса середняков, которым была безразлична судьба государства, и активисты типа Клодия, алчущие высоких должностей в обход законов и потому уповающие на новую власть. Этот марионеточный сенат, возглавляемый Помпеем, одобрил все распоряжения триумвиров и даже расширил провинцию Цезаря за счет Заальпийской Галлии с добавлением к трем его легионам – четвертого. Вообще, консул так хищно набросился на Галлию, что у многих граждан появилось сомнение: действительно ли Цецилий Метелл, получивший эту провинцию на законном основании, умер естественной смертью. Однако ни Катон, ни Бибул в тот год слова не имели, а из тех, кому разрешалось говорить, никто не осмелился высказать столь опасные подозрения. В дальнейшем эти сомнения нашли подтверждение. Выяснилось, что Метелл был отравлен, и наказание понесла его жена Клодия.
Итак, теперь Цезарь имел право гордо взирать с ростр на римский народ: собрание – с ним, сенат – за него. Чем не герой Республики? Лишь тени мрачных личностей, тех самых, которых кинжалами и корзинами с навозом пришлось убеждать в гениальности Цезаря, чернили победоносное чело единоличного консула. Цезарь мог сколько угодно прощать врагов, которые силой духа уступали ему, но его ненависть к более сильным всегда оставалась неизменной. Нравственная оппозиция беспокоила Цезаря больше, чем физическая. Со второй он умел бороться, тогда как первая выходила за пределы его понимания. Однако этот человек в политике был так же коварен, как Ганнибал – на поле боя, и он нашел-таки способ уничтожить Катона и смирить остальных оптиматов. Причем по большому счету ему не пришлось выдумывать что-то небывалое. Он нередко использовал известные политические ходы, но умел придавать им новое качество за счет своевре-менности применения и особой интерпретации.
В год рождения Цезаря видный аристократ Метелл Нумидийский отказался признать правомерность земельного закона трибуна Сатурнина, и за это был осужден на изгнание. Многие граждане выразили готовность защищать Метелла с оружием в руках, но он не допустил кровопролития и удалился на Родос. После этого страсти быстро утихли, и плебс напрочь забыл того, кем восхищался еще вчера. В изгнании Метелл и умер на радость его противнику Марию.
И вот теперь Цезарь внес в собрание закон, чтобы все сенаторы у его ног официально поклялись считать утвержденные кинжалами ветеранов и розгами ликторов земельные мероприятия законными. Повозмущавшись про себя, плебс послушно проголосовал за эту моральную казнь сенаторам, и к красным башмакам сидящего на возвышении Цезаря выстроилась вереница белых тог. Клятвы посыпались, как мусор из окон многоэтажного доходного дома. Но напрасно сердобольные простолюдины, всегда склонные раскаиваться в итогах собственного голосования и жалеть свои жертвы, высматривали на форуме Катона. Катон никак не мог появиться здесь ни в белой, ни даже в траурной черной тоге. Именно на этом и строился расчет консула.
Узнав о трюке Цезаря, Катон презрительно усмехнулся и начал собираться в дорогу. Для него все закончилось. Изгнание ли, смерть ли – все едино: римляне вне Родины долго не жили. Смешной, в понятии представителей иной цивилизации, изъян! Однако только у людей с таким "изъяном" и могла быть настоящая Родина, каковую Цицерон предложил писать с большой буквы. Унизительно было Катону угодить в подобную ловушку, но, с другой стороны, в самом способе, которым враги разделались с ним, в низменном цинизме, пошлости и подлости заключался приговор и самим победителям, и их эпохе.
Увидев приготовления Катона, женщины в его доме зарыдали. Прослези-лась даже Марция, а чуть позже прибежали сестры и дочь, незамедлительно внесшие чистые капли своей печали в общее горе их фамилии. Потом стали приходить друзья. Они возмущались пунийским коварством врага и страдальчески смотрели на Марка, однако никто не смел отговаривать его от принятого им типично катоновского решения. Всем было ясно, что если Катон отправится на поклон к Цезарю, то он уже при жизни перестанет быть Катоном, тогда как, уйдя в изгнание, даже после смерти останется Катоном.
Впервые с момента добровольного заточения в четырех стенах покинул свое убежище Бибул, чтобы навестить друга в трудный час. Вместе с ним пришел Цицерон. Великий оратор долго молчал, стараясь сосредоточиться, чтобы произнести, возможно, главную речь в своей жизни. Наконец, он встал и сказал: "Друзья, всех нас тяготит напряженная атмосфера в этом атрии. Но дело не в том, что нас постигла беда; бедой нельзя считать то, что еще не произошло. Мы всегда способны в той или иной мере повлиять на будущее, значит, угроза беды должна вызывать у нас не страдания, а реакцию к сопротивлению. Поэтому сейчас наши муки связаны не с нависшим несчастьем, а с тем обстоятельством, что мы не решаемся бороться с ним. Невысказанные мысли томят нас, друзья, и, прости, Марк, я возьму на себя неблагодарный труд избавить всех нас от этого тяжкого бремени. Поверь, говорить мне сейчас не легче, чем тебе – слушать, а потому давай проявим обоюдную волю и, невзирая на боль, предпримем попытку вырвать из наших душ ядовитые стрелы, которыми из засады поразил нас враг.
О, он теперь торжествует! Придумал, как убить нас нашей же честностью! Что ж, в поединке двух равных по силе борцов преимущество всегда имеет тот, кто не гнушается применять подлые приемы. Подлость и есть их доблесть!
Но стоит ли нам думать и говорить о нем? Заслуживает ли он нашего внимания? Давайте, друзья, займемся тем, что гораздо больше и важнее его и даже нас самих. Попробуем проследить судьбу государства в свете возникших проблем.
Уйдешь ты, Катон, из Рима. Прекрасно! Для тебя это достойный способ покинуть поле боя!"
– Мое место займете вы, – заметил Катон, – а мой поступок укрепит дове-рие народа; вам он даст повод для наступления, а массам – вдохновение.
– Да, вдохновение будет, – подтвердил Цицерон, – плебс будет самозабвенно восхвалять тебя и отчаянно поносить Цезаря... один день, а уже завтра эти септимы и фонтеи напрочь забудут, что среди них когда-то жил Катон. Вспомни, Марк, пример Метелла Нумидийского.
– Так вот, Цицерон, если через сорок лет кто-то подобно тебе сейчас ска-жет: "Вспомни пример Катона", – это станет мне достойной наградой за пред-стоящий поступок, – возразил Катон. – Тогда Метелла действительно забыли, но теперь мы его помним.
– Увы, Марк, – продолжал Цицерон, – в наше время народ способен быть доблестным, только если перед глазами постоянно имеет конкретный пример доблести, способен к разумным решениям, только в тот момент, когда слышит разумное слово. Не станет тебя, Катон, место на форуме займут сподручные Цезаря, а с ними во главе плебс не вспомнит о тебе и через четыреста лет и, кроме того, вообще разучится понимать доблесть и умное слово. Ведь, для того чтобы лжегерой занял место героя, достаточно внушить народу ложные ценности, а уж лжегерои постараются это сделать.
– Но вы-то останетесь! – начиная раздражаться, воскликнул Катон.
– Увы, нет, Марк. Ты составляешь волевой хребет нашей партии, и без тебя она станет рахитичной и ломкой. Но это не все: жертвуя собою, ты подводишь под удар и всех нас. Если гнусный замысел Цезаря, направленный против тебя, удастся, этот человек станет еще наглее расправляться с нами. Даже теперь одной жертвой дело не обойдется. Я, например, еще не решил, как поступить с этой пресловутой клятвой, а гордый Марк Фавоний прямо сказал мне, что последует твоему примеру, только отправится не на Родос, а сразу к мрачному старику Орку. Он уже и меч свой приготовил для собственного жертвоприношения.
При этих словах Катон вздрогнул и посмотрел на притаившегося в углу Фавония. Цицерон высветил для него проблему с другой стороны, и Марк потерял душевное равновесие.
Фавоний испугался, что упоминание о нем расстроило его учителя добле-сти, и стал делать знаки Цицерону замолчать. Такое проявление самоотверженной верности растрогало Катона еще больше.
– Посмотри, Марк, на этих людей, пришедших сегодня к тебе, – продолжал Цицерон, – здесь, собрались лучшие мужи Рима, болеющие за его судьбу и многими делами доказавшие преданность Республике. И всех их, всех нас ты подвергаешь страданию. Посмотри на эти понурые головы, на эти омраченные лица! Сколько раз эти люди твердо глядели в глаза смерти, скольких врагов они сразили в битвах за Отечество, а теперь их взор потуплен, они удручены, они сломлены, потому что ты отнимаешь у них лучшего друга, отнимаешь их гордость! И все это ради какого-то негодяя! Ради того, чтобы подыграть ему в его низкой каверзе!
Взволнованный этими словами Катон посмотрел в глаза своих гостей, и они показались ему еще красноречивее, чем речь Цицерона. Никогда золото и самоцветы Красса не сверкали ему из бездонных погребов таким светом, какой Марк сейчас увидел в глазах друзей. Мир перевернулся в голове Катона, и то, что час назад было невозможным, сделалось необходимым. И Цезарь, и Помпей, и даже его собственный стоицизм представились ему явлением второстепенным и малозначительным в сравнении с только что испытанным чувством духовного единения с близкими людьми. Если у него есть такие друзья, он, конечно же, не имеет права уходить с арены борьбы и обязан строить свои планы с расчетом на окончательную победу.
Воодушевленный новыми чувствами и надеждами, Марк тут же отправился к Цезарю.
Увидев перед собою Катона, консул онемел от неожиданности и даже слегка испугался. Поставив капкан для своего главного врага, он был так уверен в успехе, что, не сдержавшись в рамках обычного лицемерия, открыто заявил сенаторам: "Ну, теперь-то я вас всех оседлаю!" Правда, в ответ кто-то заметил, что для "жены всех мужей" такое действо затруднительно, но Цезаря, прошедшего вифинскую школу позора, словесными издевательствами пронять было невозможно. И вдруг перед ним появляется живой и невредимый Катон и перекрывает вход в триумфальные ворота!
Странный человек снова поступил не так, как предполагал Цезарь, а неожиданность всегда страшит неведомой опасностью. Одолеваемый сомнениями консул даже не успел как следует насладиться унижением Катона, покорно повторяющего слова выдуманной им, Цезарем, клятвы. Лишь позднее он изобразил презрение и дал установку своим людям трактовать поступок Катона как трусость. "Он храбр и принципиален на словах или тогда, когда речь идет о других, но ничтожен, когда дело касается лично его!" – трубил из толстой шеи Ватиний, а консульская свита усердно заполняла форум импровизациями на заданную тему.
По дороге домой Катон встретил идущего говорить клятву Фавония, и у него возникло чувство, будто он в сражении обезоружил врага, занесшего меч над головою товарища. Только венка ему за это никто не предложил. Впрочем, как учил стоицизм, награда за добрый поступок заключается в самом этом поступке.
Остаток дня Марк провел в том же состоянии эйфории, которое впервые испытал днем при виде переживающих за него друзей, и без устали строил планы на будущее. При этом у него ни разу не возникла мысль, что совершенным компромиссом он, помимо прочего, сохранил собственную жизнь. Уже в течение многих лет его восприятие жизни неуклонно менялось: она все меньше была для него радостью и все больше становилась долгом. Потому он и теперь относился к неожиданному шансу продлить жизнь лишь как к необходимости платить долг.
Народ, слегка поколебавшись, положительно воспринял поведение Катона. Этому немало способствовала оценка события, связанного с клятвой, данная любимцем толпы Курионом, который сказал: "Катон оказался умнее Цезаря и оставил тирана в дураках. Цезарь хотел получить труп Катона, а удовольствовался лишь прахом пустых слов". В этой фразе угадывалось влияние Цицерона, но это нисколько не обесценивало ее в глазах простого люда.
Как бы там ни было, затея Цезаря провалилась. Бибул, в силу обстоятельств признавший земельные законы, продолжал отрицать все другие постановления триумвиров, и Цезарь выглядел бы смешно, если бы стал требовать клятвы по каждому своему закону.
Отразив авантюрную атаку Цезаря, оптиматы воспряли для борьбы с триумвирами. Объектом очередной политической схватки стали выборы магистратов.
К тому моменту антисенатские силы добились большого успеха, но на пути к нему они так явно нарушали законы Республики и римские обычаи, что, в случае удачи оптиматов в комициях, в следующем году им нетрудно было бы вполне легитимно взять убедительный реванш. Под сомнением могли оказаться не только все распоряжения триумвиров, но и сама гражданская свобода нынешних героев. Понимая это, триумвиры заранее готовили крепкие позиции на будущее. Помпей и Красс включили себя в аграрную комиссию и в качестве должностных лиц сделались неуязвимыми для суда. Цезарь к восторгу своих почитателей проявил скромность и отказался войти в состав комиссии, но, когда бурные аплодисменты по этому поводу стихли, он сделал себя проконсулом обеих Галлий на небывалый срок в пять лет и оградился от судей четырьмя легионами. Позаботившись о личной безопасности, триумвиры направили свои помыслы на закрепление избранного ими политического курса. Для решения этой задачи им в первую очередь надлежало обеспечить преемственность власти. Таким образом, и для триумвиров, и для оптиматов решающее значение приобретали выборы, от результатов которых в тот переломный момент во многом зависела судьба Республики. Цезарь уже предпринял шаги к тому, чтобы оставить за собою трибунат, расчистив дорогу к этой должности Клодию. Подготовил он и кандидата в консулы в лице Кальпурния Пизона, у которого взял в заложники дочь. На второе консульское кресло Помпей выдвинул одного из своих легатов – грубого и хитрого авантюриста Авла Габиния. Достоинства этих людей были таковы, что засиять перед народом они могли только в обрамлении из золотых монет. И вот когда богатые Цезарь и Красс и весьма небедный Помпей уже проявили щедрость по отношению к избирателям, Бибул очередным эдиктом передвинул выборы с июня на октябрь. Цезарь пришел в ярость. За три месяца плебс проест полученный гонорар и, чего доброго, станет голосовать как ему вздумается!
Помпей произнес речь на форуме, призывая народ восстать против Бибула, и ничего не добился. Тогда за дело взялся Цезарь. Он долго и упорно обрабатывал плебс, внушая ему мысль устроить митинг протеста возле дома опального консула, чтобы получить повод к насильственным действиям против неугомонного соперника, но недобрым молчанием люди вернули протест самому Цезарю. Тут подоспел Ватиний и заявил, что немедленно арестует упрямого Бибула, смеющего противоречить его господину. Следуя первому побуждению, Цезарь одобрил замысел верного соратника, однако тут же вспомнил, как он арестовывал Катона, и отказался от этой заманчивой в своей простоте идеи. Поразмыслив, он вычислил, что в сложившейся ситуации будет выгоднее согласиться с законным коллегой, на которого он не обращал внимания полгода.
Итак, выборы были перенесены на осень, и перехватившие политическую инициативу оптиматы стали расширять фронт наступления. Но Цезарь в тот год чувствовал себя в ударе и готов был атаковать противника с любой позиции. В лучших традициях своего коварства он придумал рискованную операцию, посредством которой надеялся избавиться от лидеров оптиматов и других мешавших ему людей. Правда, на Катона он в этот раз не покушался, дабы избежать новой ошибки, но планировал свалить Бибула. Разящий гром, по замыслу Цезаря, должен был грянуть в самый жаркий период следующего тура предвыборной борьбы.
И вот за месяц до избирательных комиций на слуху у римлян появилось новое имя – Веттий. Впрочем, эта далеко не аристократическая фамилия уже будоражила умы граждан четыре года назад. Однако тогда ее обладатель недолго гастролировал на столичной политической сцене. Он был освистан и водворен на прежнее место в гущу плебса. В тот раз Веттий выступал свидетелем по делу о заговоре Катилины и срывал аплодисменты, разоблачая видные фигуры преступного движения, пока в порыве откровения не назвал Цезаря. На этом имени он и споткнулся. Цезарь произвел очередной заем у своего патрона Красса, и дело было замято. О Веттии все забыли и тем удивительнее оказалось его вторичное появление в центре событий, сопровождаемое, к тому же, непривычными внешними атрибутами. Он предстал сенаторам в окружении преторской стражи и был объявлен как один из участников нового заговора, на этот раз будто бы имевшего целью убийство Помпея.
Информация о готовящемся злодеянии поступила от Куриона старшего, который в свою очередь ссылался на сына. Гай Курион младший, тот самый любимец плебса, чье появление в общественных местах вызывало стихийную овацию, сообщил, что Веттий упорно заигрывал с ним все последнее время и в конце концов предложил принять участие в покушении на Помпея. На допросе в сенате Веттий сначала все отрицал, потом мало-помалу стал сознаваться в преступных намерениях. Однако, по его словам, выходило, что организатором покушения был Курион, а сам он выступал лишь простым исполнителем. К кругу заговорщиков Веттий причислил нескольких молодых людей, оппозиционно настроенных по отношению к триумвирам, в том числе, племянника Катона Юния Брута, а кинжал для убийства ему якобы передал сам Бибул.
Веттий вел себя нервно, говорил сбивчиво, часто противореча себе, и при этом старательно отводил глаза от Цезаря, председательствовавшего в собрании. Консул же, наоборот, смотрел на допрашиваемого так, словно гипнотизировал его. Все это выглядело неестественно и странно. У сенаторов возникло впечатление, что они являются зрителями плохо отрепетированного спектакля, а когда был упомянут кинжал Бибула, скептицизм Курии оформился в открытое недоверие.
– Что же, во всем городе не нашлось другого кинжала, кроме консульского? – вслух удивился кто-то на дальней скамье.
– Конечно! – насмешливо подтвердили ему из другого угла зала. – Все кинжалы расхватали ветераны, чтобы охранять форум от Бибула и Катона!
Цезарь строго посмотрел на шутника, и тот замолк, испугавшись, что консул изгонит его из сената, как Бибула и других закоренелых оптиматов. Однако настроение даже оскопленной триумвирами Курии вышло из-под контроля Цезаря и, несмотря на демонстрируемую консулом решимость жестоко покарать упомянутых в ходе слушания дела лиц, сенат не воспринял сообщение о заговоре всерьез. Правда, Веттия все же арестовали, но только за незаконное ношение оружия.
На следующий день Цезарь созвал народное собрание и вывел на ростры того же, освистанного накануне актера. Многие при этом обратили внимание на то, с какой бесцеремонностью консул поставил рядом с собою человека, якобы собиравшегося убить его якобы друга Помпея. Прежде Цезарь ревниво оберегал главную государственную трибуну от недостойных, по его мнению, людей. Когда-то он не пустил на нее принцепса сената Лутация Катула, вынудив его произносить речь с более низкого места, недавно согнал с нее Бибула и силой сбросил Катона, зато теперь на рострах красовался доносчик. Веттий говорил более уверенно, чем в сенате, и уже в ином ключе, что заставило свидетелей его первого выступления предполагать, будто ночь не прошла для него даром; однако о размерах гонорара единого мнения не сложилось. Слова Веттия были таковы, что за них могли дать и самую большую цену и самую малую. Его показания резко отличались от прозвучавших накануне. В частности, в заговорщики теперь попали и Лукулл, и кандидаты в консулы от оптиматов, и даже Цицерон, который будто бы говорил, что ищет Агалу или Брута для Помпея, зато Юний Брут, сын любовницы Цезаря Сервилии, вдруг исчез из черного списка.