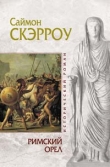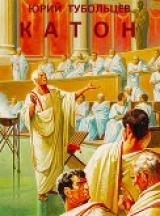
Текст книги "Катон (СИ)"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 50 страниц)
Сквозь четкие очертания мозаики этих событий, в которых он принимал непосредственное участие, тревожащими воображение контурами проступали видения иных, гораздо более значительных сражений, некогда выигранных римлянами, и тоже каким-то образом запечатлевшихся в его памяти. Душа Марка наполнилась ощущением небывалой мощи. Сейчас он был не только Катоном, побеждающим гладиаторов и фракийцев, но одновременно чувствовал в себе неукротимый дух Мария, сокрушающего германцев, отвагу своего прадеда, лавиной обрушивающегося с вверенным ему отрядом с Фермопильских высот на солдат Антиоха, праведный гнев Сципиона, руководящего избиением Ганнибаловых наемников. Казалось, маны всех лучших людей Отечества более чем за шестьсот лет его существования сошлись ныне на форум и вселились в Катона, чтобы дать отпор тем, кто покушается на их детище – Римскую республику.
Дивясь чудесам своего превращения, Марк посмотрел на окружающих и подумал, что, поскольку все они римляне, то и в них можно пробудить эти таинственные, сокровенные связи с Отечеством, образовавшиеся в ходе столетий битв и трудов, а если это произойдет, он станет вождем величайшего войска, какого никогда не собрать ни Метеллу, ни Цезарю, ни Помпею.
Заминка Катона у подножия храма, превращенного в укрепленный редут, была по-своему истолкована его противниками. Метелл и Цезарь посмотрели друг на друга и усмехнулись. Отсюда, с возвышения подиума, Катон казался совсем маленьким, тем более, что даже зимой он не носил плаща, и, сколь ни величава была тога, издали на фоне людей, закутанных в теплую одежду, его фигура смотрелась мелковато.
Остановив свой лукавый, насмешливый взгляд на этом человеке, бывшем много лет занозой в его самолюбии, Цезарь как бы вопрошал: "Ну что, упрямец, понял, что ты значишь против меня? Чего стоят твои абстрактные, отжившие свой век догмы о справедливости и патриархальной нравственности в сравнении с реальной, конкретной силой?"
Словно услышав его, Катон встрепенулся и, обнаружив, что внимание не-приятелей обращено на него, живо воскликнул:
– Квириты, вы только посмотрите, каков храбрец! Какое войско он собрал против одного человека! Сколько иноземцев вооружил против одного безоружного гражданина!
Пока обескураженные таким сарказмом враги переваривали упрек, Катон решительно шагнул вперед. И произошло чудо: ряды свирепых германцев и воспитанных в жестокости гладиаторов расступились перед ним, словно воды пред Моисеем в восточной легенде. Еще мгновение назад наемники были готовы без колебаний ударить кинжалом любого, кто посмел бы сделать шаг в сторону их хозяев, будь то сам консул, а теперь они, как завороженные, сторонились трибуна, давая ему дорогу, и, дивясь своей уступчивости, во все глаза смотрели на смельчака. Вид Катона говорил, что остановить его никто не только не в праве, но и не в состоянии. Врагам были неведомы истоки его силы, опрокинувшей их ряды, но они точно знали, что противостоять ей они не могут.
Однако всякое чудо имеет предел. Расступившись перед Катоном и шедшим с ним в ногу Минуцием, стражники опомнились и снова сомкнулись в плотное кольцо за их спинами. Правда, Марк, развернувшись, успел схватить за руку своего друга Мунация и втащить его за собою на ступени храма. Поднявшись наверх, Катон решительно сел между вольготно расположившимися Непотом и Цезарем и заявил, что теперь народное собрание можно считать открытым.
В толпе раздался гул удивления и восхищения, которым разрешилось на-пряжение последних мгновений. Единомышленники Катона приободрились и, подойдя ближе, стали выкрикивать лозунги в его поддержку и во славу Республики.
Видя, что симпатии народа перешли к Катону, Метелл и Цезарь смирились с его выходкой, хотя, разместившись между ними, он нарушил их взаимодействие и спутал все планы.
После некоторого замешательства Метелл передал свиток с текстом закона глашатаю и велел ему читать. Но едва тот раскрыл рот, как встал Катон и объявил, что налагает трибунский запрет на предложение, которое сулит гражданам, чьи интересы он призван соблюдать, потерю свободы. Глашатай посмотрел на Катона, потом на Метелла и опустил руку со свитком.
По характеру Непот был истинным римлянином, потому он не сдался и не отступился от своего намерения. Взяв пергамент у глашатая, он звонким от душевного напряжения голосом стал читать параграфы написанного им самим закона. Но ему не пришлось долго надрывать голосовые связки: Катон, чья воля к борьбе крепла пропорционально силе сопротивления, изловчившись, вырвал у противника свиток и таким образом обезоружил его.
Народ бурно приветствовал победу одного своего избранника над другим. Но на этом дело не закончилось. Приняв торжественную позу и подняв взор к небесам, Метелл стал речитативом декламировать витиеватые фразы закона, который знал наизусть. В эти мгновения он походил на вдохновленного свыше пророка, вещающего смертным божественную волю.
Цезарь, отсеченный от центра событий занявшим выгодную позицию Катоном, наконец сумел вмешаться в дело и схватил Марка за тогу как раз в тот момент, когда он хотел вскочить, чтобы силой вернуть к действительности вошедшего в роль дельфийской пифии и впавшего в чрезмерный пафос Метелла. Но тут проявил себя Минуций Терм, показав тем самым, что в данной сцене нет статистов. Он рукою зажал рот Метеллу, реализовав таким способом право вето. Завязалась борьба. Непот попытался продолжать говорить, но, издав несколько не очень достойных одухотворенного пророка звуков, понял, что проигрывает Терму, и прибег к помощи извне. Он дал сигнал наемникам, и те со всех сторон ринулись к месту схватки. В мгновение ока единомышленники Катона были смяты, Метелл и Цезарь тоже почли за благо ретироваться и спрятались за колоннами. На ступенях храма остался один Катон, который в слишком большой степени был римлянином и Катоном, чтобы бежать. Отовсюду на него сыпались камни и обрушивались удары дубин.
Так в центре Рима на глазах у римского народа и сената толпа иноземцев расправлялась с гражданином, осмелившимся выступить в защиту Республики, с народным трибуном.
Обуреваемые дикой яростью наемники в хаосе беспорядочной схватки уже покалечили друг друга, но никак не могли убить Катона, который одиноко, но незыблемо стоял под градом ударов, напоминая треплемый ураганом флаг на мачте тонущего корабля.
Вдруг в зону смерти бросился человек в сенаторском одеянии. Подбежав к Катону, он накрыл его своим плащом и увлек вверх по ступеням ко входу в храм.
– Прекрати бойню, Цезарь, ты же претор! – крикнул этот человек. – Это приказываю тебе я, консул!
Шквал несколько утих, но все же удары продолжали сыпаться, в равной мере доставаясь и спасителю, и спасаемому.
От боли Катон потерял способность воспринимать окружающее и реагировать на него. Он сознавал лишь одно: необходимо выстоять и ни в коем случае не склониться перед врагом, ни в коем случае не упасть под ударами.
Очнулся Марк уже внутри храма Диоскуров, где также укрылись многие его товарищи. Взглянув на своего спасителя, он узнал в нем Луция Лициния Мурену. Обнаружив, что с его подопечным все в порядке, Лициний улыбнулся и поинтересовался:
– Ну что, Марк, обвинитель мой, теперь ты не жалеешь, что я стал консу-лом? Согласись, я сегодня вел себя достойно консульского звания.
– А разве не моя критика очистила от хлама твои лучшие качества и помогла тебе обрести самого себя? – еще не вполне оправившись от последствий происшедшего, слабым голосом вопросом на вопрос ответил Марк.
– Ну, Катон, ты, и лежа на земле, одолеешь стоящего! – воскликнул Мурена. – Но пора вставать. Там, – указал он в сторону ворот храма, ведущих на форум, – скоро все закончится, толпа разойдется, и мы будем свободны.
– Что закончится? – встрепенулся Марк и разом избавился от боли, которую захлестнули более сильные чувства.
– Как, что? Метелл утвердит в собрании свой гнусный закон.
– Какая же после этого может быть свобода! – вскричал Катон и, хромая и морщась, сделал несколько шагов в направлении выхода.
– Стой, туда нельзя! – попытался задержать его Мунаций.
– Не для того я остался жив, чтобы стать рабом! – гневно крикнул Марк.
– Туда действительно нельзя, – подтвердил Терм и пояснил: – Так нельзя. Надо подумать, что мы можем предпринять.
– Подумать нужно, – согласился Катон и остановился.
Тем временем на закиданных камнями и забрызганных кровью храмовых ступенях Метелл и Цезарь, ликуя, справляли триумф. Правда, народ приветствовал героев вяло, если не сознавая, то, по крайней мере, чувствуя, что цена их победы сводит на нет ее значение. Как бы там ни было, глашатай, не встречая более противодействия, зачитал текст закона, между строк которого звучала угроза новой гражданской войны, и плебс за отсутствием других предложений угрюмо изъявил согласие принять его. Метелл переместил свою ставку на ростры и оттуда произнес речь о великих благах, каковые принесет на копьях своих легионеров Помпей, однако не уточнил, кому и за счет кого достанутся эти блага. Поимев небесплатные аплодисменты клаки, он объявил о начале голосования.
В этот момент над форумом грянул гром, вызвавший всеобщее оцепенение и приостановивший законотворчество. То оказался боевой клич сторонников Катона, которые внезапно выскочили из храма Диоскуров и, воинственно размахивая руками, бросились к рострам. Дерзкая атака тех, кого считали бесповоротно побежденными, стала такой неожиданностью для Непота и Цезаря, что им со страху померещилось, будто враг вооружен и именно потому столь смел. Они со своими приближенными поспрыгивали с трибуны и устремились прочь. Растерявшиеся наемники, недоумевающие, кто же им теперь будет платить, дрогнули при первом же столкновении с катоновцами и тоже обратились в бегство. Через несколько мгновений с ростр на форум уже смотрел Катон.
Народ пришел в восторг от яркого зрелища с калейдоскопической сменой событий и принял на ура действительного победителя в состоявшейся битве. Катон произнес небольшую речь, в которой похвалил сограждан за то, что они сумели разобраться в происходящем и не последовали за смутьянами, подстрекавшими их к выступлению против Республики, однако советовал им на будущее играть более активную роль в государственной жизни и не только сторониться дурных людей, но и поддерживать добрых.
На следующее утро собрался сенат, чтобы довершить разгром неприятеля. Теперь, когда опасность переворота снова миновала, сенаторы разом изменились: из чрезмерно осторожных, уступчивых и сговорчивых они вдруг превратились в решительных, принципиальных и громогласных. Каждого из них сейчас можно было принять за Фабия Максима или Аппия Клавдия Цека. Лишь Катон оставался таким же, как и вчера, таким, каким был всегда. Поэтому именно он попытался остановить впавших в эйфорию сенаторов, когда те в сознании своей безнаказанности и вседозволенности вознамерились отрешить от должности Цезаря и Метелла, причем последнего – еще и объявить врагом государства. Возражая им, Марк говорил, что подобная мера не только противоправна, но и бессмысленна.
– Мы одолели врагов Республики законными средствами, зачем же теперь преследовать побежденных да еще таким способом, который уподобит нас тем, с кем мы боролись? – возмущался он.
– А мы посредством специального постановления наделим консулов чрез-вычайными полномочиями, как сделали это осенью, – отвечали ему, – и все сразу станет законно.
– Осенью государству грозил мятеж. А сейчас, объявив чрезвычайное по-ложение лишь для того, чтобы свести счеты с неугодными лицами, мы тем самым подорвем едва восстановленный авторитет сената. Только народ поверил, что мы печемся об общественных нуждах, как ему тут же будет преподнесено свидетельство обратного, – отреагировал Катон.
– Надо воспользоваться благоприятным моментом и уничтожить эмиссара Помпея вместе с вертлявым Цезарем, встревающим в каждый конфликт, как ржавчина въедается в каждую трещину! Правильным речам сегодня все равно никто не внемлет, так что не стоит искать одобрения толпы, надо дело делать! – резко бросил Долабелла.
– Неправда, Корнелий! Два месяца назад нам был явлен пример того, как слово оказалось сильнее кинжала и огня! – запальчиво возразил Катон. – Отцы-сенаторы, если под давлением обстоятельств в трудных ситуациях нам не всегда удается сохранять достоинство славнейшего собрания, то давайте хотя бы на волне успеха вести себя в соответствии с рангом вождей народа римского.
– Негоже трибуну поучать консуляров! – раздался высокомерный голос с почетных скамей.
– Этот трибун вчера спас не только консуляров, но и консулов, а заодно – всех граждан от жесточайшей тирании, – заметил Луций Мурена.
Напоминание о происшедших накануне событиях сбило апломб с возгор-дившихся не ими добытой победой сенаторов. Они устыдились проявленной по отношению к Катону непочтительности и в дальнейшем слушали его серьезно. Однако постановление об отрешении от должности Метелла и Цезаря все же было принято. Единственное, чего удалось добиться Катону, это помилования Непоту, наказание которому было ограничено лишением трибуната.
Зато заступничество Марка за своих врагов принесло большую пользу ему самому. Народ, узнав о поведении Катона в сенате, счел это началом возрождения былого величия римского духа. Люди возрадовались и поразились долгожданному событию, словно явлению божества, осенившего смертных сиянием неземной благодати. Во второй раз за последнее время мир в государстве был восстановлен не яростью битв, а разумом и энергией добрых чувств. Казалось, что сбылась мечта Катона о решающем значении мудрости в политике, о главенствующей роли философа в управлении государством. И особенно приятно Марку было сознавать, что этим философом у власти оказался именно он.
Когда Катон исполнял низшую магистратуру, люди говорили, что квестуре он придал консульское достоинство. Теперь в ранге трибуна в возрасте тридцати трех лет Марк стал идейным вождем сената. Чванливые и надменные в обычной жизни нобили в критических ситуациях, затаив дыхание, внимали его речам и беспрекословно шли за ним во всех его начинаниях. А самое главное заключалось в том, что это приносило успех и им, и Республике. Так чего же еще можно было ожидать от Катона? Каким он должен стать в звании претора и консула? Какие еще высоты заготовила для него судьба?
7
Противники сената еще какое-то время пытались противостоять воцарив-шемуся в государстве порядку. Цезарь делал вид, будто продолжает исполнять претуру, невзирая на сенатский запрет, а Метелл скликал народ на битву с Катоном. Однако скоро они убедились в тщетности своих усилий перевернуть общественную жизнь вверх дном. Люди устали от ненависти и смут, и их героями теперь были Катон и Цицерон. Поэтому Непот решил возвратиться к Помпею, чтобы, представив ход событий в нужном ему свете, вернее подговорить его к крутым действиям против сената. Желая напоследок нанести хотя бы моральный ущерб победителям, он созвал народную сходку, где произнес гневную речь, в которой утверждал, что бежит из Рима, спасаясь от несносной тирании Катона, и угрожал возмездием обидчику, каковое неотвратимо грядет вместе с Помпеем. На том его трибунат завершился.
Более хитрый Цезарь, умевший извлекать пользу из любой неудачи, повел себя иначе. Он точно уловил настроение общества и вознамерился сыграть на тяге людей к покою. Строптивый претор вдруг надел маску покорности и с поникшей головою, капая слезами, оставил форум. Запершись дома, он выполнял ограничения, наложенные на него сенатом, более усердно, чем того хотели сами авторы дискриминационного закона. Видя, в каком унижении пребывает их недавний кумир, простые люди пришли к его дому и выразили готовность ходатайствовать перед сенатом о заступничестве. Цезарь предстал им в траурном рубище и провокационными сетованиями на судьбу таких, как он, выразителей народных интересов в порочном государстве довел своих почитателей до состояния эмоционального кипения.
С каждым днем толпа у дома Цезаря становилась все больше и агрессивнее. В Риме снова возникла угроза восстания. Цезарь атаковал сенат, как бы стоя на коленях. Патриархи перепугались и забегали перед Катоном, громко сожалея о том, что не послушались его, когда он советовал не трогать раненого зверя, и прося выручить их еще раз. Однако все разрешилось мирно, вполне в духе тогдашнего настроения масс. Цезарь понимал, что у плебса ненадолго хватит воинственного запала, а потому использовал ситуацию по-особому.
Он вышел к бунтующей толпе и мягкими увещеваниями унял страсти. "Пусть лучше пострадаю один я, нежели все вы, – говорил он. – Подчиниться незаконному постановлению властей – более законно, чем идти войною на сограждан".
Народ был растроган до слез нежданно-негаданно возникшим обилием в государстве благородных людей, тяготеющих к самопожертвованию во имя общего блага, и, послушный воле оратора, разошелся по домам, одновременно разнеся по всему городу славу о его великодушии. Так Цезарь, умело воспользовавшись неловким шагом своих врагов, вернул себе утраченную в результате поражения от Катона популярность.
В сложившейся обстановке сенату ничего другого не оставалось, как под-держать навязанную ему игру в благородство, и на очередном заседании было вынесено решение восхвалить высокий гражданский поступок Цезаря и восстановить его в должности претора.
После этого в государстве установилось некоторое равновесие. В том же месяце был разгромлен и погиб Катилина. Мир и спокойствие вернулись в Рим, и год прошел без особых происшествий. Однако общественная атмосфера была тяжелой, как воздух перед ураганом. Граждане с опасением посматривали на восток, словно ожидали, что с Апеннинских гор нагрянет грозовая туча со смертоносными молниями и градом. Предстоящее возвращение Помпея так или иначе могло затронуть всех римлян, независимо от занимаемого ими положения. Каждый ныне думал о том, как изменится его жизнь через несколько месяцев, и гадал, повернет ли она к счастью или к беде. Всякий сколько-нибудь заметный в государстве человек соизмерял свои поступки с интересами великого полководца и, прежде чем что-либо предпринять, задавался вопросом: а как на это посмотрит Помпей?
Некоторые в открытую стремились угодить Помпею и заочно понравиться ему. Цицерон избрал собственный путь к сердцу титана. Он забрасывал Магна обширными письмами и целыми трактатами, которыми старался обратить его в свою веру и добиться одобрения проводимой им политики, а заодно предлагал ему дружбу во благо Отечества, уподобляя себя Лелию, а его – Сципиону.
Катона тоже кое-кто пытался укорять в поклонах Помпею. "Это из желания угодить Великому он заступился в сенате за Метелла", – говорили они обличительным тоном. Сам Катон спокойно относился к подобным упрекам. "У меня приоритет всегда один – благо Республики, что давно знают все, кто хочет знать, – пояснял он, когда затрагивалась данная тема. – И если мои действия в чем-то совпадают с интересами Помпея, то это означает, что он еще не совсем отошел от Республики, хотя его и пытаются направить по ложному пути".
Цезарь посчитал, что уже достаточно обозначил усердие в служении Помпею, и в оставшуюся часть года больше заботился о своих ближайших перспективах. Он утонул в море долгов, и единственный шанс спастись могла ему предоставить возможность ограбить какую-нибудь богатую страну. А чтобы получить хорошую, в понимании алчущего, провинцию, ему следовало дружить с сенатом. Ситуация диктовала Цезарю линию поведения, и он сделался примерным претором. Правда, ему все-таки удалось воспользоваться должностью, чтобы отомстить кое-кому из своих недругов помельче рангом. Он привлек к суду тех свидетелей по делу о заговоре Катилины, которые осенью давали показания против него. В ходе следствия претор тщательно подготовил обвинение, одновременно являвшееся оправданием ему самому. В частности, он добился от всегда готового оказать услугу видному лицу Цицерона свидетельства в том, что при раскрытии заговора тот якобы пользовался его помощью. В результате этого процесса кто-то нашел смерть, а Цезарь получил косвенную реабилитацию и очистился от подозрений в связях с Катилиной. Восстановление репутации даже таким путем способствовало тому, что в конце года он добился назначения пропретором в Испанию. Но, прежде чем это случилось, судьба подловила Цезаря и завлекла его в капкан из числа тех, какие он сам во множестве расставлял всем своим друзьям и врагам.
Цезарь жадно вкушал пороки своего века и хлебал пряный нектар наслаждения, не заботясь о чистоте посуды. Наверное, не много нашлось бы в Риме знатных распутниц, которые не проверили бы его на стойкость. Поговаривали, будто он сам в молодости выступал в качестве распутницы, и кое-кто из недругов характеризовал его так: "Муж всех жен, жена всех мужей". Как бы то ни было, а всякая доступная женщина служила для него источником радости, радость же в свою очередь становилась поводом для гордости. Так он и порхал всю жизнь по чужим спальням, каждое утро внушая себе, будто ночные труды его не напрасны и составляют одну из главных прелестей существования. Счастье его, что он не знал о львиных возможностях, не ведал, что большой кот способен испытывать аж до восьмидесяти таких прелестей в сутки, а то ведь каким ничтожеством почувствовал бы себя этот человек в сравнении с животным! Впрочем, ответственность Цезаря за уровень его эстетических потребностей не столь уж велика; он ведь пользовался готовой системой ценностей, выработанной десятилетиями деградации римского общества.
Однако если ты почитаешь за благо лакомиться прелестями чужих жен, то обязательно найдется тот, кто отведает твоей собственной жены. Это проявление своеобразного закона равновесия бесчестия. Сколь ни удал был Цезарь, нашелся в Риме юный талант, с коим он не мог тягаться. Вундеркинда звали Клодий. Вообще-то, он был Клавдием и принадлежал к знатнейшему патрицианскому роду, но, поскольку имел разрушительные способности, а не созидательные, избрал карьеру популяра, потому называл себя на простонародный манер, а впоследствии организовал собственное усыновление неким плебеем. Он был братом тех самых знаменитых Клавдий или Клодий, как их чаще называли за глаза, которые затопили Рим своей похотью и даже проникли в последующие века через стихи Катулла. В кругу золотой молодежи только того считали настоящим мужчиной, кто хоть раз побывал под юбкой одной из них. Клодий не был исключением: с юных лет он начал постигать технику наслаждения с младшей из своих сестер, которая теперь числилась женою Луция Лукулла, но затем одолел и старшую. Усвоив необходимые приемы, красавец стал совершенно неотразим, а быстро приобретенная слава развратника, действовавшая на великосветских дам, как взгляд удава – на кролика, привела к тому, что женщины покорялись ему еще до того, как он их встречал. Клодий слишком быстро одерживал победы и не успевал испытать каких-либо страстей, потому вся его радость оставалась на самом краю плоти. Его художественная натура не могла удовлетвориться столь простым способом, и в поисках остроты ощущений он прибегал ко всяческим экстравагантным выходкам.
Когда-то ему попалась жена Цезаря Помпея, которая сразу же отомстила мужу за оскорбление чести чужих семей собственным позором. Одарив лихого претора козлиным украшением, Клодий заскучал. На доступной ему глубине проникновения в мир чувств все женщины были одинаковы, и потому каждая встреча в итоге приносила разочарование, компенсируемое лишь восхищением окружавшей его толпы обесчещенных и рогатых. Скороговоркой бормоча слова о вечной любви, Клодий стал прощаться с Помпеей, полагая, что более не увидит ее никогда. Но он ошибся: нагнав его у порога, женщина одной лишь фразой возбудила в нем прежний пыл, причем это не потребовало от нее сверхъестественного коварства или кокетства, она просто выразила сожаление, что какое-то время им не удастся встречаться из-за готовящегося в их доме религиозного ритуала. Празднество, о котором сообщила Помпея, проводилось раз в год в доме одного из магистратов, и участвовали в нем только женщины. Клодий сразу смекнул, что все ближайшие дни его возлюбленная будет окружена хороводом матрон и проникнуть к ней сможет разве что Юпитер, если снова обратится золотым дождем. Такое необычное препятствие подействовало на него интригующе. Действительно, ведь заманчиво посостязаться с самим Юпитером, пусть и в разврате. А когда он представил атмосферу таинственности, в которой знатнейшие женщины Рима будут справлять торжества, его похоть вспыхнула, как сухая коровья лепешка. Он решил во что бы то ни стало организовать свидание с Помпеей и не когда-нибудь, а именно в день праздника Доброй богини.
Добрая богиня в самом деле оказалась доброй к Клодию, продемонстрировав, что и она подобно своим земным сестрам ценит смелость, напористость и презрение к святости и морали. Она позволила Клодию извлечь из приключения гораздо большую пользу, чем он рассчитывал.
В самый неподходящий для любовных утех день удалой молодец нарядился кифаристкой и проник в дом, временно ставший женским храмом. Там, наверное, не без вмешательства божественного провидения, его разоблачили и с позором выгнали прочь. Назавтра о сем достойном проступке узнал весь Рим, и Клодий в одночасье сделался героем. Полгода люди только и судачили о нем. Его популярность затмила успехи в ловле душ Цезаря и уж тем более – авторитет Катона и славу Цицерона. В тот век героями становились не на полях битв за Отечество, а в чужих постелях, славили не тех, кто создавал святыни, а тех, кто их осквернял.
Инцидент получил особый резонанс в обществе еще и потому, что нравственные проблемы пересеклись с политическими. Клодий, уже несколько лет примерялся к роли вожака простого люда, и теперь сенат воспользовался случаем, чтобы на этом выразительном примере помочь согражданам получше рассмотреть нутро подобных лидеров.
В Курии скандал в доме претора обсуждался наравне с важнейшими политическими вопросами. "Может ли тот, кто демонстративно выказывает презрение к моральным и религиозным устоям государства, считаться гражданином?" – вопрошал Катон, бывший одним из инициаторов кампании против Клодия. Ответ ни у кого не вызывал затруднений. "Конечно же, не может", – говорили и думали сенаторы. Однако, когда дело дошло до того, чтобы привести слова в соответствие с реальностью, решимость отцов города поколебалась. Клодий был авантюристом смелым и предприимчивым, он совмещал в себе черты Катилины и Непота, одинаково успешно управлялся и с бандами наемников, и с толпою плебса, потому становиться объектом его ненависти мало кто отваживался. Большинство сенаторов предпочитало сурово порицать Клодия хором, но проповедовать милосердие в сольных партиях. Из числа активно поддерживающих обвинение выделялся Цицерон. Причем его смелость в данном случае являлась продуктом робости: оказалось, что он боялся жены больше, чем Клодия. Теренция же ненавидела клан Клавдиев из-за ревности к Квадрантарии и требовала от мужа безоговорочной не-примиримости по отношению к брату соперницы. Тем не менее, намерение Катона наказать Клодия не нашло должной поддержки в сенатской массе, и дело ограничилось лишь его моральным осуждением.
Сенаторы оказались столь сдержанными еще и потому, что считали организацию суда над Клодием обязанностью Цезаря. Именно он, по римским понятиям о чести, был главным пострадавшим лицом. Однако римлянам трудно было постичь Цезаря: слишком много нового он нес в себе. Претор рассмеялся в лицо тем, кто пытался выразить ему сочувствие, и заявил, будто не верит, что Клодий мог что-нибудь похитить у него. "Этот любознательный молодой человек с живым воображением просто из любопытства захотел посмотреть таинственный обряд, и только. А что касается моей жены, то в ее супружеской честности я уверен, как в своей собственной", – пояснил он. Таким образом, и в данном случае то, что для другого было бы поражением, для Цезаря стало победой, так как он добыл себе активного политического союзника. С Помпеей Цезарь все-таки развелся, обосновав этот шаг тем соображением, что его жены не может коснуться даже подозрение – прикрытие слабое для слишком прозрачного факта.
При поддержке претора Клодий собрал толпу поклонников и начал преследовать обидчиков. Народ с каждым днем все более сочувствовал ему. В самом деле, если Цезарь не считает себя оскорбленным, то уместно предположить, что никакого преступления не было, и нобили просто оклеветали любимца женщин и бедного люда. Толпы защитников Клодия рыскали по городу, выслеживали и подвергали обструкции сенаторов, ратовавших за наказание их кумира.
Понятно, что Катон одним из первых удостоился внимания этих фанатов политического клуба популяров. Встретив трибуна на улице, они забросали его оскорблениями. Видя, что поношения не пристают к человеку с чистой совестью, атакующие применили другое оружие и стали угрожать ему. Однако это возымело обратное действие: вид разгневанного Катона перепугал самих запугивающих. Гнев Марка был страшен им своей необычностью, поскольку не выражался во внешних проявлениях, а весь находился внутри, Катон был заряжен гневом, он словно светился им подобно наконечнику корабельной мачты, собравшему статическое электричество из накаленной предгрозовой атмосферы. Казалось, стоит прикоснуться к нему, и всю толпу поразит разряд молнии. Поэтому крикуны смолкли и расступились перед уверенно идущим своим путем трибуном.
В этом году Катона окружал некий непроницаемый для ненависти ореол, и он одержал немало побед за счет одной только нравственной силы, что подкрепило его надежду на возрождение старинных римских ценностей.
Характерный эпизод произошел в театре во время очередного празднования. На сцене плясали женщины, чье поведение принято называть легким, наверное, потому, что оно обеспечивает легкий путь к удовольствию нерадивым мужчинам, но никак не самим женщинам. Однако сегодня для них действительно был легкий день. Они могли кокетничать и резвиться, реализуя женскую потребность обольщать, перед тысячами благожелательных, разомлевших от многодневных зрелищ людей, ничуть не опасаясь при этом последствий. По ходу танца лица красоток все более розовели, юбки взлетали все выше, а глаза мужчин блестели сильнее и сильнее. И вот настал вошедший в обычай момент, когда все должны были получить удовлетворение бесконтактным, чисто эстетическим путем: танцовщицам предстояло сбросить одежды и подарить зрителям всю свою красоту без остатка. Действо, конечно же, постыдное, по римским понятиям, но оправдываемое словом "праздник". Мужчинам здесь тоже полагалось проявить кое-какую активность. Им надлежало обозначить свою заинтересованность в последнем акте пьесы громким криком. Лишь после этого красотки, как бы уступая требованию публики, освобождались от юбок и стыда.