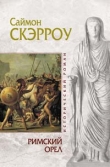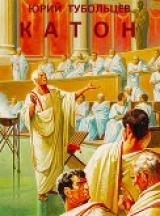
Текст книги "Катон (СИ)"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 50 страниц)
На следующее заседание Веррес не явился, его будто бы одолел какой-то недуг. Весь день у его дома проходил несанкционированный митинг, а к ночи больной пришел к убеждению, что воздух Рима ему вреден, и бежал из города. "Дикари, одновременно хотят и богатства, и справедливости, не понимают, что это взаимоисключающие понятия, и одно из них всегда достигается за счет по-прания другого!" – бросил он упрек бывшим согражданам, шустро добрался до моря, погрузился на поджидавший его корабль с сицилийской добычей, тот самый, который построили ему мессанцы, и отбыл в Массилию. Прежде изгнание было для римлян не менее страшным наказанием, чем смертная казнь, и на чужбине они не заживались. Так было со Сципионом Старшим, Сципионом Назикой, но по-иному обстояло дело с Верресом. Он представлял собою экземпляр римлянина новой формации, и Родиной ему служил не ансамбль домов и храмов, не толпа простонародья, не сенаторы-олигархи, бывшие лишь соперниками по бизнесу, и уж тем более не семисотлетняя слава Отечества, а содержимое сундука. Это свое счастье, добытое непоседливыми трудами в Сицилии, Веррес привез с собою в трюме корабля, потому жизнь в Массилии для него внешне мало чем отличалась от прежней. Он возлежал на персидских коврах, попивал хиосское, а то и доставленное из Рима фалернское вино, вкушал прелести продажных красоток и творил суд над рабами. И все же Веррес был несчастен, ибо он потерял главное – возможность обирать, обворовывать, грабить людей, он лишился возможности наживаться, получая за это хвалы и наращивая престиж в своем кругу, и оттого жизнь его остановилась.
Между тем в Риме бегство обвиняемого не остановило судебный процесс. Еще несколько дней продолжались слушания свидетельских показаний, потом слово было предоставлено адвокату Гортензию, но тот отказался защищать того, кто уже не мог оплатить его красноречие, да и задача перед ним стояла непосильная. Отправившись в изгнание, Веррес тем самым признал свою вину, и теперь суд с помпой вынес обвинительный приговор. Однако это не спасло сенаторские суды от реформы, а все сенаторское сословие – от ненависти плебса.
После всего увиденного и услышанного на процессе по делу Верреса, Катону казалось, что он сойдет с ума от сознания своей беспомощности перед громадой подлости, обрушившейся на человечество и раздавившей людей, расплющившей их и превратившей в нечто плоское и ползучее. В бессильном гневе ему хотелось разбить голову о стену, и только звание философа удерживало его от поступка отчаяния. Вновь и вновь он возвращался мыслью к идеям стоицизма и, удивляясь тому, насколько они подходят в качестве утешения к его нынешнему состоянию, то и дело восклицал: "Неужели греки тоже переболели этой чумою, неужели они пережили такой же кошмар!" Но Катон был римлянином и потому не мог разорвать отношения с обществом, навесив на концы оборванных связей стоические постулаты, заменив ими живых людей. Громче теоретической мудрости в нем звучал голос долга перед обиженными и оскорбленными, перед самой Справедливостью. "Увидев гримасу деградации, исказившую лица окружающих, лучшие из греков отвернулись от пораженных недугом сограждан и обратили взор в себя, погрузились в мир высокой, самодостаточной мысли, – размышлял Катон, – но это привело лишь к гибели эллинской цивилизации. Если не лучшие из граждан, то кто же еще заступится за угнетенное пороком общество?" Катон вдруг четко осознал, что нравственный упадок, наблюдаемый им в среде соотечественников, характерен и для других, ныне умерших или впавших в ничтожество цивилизаций, а значит, он предвещает конец того или иного общества, и в данном случае – конец Рима. "Может быть, и Карфаген не был порочен изначально, иначе он не достиг бы могущества, – рассуждал Марк, – скорее всего, и карфагеняне пережили трагедию морального перерождения, прежде чем произвели на свет античного человека типа Ганнибала". В конце концов он пришел к убеждению, согласовывавшемуся с итогами его предыдущих раздумий, усиливавшему и углублявшему их. "Спасти человечество от дурных людей могут только люди, иначе всех: и хороших, и плохих – ждет крах! Я же, чтобы что-то значить в этой борьбе, должен быть и стоиком, и римлянином одновременно", – решил он и заторопился в провинцию, чтобы достойно выполнить то дело, которое ему по силам, несмот-ря на его кажущуюся незначительность в сравнении с глобальным злом.
Но тут ему на голову свалилась еще одна забота: он получил от двоюродного брата довольно большое наследство стоимостью в сто талантов серебра. После "дела Верреса" Катон люто возненавидел деньги, потому он не успокоился, пока полностью не расправился с наследством, которое раздал друзьям в бессрочный и беспроцентный долг. Его поведение вызвало заметное оживление в городе, поскольку червь расточительства уже давно продырявил души большинства римлян, и к дому Катона стекались все новые и новые друзья, остро нуждающиеся в беспроцентной ссуде, среди которых оказался даже Метелл Сципион. Марк грустно усмехался при виде такого обилия благорасположенных к нему соотечественников, однако никому не отказывал и, когда иссякло наследство, он заложил некоторые свои имения и лучших рабов, чтобы удовлетворить всех просителей.
П У Т Ь
1
Когда-то Катона Старшего сопровождали в провинцию шесть рабов, а ныне его правнука обслуживали в путешествии пятнадцать рабов, два вольноотпущенника и еще четверо друзей заботились о духовной пище для него. Однако богатство и роскошь – качества относительные и потому недостижимые, это не цель, а мираж, манящий людей в бесплодную пустыню, и пятнадцать слуг Катона Младшего составляли менее богатую свиту, чем шесть рабов его прадеда. Кавалькада Катона казалась избалованным современникам столь скромной, что этот эпизод даже вошел в историю как образец неприхотливости молодого нобиля, граничащей с аскетизмом.
Вольноотпущенниками были вчерашние рабы Катона: грек Клеант – лекарь, а заодно консультант в области естествознания, и помощник в бытовых делах Бут. Получив желанный вольный лист, они не захотели покинуть бывшего господина и добровольно последовали за ним на Балканы. Впрочем, эта добровольность была весьма условной. Давая свободу любимым и полезным рабам, хозяева лукавили, так как знали, что без материального обеспечения те не смогут жить самостоятельно. Тяжелые грубые рабские цепи заменялись посеребренными путами экономической зависимости, более изящными, чем рабские, но не менее прочными. Однако Марк сделал все возможное в его положении, чтобы облегчить участь этих людей и приблизить их к себе в личностном плане. Среди друзей самое почетное место занимал стоик Атенор, трое остальных были знатными молодыми римлянами, которые восхищались образом жизни и мыслей Катона и старались подражать ему.
Нашелся и еще один кандидат в сопровождающие, выражавший равную готовность присоединиться либо к друзьям, либо к рабам, но только не к вольноотпущенникам. Этим настойчивым до слез кандидатом была Атилия, плакавшая навзрыд, провожая мужа в дальний поход. Марк долго не мог справиться с нею и поочередно применял то ласку, то стоическую суровость. Но ласка лишь бередила ей душу, а философия к женщинам не пристает, поскольку они сосуществуют в параллельных мирах.
– Помнишь, ты запретил мне плакать, когда шел на войну со Спартаком, потому что та война была как бы ненастоящая. А теперь война самая настоящая, вот я и плачу сразу за прошлое и будущее", – разъяснила она свою позицию, сопроводив слова выразительным взором покрасневших глаз.
– Да какая там война! Фракийцев уже разбил Марк Лукулл. Теперь у них остались не войска, а банды, – как можно небрежнее сказал Марк, стараясь принять бравый вид.
– Принести смерть может и один враг, – веско возразила она, – каждого убивает кто-то один.
– Но чтобы сразить римлянина надо не менее десятка врагов! – заметил Катон.
– А римлянина старой закалки, каким является твой Марк, и сотней не возьмешь! – уточнил кто-то из друзей.
– Вот этой закалки я и боюсь, – призналась Атилия. – Начитался книжек, насмотрелся древних масок и будет теперь всюду выскакивать вперед. Предкам надо было совершать подвиги, а нам это ни к чему: весь мир и без того в нашей власти.
Последняя фраза возмутила Катона, и он до такой степени потерял контроль над собою, что едва не затеял спор с женщиной. Однако в дело вступил Мунаций – самый активный боец из его группы поддержки. Он плечом оттеснил Марка и, придав лицу приторную сладость, любезно заверил Атилию, что ни на шаг не отойдет от ее мужа и не позволит ни одной шальной стреле затронуть дорогую ей плоть. Это немного успокоило женщину, и она с надеждой посмотрела сначала на Мунация, а потом, вопросительно, – на Марка.
– Конечно, – подтвердил Катон, – вон сколько у меня друзей, они не дадут меня в обиду.
Видя, как просияло лицо Атилии, Марк смягчился, но все еще с тенью уп-река сказал ей:
– Между прочим, спартанки, подавая мужьям щит перед походом, говорили: "С ним или на нем", а не хныкали.
– Тоже мне авторитет! – фыркнула Атилия, – они, бесстыжие, голышом бегали перед мужчинами на стадионе. Что же мне, говорить как они, и, может, поступать по-ихнему?
Для придания убедительности возражению, она даже взялась за узел платья, но тут же гордо выпрямилась и, прикоснувшись к щиту мужа, артистично произнесла:
– С ним и только с ним.
– Здорово! – в один голос воскликнули друзья Катона, и при этом все повеселели.
– Однако жаль, что ты не спартанка! – с игривым разочарованием сказал Мунаций, и Атилия зарделась, довольная скрытым притязанием на ее красоты.
Вскоре путники вышли из Капенских ворот и по Аппиевой дороге устремились в Брундизий. Окрестности древнейшей римской трассы имели живописный вид, никаких следов зловещих крестов тут не осталось, и былое показалось Марку дурным сном. Здесь, среди цветущей природы, в светлом предчувствии грядущих перспектив жизнь казалась слишком прекрасной, чтобы быть низменной и подлой, и мысли о Верресе и Метеллах отступили за кулисы сознания, предоставив сцену смелым планам и мечтам.
Но при всем том, Катон оставался самим собою. Он строго держался принятых правил и не позволял себе никаких послаблений в связи с трудностями дорожных условий. Его спутники ехали верхом, Марк же всю дорогу шел пешком и, догоняя то одного из друзей, то другого, поочередно на ходу вел с ними беседу. Время привалов было строго фиксированным, и ни мозоли, ни усталость не могли стать причиной изменения расписания марша.
В Брундизии Катон нанял небольшое судно и отправился до Коринфа. Встречи с пиратами удалось избежать, Нептун тоже отнесся к путешественникам благосклонно, и Марк впервые ступил на прославленную землю Эллады. Правда, эта встреча с историческими местами не была радостной, так как вместо знаменитого большого города он увидел деревушку с пестрым населением, обслуживающую порт, на фоне грандиозных развалин, оставшихся от Коринфа после учиненного Муммием погрома. Несколько десятилетий эти руины служили суровым примером для острастки горячим головам, вынашивавшим крамольные мысли относительно Рима, однако теперь, когда на римское господство в Греции уже никто не покушался, они скорее походили на памятник грубости и жестокости победителей. Поэтому Марк решил, что когда он станет сенатором, то выступит за восстановление Коринфа. Эта мера была тем более целесообразной, что само географическое положение Истмийского перешейка, важное в стратегическом плане и выгодное с точки зрения торговли, требовало возведения здесь города с мощными укреплениями и с развитыми ремеслами. Об этом Катон сообщил на встрече с представителями местной власти, очень угодливыми по отношению к любым заезжим римлянам.
Далее компания Катона проследовала через Беотию, Фокиду, прошла Фермопильским проходом, где четыреста лет назад совершили подвиг триста спартанцев, а три века спустя отличился в битве с Антиохом Катон Старший, и выбралась на равнины Фессалии, страны, некогда известной своей конницей. Каждая тропинка, каждый камень здесь хранили предания подобно историческому свитку, а любой город по богатству связанных с ним сведений мог соперничать с целой библиотекой. Но Катон обуздывал любопытство и нигде не задерживался дольше, чем требовала обстановка похода. Поэтому он точно к сроку прибыл в Фессалонику – город, основанный около двухсот лет назад Кассандром, одним из последователей Александра, и названный им по имени своей жены. Здесь находилась резиденция римских наместников на Балканах.
Как только претору доложили о Катоне, он сразу выразил готовность принять его. Пока Марк вместе с преторским ликтором проходил по коридорам и залам дворца, поднимаясь к покоям наместника, его память воспроизводила сцены суда над претором Сицилии. Он страшился встретить в лице Рубрия еще одного Верреса и уже концентрировал духовные силы для борьбы. В этой связи ему вспомнилось, как его прадед, будучи квестором в той же самой Сицилии, объявил политическую войну консулу, могущественному Сципиону, и тайно прибыл в Рим жаловаться на него. Правда, тогда сведения Катона Старшего не подтвердились, и он лишь отнял время и попортил нервы Сципиону, однако дерзким поступком заслужил хвалу у всех ненавистников аристократии. Сравнивая себя с прославленным предком, Марк размышлял, сможет ли он в схожей ситуации повторить его действия. Это представлялось делом весьма непростым, он ведь даже не квестор, правда, и Рубрий далеко не Сципион. "Да, я смогу сделать все, чего потребует от меня справедливость, – решил Катон, – только при этом должен поступать строго по законам. Цензорий не ведал стоического учения и полагал, будто малым злом можно излечить большое, но мне такое нравственное недомыслие не позволено".
В этот момент Катон вошел в кабинет наместника и, увидев претора, сразу успокоился. Рубрий был пожилым человеком, который уже достиг потолка своей карьеры и к большему не стремился, а потому был прост и естественен. Он скорее походил на солдата, чем на такого ценителя искусств, каковым являлся Веррес, не преувеличивал и значение серебра, хотя был по-крестьянски скуп.
Нет ничего приятнее, чем иметь дело с человеком, знающим свое место, потому у Катона легко сложилась беседа с Рубрием, и в итоге они оба оказались довольны друг другом. Расспросив Марка о планах относительно карьеры и выявив, каковы его взгляды на жизнь, претор выразил удовлетворение тем, что перед ним находится римлянин старой закалки. "А то присылают из столицы женоподобных щеголей, которые лучше орудуют щипчиками для волос, чем мечом, и они мне только солдат портят", – посетовал он. Однако его смущала непомерная ученость молодого трибуна, казавшаяся ему некой новой формой развращенности. Но, поразмыслив над этим качеством Катона, Рубрий так и не смог четко представить, в чем конкретно может проявиться вредоносность философии, а потому рискнул пренебречь этим, единственным, как он полагал, недостатком новичка и назначил его командиром легиона.
Катон со своими спутниками переночевал в небольшом доме, который римляне зарезервировали у местных властей специально для своих представителей, а утром прибыл к наместнику за последними распоряжениями, будучи готовым в тот же день выехать к пункту назначения.
Рубрий вручил Марку письменный приказ о передаче ему командования легионом, запечатанный оттиском его перстня, и сказал: "Будешь охранять границу с Фракией. У нас в последнее время нобили страстно возлюбили победные реляции, Марк Лукулл из их числа. Он, конечно, нанес серьезный удар варварам, но до полной победы далеко. У них в прошлом году была засуха, и потому они теперь прут на нашу территорию, стараясь прожить грабежом. В общем, скучать не придется. У тебя там будет в подчинении пятеро трибунов. Папирия пришлешь ко мне. Остальных характеризовать не буду, разберешься сам. Связь будем поддерживать регулярно. Средства получишь у моего квестора сегодня же, прочее зависит от тебя. Я вижу, ты уже собрался в дорогу? Молодец".
До воинского лагеря Катон добирался более трех дней и прибыл туда но-чью. Разбудив трибуна, исполнявшего согласно заведенной очередности обязанности командира легиона, он предъявил ему приказ претора и тут же повел его проверять посты. Утром вместе с тем же трибуном Марк пошел по лагерю, а затем велел трубачу играть общий сбор.
В лагере царила именно такая обстановка, какой она бывает в стане профессиональной армии в условиях отсутствия регулярных боевых действий. Для граждан, призванных на службу с целью проведения какой-либо военной кампании, настоящая жизнь остается за пределами частокола, в их родном городе или селе, а в лагере они лишь воины, выполняющие не самую приятную, однако необходимую обязанность по защите интересов государства, то есть своих общих интересов. Профессионалам же лагерь заменяет дом, а лагерный быт жизнь, потому здесь есть все, но в подмененном, искаженном и часто карикатурном виде: пьянство вместо празднеств, потаскушки вместо жен, пущенные по свету беспризорники, зачатые в пьяном угаре, вместо сыновей и дочерей, препирательства со спекулянтами, по дешевке скупающими боевую добычу, вместо ведения самостоятельного хозяйства. И вся эта псевдожизнь проходит подпольно, за спиною командиров, в разладе с законами, дисциплиной и моралью.
Горнист покраснел от усилий, его рожок забился слюной и стал издавать хлюпающие звуки, а легионеры все никак не могли проснуться и выйти на по-строение. Катон молча стоял на трибунале и со стоическим хладнокровием взирал на позор лагеря. Когда же центурионы сообщили трибунам, что на плацу собрались все, кто не находится в самоволке и способен держаться на ногах, а трибуны доложили Катону о полной готовности войска, он сделал знак, призывающий к вниманию, и заговорил громким, но спокойным голосом.
"Солдаты, претором римского народа я назначен командовать вашим ле-гионом, – объявил он. – Меня зовут Марк Порций Катон. Все выводы, которые вы сделаете на основании этого имени, с полным правом можете распространить на собственную судьбу. Я – Катон и хочу быть достойным фамильной чести, а своих солдат хочу видеть достойными чести быть римлянами, ибо только среди настоящих римлян может существовать настоящий Катон. Поэтому мы будем делать все, что делали наши предки, дабы содержать войско в силе: заниматься боевыми упражнениями, бегом с оружием и без него, проводить маневры, ложиться спать по сигналу отбоя и вставать по звуку трубы. Возможно, кто-то из вас посетует на такие порядки, да еще, пожалуй, сошлется на варваров: те, мол, не тренируются и живут как придется. Но на то они и варвары, потому мы их всегда били и будем бить. Да, победителями стать непросто, но наши отцы, наши деды и деды отцов наших смогли быть непобедимыми, и наша задача – доказать, что мы не хуже. А чтобы побеждать врага, нужно прежде победить собственные пороки, необходимо вытравить из себя слабость, тогда в нас останется неразбавленная сила, а это и будет означать, что мы стали настоящими римлянами. Новый распорядок вступает в силу с сегодняшнего дня. А первым делом я хочу вручить всем воинам жалованье, которое задолжала Фессалоника за три месяца. Однако повторяю, а я не люблю повторять и делаю это в первый и последний раз: стипендия будет выдаваться только воинам, а не обозной прислуге, в каковую превратились некоторые легионеры. Все вы в течение часа должны вытолкать из лагеря в три шеи торгашей, любезно выпроводить прочь проституток и сожительниц, раскланяться с ними, только очень оперативно, и выбросить из жилищ хлам, не имеющий отношения к воинской службе. Первая центурия, которая управится со всем этим, первой и получит жалованье, вторая в деле, будет второй у кассы, и так далее.
Я закончил. Приступаем".
Увязка финансового вопроса с выполнением первого приказа обеспечила Катону повиновение солдат. Однако в дальнейшем они подчинялись не столь охотно. Тем не менее, Катон твердо и последовательно реализовывал свою программу и, как обещал, нещадно муштровал легионеров, через силу выдавливая из них слабость. Те ворчали, но терпели, полагая, что новый трибун ведет себя так лишь поначалу, желая заявить о себе и выслужиться перед претором. Но время шло, а Катон был все так же неутомим и неумолим. Тогда легионеры стали высказывать недовольство вслух.
– Трибун, зачем мы вытаптываем траву вокруг лагеря? Смотри, земля уже покрылась соляной коркой от нашего пота, – возмущались они.
– Лучше пролить пот, чем кровь, – бодро отвечал Катон, продолжая делать упражнения, которые он выполнял наравне со всеми.
"Чего он хочет? – удивлялись солдаты. – Какой-то помешанный! Весь день бегает, прыгает, машет мечом и швыряет дроты, будто солдат-новобранец, а ночи напролет просиживает с дружками и несет какую-то греческую чушь. Наверное, пьет. Вообще, странный тип. А мы страдаем".
Недовольство подогревалось остальными трибунами. Прежде они командовали легионом по очереди, как то было заведено в старину, а появление Марка сразу поставило их в подчиненное положение, хотя по званию он был им равен. Естественно, это вызвало их недоброжелательство, а новые порядки в лагере и жесткая дисциплина, затронувшая не только рядовых, но и офицеров, усугубили отрицательное отношение к нему, доведя его до степени враждебности.
"Карьерист, – думали они, – или просто тупой служака, а его твердолобость выходит нам боком".
Самый видный из пятерых трибунов, подчиненных Катону, Сициний принадлежал к захудалому всадническому роду. В связи с этим на дальнейшее продвижение по службе ему рассчитывать не приходилось, поскольку весь пьедестал Капитолия был занят знатью и богачами. Поэтому он старался выжать максимум из достигнутого положения и насладиться властью, фактически не обладая ею. Сициний тешил тщеславие тем, что старался верховодить другими трибунами и всадниками и унижать тех, кто превосходит его родовитостью. В борьбе за умы товарищей с ним конкурировал представитель древнего, но пришедшего в упадок рода Корнелий Малугинский, который не обладал сколько-нибудь значительными качествами, однако силился изображать из себя аристократа. Трое остальных трибунов были личностями настолько серыми, что не имели даже самолюбия и целиком находились под влиянием двух первых. Папирий, которого претор вызвал к себе, будучи человеком независимым и самостоятельным, не поддающимся чу-жой воле, но и не притязающим на господство, выступал в качестве противовеса честолюбивым коллегам и в коллективе играл роль стабилизирующего фактора. Забирая его у легиона, Рубрий, видимо, хотел усложнить Катону управленческую задачу, чтобы проверить его в экстремальных условиях.
Перед лицом общего врага Сициний и Малугинский заключили перемирие и, сложив усилия, весь свой яд направили против Катона. Действовали они следующим образом: трое бездарных трибунов то и дело совершали наскоки на Марка и критиковали его по всякому поводу, особенно перед солдатами, старательно проводя в умы масс мнение, будто Катон – командир никудышный, а если кто-то и достоин быть легатом, так это аристократ Корнелий Малугинский; сам аристократ в это время величаво дефилировал поодаль в качестве живой иллюстрации к доводам товарищей и своим видом изображал Гнея Помпея, даже головою кивал, как победитель Сертория, якобы забрасывая назад пышные локоны, которых у него, в отличие от Помпея, не было; мозг же заговора Сициний дистанцировался от коллег и осваивал позу доброго старшего товарища по отношению к Катону, которому небрежно кидал ничего не значащие советы, чтобы прощупывать его на-строение и соответствующим образом корректировать действия своей компании. По замыслу Сициния, трибунская тройка должна была разжигать дурные чувства солдат, задача Малугинского состояла в том, чтобы оттягивать на себя все их позитивные эмоции, а сам он рассчитывал подтолкнуть Катона, спровоцированного нападками, к неблаговидным действиям, после которых Рубрию пришлось бы удалить его из лагеря или, еще того лучше, поставить в подчинение кому-либо из гонителей. В том, что в такой ситуации претор выберет легатом его, Сициния, он не сомневался уже хотя бы потому, что Рубрий сам был незнатен и не мог симпатизировать Малугинскому.
Однако заговорщики не учли трех обстоятельств: во-первых, Катон был стоиком, и вызвать у него приступ неконтролируемого гнева практически не представлялось возможным; во-вторых, помимо своей добросовестности он еще имел опыт войны и потому служебных оплошностей не совершал; и, в-третьих, с детства обладал чуть ли не абсолютным чувством истины, вследствие чего Сицинию не удалось его провести и втереться к нему в доверие. Катон угадал отношение к себе всех действующих лиц спектакля, хотя не подозревал, что они действуют согласованно и целенаправленно, и это позволило ему выработать четкую линию поведения. С Сицинием он был холоден и обращался с ним официально, с остальными трибунами держался ровно и дружелюбно, словно не замечая их злословия, причем Малугинскому, видя его стремление отличиться, давал ответственные поручения, чтобы тот мог проявить себя в деле. Эти поручения заговорщикам представлялись дьявольскими происками, поскольку разрушали их атакующие порядки в самом уязвимом месте. Малугинский был очень эффектен, когда молча позировал солдатам, но суетился, нервничал и ошибался, если ему при-ходилось что-либо делать, потому доверие командира оборачивалось для него позорным разоблачением. Так Катон, не имея злого умысла, прослыл среди трибунов исчадием коварства. Но это не беспокоило Марка, главным для него было научить офицеров доводить его приказы до центурионов и самостоятельно выполнять простейшие боевые маневры с отдельными подразделениями. Однако основное внимание он уделял работе с солдатами и конкретными делами отвечал на возводимые недоброжелателями враждебные конструкции словес.
В восходящем обществе люди безошибочно определяют лучших из своей среды и идут за ними; в цивилизации, тронутой гниением упадка, народ сначала реагирует на самых крикливых лидеров, но потом отвергает их, если за словами у них ничего нет, и поворачивается лицом к тем, кто меньше шумит, но больше трудится; наконец, в странах, стоящих на пороге гибели, людская масса готова следовать за кем угодно, лишь бы он и сам ничего не делал и их не принуждал.
Солдаты Катона уже нашумелись с Сициниевыми возмутителями спокойствия, но все еще медлили примкнуть к командиру; уж больно тяжко было выносить его муштру. В этой стадии духовного распутья их застал приказ выступить в поход. Стало известно, что фракийцы перешли границу и разграбили два небольших селения. Сведения о силах противника были противоречивы, и Катон решил двинуть навстречу ему весь легион. Поход по холмистой местности длился несколько дней и отнял у солдат много сил, однако неприятеля обнаружить не удалось. Видимо, фракийцы не располагали достаточными для ведения полномасштабных боевых действий ресурсами и отступили. Легионеры решили, что проделанные труды пропали даром, и терпение их лопнуло. Отрицательная энергия, накопленная за долгое время, прорвалась наружу и хлынула на Катона потоком упреков.
Марк молча наблюдал, как вокруг него собирается толпа недовольных. Его спокойствие несколько охлаждало их пыл и пока предотвращало бунт. Тогда Сициний встал рядом с Катоном и крикнул: "А ну, сброд, тихо! Не то легат подвергнет вас децимации!" Эта угроза выполнила функцию запала, и произошел взрыв гнева. Солдаты с ругательствами подступили вплотную к Катону, и лишь животный инстинкт, обуздывающий агрессию против неподвижного существа, пока еще удерживал их от расправы, но, казалось, стоит Марку пошевелиться или произнести слово, и его тут же растерзают. В этот напряженный момент Катон едва уловимым кивком головы подозвал к себе самого ярого крикуна, и тот неожиданно для себя машинально последовал привычке подчиняться повелительному взгляду и жесту командира. Все с тою же уверенностью в себе Катон знаком приказал солдатскому активисту говорить. Увидев, что слово дано их представителю, легионеры смолкли. От внезапно наступившей тишины солдат оробел и повел себя неубедительно. Он начал сбивчиво повторять давние претензии к трибуну за жесткую дисциплину и большие физические нагрузки. Тут легионеры опять возбудились и угрожающе зашумели, заводя друг друга воинственными призывами. Тогда Катон прервал оратора, и толпе вновь пришлось стихнуть в ожидании оп-равданий трибуна, но он лишь обвел близстоящих пронзительным взглядом уверенного в своей правоте человека и снова приказал говорить выбранному им солдату. Однако, едва тот начал осваиваться с ролью оратора, Марк снова остановил его. Легионеры были сбиты с толку: трибун будто бы давал им возможность высказаться и в то же время не позволял этого. С помощью такого дирижирования Марку удалось ухватиться за вожжи управления этой массой и тогда он заговорил сам.
"Значит, вы не довольны мною за возрождение староримских, проверенных временем порядков? Вы осуждаете меня за дисциплину, за тренировки, наконец, за нынешний поход вдоль вверенной нам границы?" – переспросил он.
Сумбурные солдатские упреки были так сформулированы Катоном, что уже казались постыдными, но все же толпа заревела в ответ, что именно это самое она и вменяет в вину трибуну.
"Ну что же, отвечу, – согласился Катон и решительно прошел к возвыше-нию возле своего шатра, заменяющему трибунал. – Когда я впервые прибыл в ваш лагерь, а случилось это ночью, оказалось, что половина часовых спит, а вторая половина бодрствует, но не на своем посту, а в соседнем лесу, резвясь с местными красотками. Тут мне вспомнился аналогичный случай, произошедший три года назад с легатом Коссинием. Его солдаты, вроде вас, гнушались воинскими порядками и не утруждали себя дежурством на страже. В результате, Спартак застал их врасплох и почти всех перерезал. Вот что натворил один фракиец, а тут их бродят тысячи! Так кому была нужнее дисциплина: Коссинию, который кое-как спасся, хотя и вынужден был бежать в одном нижнем белье, или его солдатам, которые, увы, уже не могут сами подсказать вам ответ? Думаю, вы все-таки не пожелаете оказаться на месте Коссиниевых горе-вояк, а я, в свою очередь, не хочу выступать в роли их незадачливого предводителя.
"Да, но тренировки-то зачем?" – говорите вы. Однако это я уже слышал во время той же войны со Спартаком. Кто-нибудь из вас знает всадника Гнея Попилия? Нет? А Гая Аврункулея? Ага, знаете. Так вот, Аврункулей служил в моей турме и тоже возмущался установленными мною порядками, и не он один. Я, видите ли, был слишком строг. Зато в неудачном для нас сражении под водительством Гая Геллия только моя турма не ударилась в бегство и сражалась, сколько это было возможно, и только моя турма не понесла потерь, а другие лишились чуть ли не половины своего состава. И после битвы Аврункулей первым повинился предо мною за былое недомыслие.