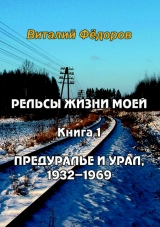
Текст книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Автор книги: Виталий Федоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 61 страниц)
Глава 18. НА НОВОМ МЕСТЕ
В контору колхоза мы заявились всей оравой – мать с четырьмя детьми 14, 10, 8 и 5 лет. Мне думается, отцы колхоза ещё не отошли от «расставания» с Виктором и Полиной, и мы пришли меньше чем через час после их ухода. Почти сплошные иждивенцы. Лишь одна мама имела статус совершеннолетней. Председатель Конев и бухгалтер Комаров ни словом не обмолвились об ушедших несостоявшихся работниках. Лишь поинтересовались, как мы доехали и как себя чувствуем. Выписали со склада немного муки, зерна и сказали – это авансом. Комаров нас взял к себе домой. Мы так «гужом» за ним и шли. Его супруга затопила баню, мы с удовольствием помылись после дорожных приключений. Хозяева выделили нам один из углов своего большого дома. Там мы и прожили первые пять дней. У Зотия Ивановича было два сына и дочь. Василий был старше меня на три года и работал трактористом. Дочь была моего возраста, а младший сын – карапуз, как наш Женька.
За пять дней мы определились с работой. Мама устроилась на МТФ дояркой, меня определили подвозчиком воды и горючего к тракторам, а Венеру в пастушки. Руководство подыскало нам квартиру на второй улице, через дом от председателя колхоза. Дом был крайним, недалеко от железной дороги. Пришлось привыкать к грохоту поездов и сигналам паровозов.
Хозяйка дома, Конева, была вдовой. Женщина худощавая, медлительная в движениях и делах. У неё был сын Анатолий, старше меня на год-полтора. Мы с ним быстро сдружились. Лёжа на полатях, рассказывали друг другу всё, что нам казалось интересным, строили планы на будущее. Работал Толя в тракторной бригаде, как и я. Он получал горюче-смазочные материалы на нефтебазе на станции Поклевской и привозил их на полевой стан. Бочки с керосином были 200-литровые. А я набирал воду в деревянную бочку вёдрами, прямо заезжая в реку, где был брод для проезда на другой берег. И вёз эту воду на поля, где работали трактора. Доводилось мне перевозить и горючее. Поля были небольшими, разбросанными на больших расстояниях друг от друга. Их отделяли леса и перелески. Иногда приходилось грузить очень тяжёлую железную бочку, когда в ней оставалось ещё много керосина. Тогда надо было использовать две длинные толстые жерди, приставляя их наклонно к телеге и таким образом закатывая бочку наверх для перевозки.
К колхозу были закреплены два трактора. Они обрабатывали почву под посев. Сеяли здесь тоже с помощью трактора и сеялки. Убирали урожай комбайном, хотя в то время ещё не самоходным. Его возили по полю трактора, а он жал, молотил и высыпал зерно в бункер. В общем, все полевые работы в деревне Перванова выполнялись механизированно. Это нам было непривычно, ведь в Кваке всё делалось дедовским методом и даже прадедовским: жали ниву вручную серпами, сеяли, раскидывая зерно по полю руками. В Кваке не видели тракторов с начала войны. Пошёл уже третий послевоенный год, а механизации не было и в помине; посевных площадей же в Кваке было значительно больше, чем в Первановой.
В колхоз привезли удобрения и высыпали их не на территории склада, а у забора. Рядом был конный двор, и некоторые лошади паслись свободно. Набрели на это удобрение, погрызли его и отравились. Две из них погибли. Одна из погибших лошадей была «мамашей», и у неё остался маленький жеребёнок, которого нужно было поить парным молоком. Колхозный бригадир, Андрей Конев, поручил мне уход за этим жеребёнком. Я получал на ферме 2,5 литра только что надоенного молока, стаканчик брал «на пробу» себе и шёл на конюшню к своему питомцу. Он с удовольствием выпивал молоко, и я, «поиграв» с ним, отправлялся домой на завтрак. Потом запрягал в дроги с деревянной бочкой коня по кличке Чалко и развозил воду к тракторам. Вечером снова заезжал на ферму за молоком, на конном дворе распрягал Чалко, шёл к своему питомцу и поил его.
Так длилось около месяца. Почти каждый день я выводил жеребёнка на прогулку. Надевал ему на шею длинные вожжи и гонял кругами по лугу. Постепенно он научился щипать травку. А когда совсем окреп и стал питаться подножным кормом, я перестал носить ему молоко. Скоро он стал пастись вместе с табуном. По утрам я заходил за своей рабочей лошадью Чалко. Но Весёлый – так я назвал жеребёнка – увидев меня, мчался ко мне со всех ног. Я ему трепал гриву, обнимал за шею. Он наклонял голову ко мне на плечо, а я гладил его мордочку. А потом он шёл за мной, пока я не ловил Чалко, на которого садился верхом и уезжал на работу.
* * *
А тут произошла (не побоюсь сказать) всеколхозная беда. Нашего толкового председателя Николая Михайловича Конева арестовали. Якобы за антисоветчину и вредительство. На каком-то совещании сказал что-то неугодное руководству района и был обвинён в антисоветчине. А вредительство заключалось в том, что две лошади отравились удобрением. Его жена ездила в областной суд в Свердловск и потом рассказала, что ему дали 18 лет лагерей. У них была дочь Маша, хорошая, красивая девушка, моего возраста. Вскоре после суда Маша вместе с матерью уехала в неизвестном направлении, бросив дом на произвол судьбы. Позднее в нём жили такие же бездомные, как мы.
После ареста председателя-«врага народа» жизнь нашей семьи ухудшилась. Районные власти прислали нового председателя по фамилии Чернов. Внешне он своей фамилии полностью соответствовал, был брюнетом, с чёрными мохнатыми бровями и тёмными недобрыми глазами. Когда мы его попросили выписать со склада зерна или муки, он ответил:
– Получите в конце отчётного года на трудодни, как все!
Так началось снова наше полуголодное существование. У местных жителей мы узнали, что можно варить суп или печь лепёшки из лебеды и крапивы. Крапиву мы и раньше употребляли в пищу, а про лебеду слышали впервые. Попробовали. Не отравились, но и не наелись.
В районном центре Талице был спиртовой завод, изготовлявший этиловый спирт из отборной пшеницы. Отходы от этого производства назывались бардой, которую закупали колхозы и частники как дополнительный корм для скота. В барде находились продукты очистки пшеницы, которые, выделив из жидкости, можно использовать в пищу и людям. Но чтобы попасть на территорию завода, нужно иметь пропуск, который выдавали в подсобном хозяйстве завода. Оно находилось на пути от нас в Талицу, где-то в километре от города. А чтобы получить пропуск, нужно было отработать в подсобном хозяйстве, прополоть или окучить две сотки картофельного поля.
У меня выдалось несколько свободных дней на работе в промежутке между весенними полевыми работами и осенними уборочно-посевными. Трактористы в это время ремонтируют трактора, сеялки и готовят с комбайнерами к уборке урожая комбайн. А я двинулся пешком через деревню Луговую и лес в подсобное хозяйство. Мне выдали «орудие труда» и отмерили участок, который я должен обработать. Примерно через два часа я уже получил пропуск на завод и пошёл в город, в котором ещё не бывал. По пути перешёл через большой металлический мост через реку Пышму. Мост был добротным и годился для любого транспорта, кроме железнодорожного.
Город оказался одноэтажным. Я добрался до завода и на проходной сдал пропуск. Это была специальная проходная для выдачи отходов производства. Сюда заезжали на гужевом транспорте, заполняли бочки и отсюда везли по назначению. Там же, где заполняли бочки, копошились бедолаги одиночки, собирая в посуду или мешочки эти самые отходы. Я вначале собирал что попало, но потом присмотрелся и увидел, как люди добывают себе пропитание: зачерпывают из больших чанов черпаками барду погуще и выливают на помост. Оттуда жижа стекает обратно, а часть гущи остаётся, вот её-то уже собирают. Я последовал их примеру и где-то через полчаса насобирал с полведра гущи. И отправился домой, ведь мне ещё предстоял десятикилометровый путь.
День был жаркий, и мне захотелось пить. Шёл я напротив подсобного хозяйства, и рядом протекал ручеёк чистой и прохладной воды, как из родника. Ручеёк этот впадал в реку Пышму. Я прилёг на бережку ручейка, наклонился и начал пить. Но вкус воды оказался горько-солёным. Пришлось выплюнуть эту гадость. Лишь позже, лет через восемь, я узнал, что вода эта лечебная минеральная. А на том месте в будущем построят санаторий.
Собранную мною гущу из барды мама ещё раз отжала и из неё в смеси с лебедой напекла лепёшек. Они получились вполне съедобными. Позже я ещё несколько раз ходил на спиртзавод, и мы питались лепёшками из барды в течение месяца.
Хочу написать немного об односельчанах из деревни Квака, супругах Ворончихиных – Романа и Дарьи, которые приехали в Перванову позже нас. Удивило, что они приехали без детей, трёх мальчиков (я уже о них говорил выше). Со взрослыми мы почти не общались, хотя я их видел иногда на работе.
Как-то после получения пособия за погибшего мужа мама послала меня на рынок в Талицу за хлебом. Хлеб тогда продавался лишь спекулянтами. Сто рублей у них стоил чёрный ржаной, сто пятьдесят – серый пшеничный, двести – белый. В магазинах хлеб не продавался, а лишь выдавался по карточкам. Видимо, на рынок я пришёл поздновато, поскольку народа уже было мало. И вдруг в толпе беспризорников я увидел детей Ворончихиных. Они приставали к каждому зашедшему на рынок, прося у них подаяние. Видимо, тем и жили. Были они грязные, оборванные. Но старшего, Ивана, с ними не было. Мне недосуг было раздумывать над этим, поскольку я пришёл на рынок за хлебом, но чёрного и серого в продаже не было. Тут вдруг вновь зашедший на рынок человек показал из-под полы булку белого хлеба. Я подошёл и купил её за 200 рублей. Но не успел я спрятать хлеб в сумку, как меня окружила ватага из пяти-шести ребят примерно моего возраста.
Я понял, что мои дела неважные: отберут хлеб и оставшиеся деньги. В лучшем случае. Решил – буду сопротивляться! А сам тем временем кладу хлеб в сумку. Они молча на меня уставились, ожидая моих дальнейших действий. И тут я разглядел среди них Ивана Ворончихина, моего одногодка и бывшего одноклассника. Мы с ним заговорили на удмуртском языке. Иван рассказал, что они живут на рынке, спят на прилавках под навесом. Младшие братья побираются, а он подрабатывает грузчиком, рубщиком мяса и т. п. Хотя по всему было видно, что не брезгует и мелкими грабежами. Сказал, что в будущем надеются «устроиться» в детский дом, поэтому о родителях сознательно не говорят, когда их приводят в милицию.
Окружившие меня ребята были в недоумении. Я услышал возгласы: «Это ихний!». Они расступились, и я смог уйти с рынка. По пути домой так сильно захотелось есть, что не удержался и от вкуснейшей булки отгрыз всю корочку. Появляться дома с таким «неаккуратным» товаром было неудобно, но тут мне повезло – дома никого не было. Я разрезал буханку на части, которые оценил по-своему, чтобы сумма кусочков составила 200 рублей. Вот такой с моей стороны был обман.
* * *
В начале июля пришлось поработать и на сенокосе. Траву косили в основном конными сенокосилками, а где они пройти не могли – вручную. Моей задачей было перевозить уже высушенное сено в стога ближе к ферме и конному двору.
Вместе со мной работал Толя Конев. Конь у него был необычный – иноходец. Рысью он не бегал, а «ходил», как спортсмены-скороходы, очень быстро. Кличка у него была Савраско. Есть такая масть – саврасая, жёлто-красная. Мы с Толей устраивали гонки верхом без сёдел. Он на Савраско, я на Чалко. Расстояние, примерно, по километру туда и обратно с разворотом. Гнали галопом изо всех сил. Побеждали с переменным успехом – то Толя, то я. А проигрывали не более пары метров.
В августе началась уборочно-посевная страда. Пора убирать урожай и сеять рожь и озимую пшеницу. Мы с Толей вернулись в тракторную бригаду со своими верными конями. Меня по совместительству ещё назначили ночным сторожем. И я стал даже ночами редко бывать дома.
Однажды на двух подводах привезли 14 мешков ржи для посева. Сеять должны были тракторной сеялкой. Но тут зарядил сильнейший дождь, поле размокло, земля превратилась в месиво. На опушке леса, возле не очень большого поля был построен шалаш из лесных веток, сверху покрытых сеном. Очень похож на ленинский шалаш в Разливе. Более половины мешков выгрузили в шалаш, а остальные поставили рядом с ним. Все, кто привёз зерно, трактористы и прицепщики сели в освободившиеся подводы и уехали домой. Меня оставили охранять. Я спутал ноги коню (чтобы далеко не ушёл) и отпустил пастись. Сам забрался в шалаш, прячась от дождя и холода. Стало темнеть, дождь не прекращался. Я старался устроиться поудобнее на мешках, насколько это было возможно в данных условиях. Спать я не собирался, так как был оставлен тут охранять трактора и зерно.
Ночью шалаш начал промокать. Стало холодно и неуютно. Вдруг слышу в шалаше что-то вроде стона. Я испуган и удивлён. Кто же стонет? Прощупываю мешки и пространство за ними, сколько могу достать – нет никого. Звук на время смолкает. Я начинаю успокаиваться, но стон снова повторяется. Опять шарю руками за мешками и снова никого не обнаруживаю. Так промаялся почти до утра, и всё-таки задремал. И вижу сон: приехали воры на лошадях, несколько мужчин погрузили мешки с зерном, стоявшим снаружи, на подводы, но в шалаш не заглянули; я и не рвался их задерживать. Вдруг я проснулся, только сон это был или нет, сообразить не могу. На улице светло, солнце уже встало. Выхожу из шалаша и сразу смотрю, на месте ли мешки. Они как стояли с вечера, так и стоят. Конь мой гуляет, травкой питается. А за мною из шалаша вышла небольшая собачонка. Вот и разгадка, кто стонал! Если бы я знал, что в шалаше со мной собачка, мне было бы спокойнее. Собачку оставили те, кто привёз зерно. Видимо, она от дождя спряталась в шалаш и там осталась на ночь.
Время идёт, никто не приезжает, а мне уже пора бы позавтракать. Никакой еды у меня с собой не было, правда, в мешках зерно, но как его есть? Сварить кашу из цельной ржи? Нужно её хотя бы как-нибудь раздробить, но не в чем. Впрочем, вскоре обнаружил цилиндр от трактора, но он оказался без дна. Приспособил вместо дна лемех от плуга, чистый, отшлифованный почвой. Нашёл металлический стержень. Получилась ступа с пестиком. Насыпал в цилиндр несколько горстей ржи и начал толочь. Получалось довольно плохо, зерно было влажным. Наполовину раздавленные зёрна собрал в чайник, залил водой и начал варить на костре.
Моё варево кипело довольно долго. Зёрна разбухли, но от этого не стали сильно съедобнее, ведь даже соли не было. Но всё-таки я немного поел свой «деликатес». А куда девать остатки? Меня же могут наказать! Пришлось разбросать по лесу и замести все следы преступления.
К обеду девушка Надя – моя ровесница – привезла мне морковного супа, но ни крошки хлеба. После появления нового председателя всё хлебное, кроме посевного зерна, со склада пропало.
После полудня земля подсохла. Подъехали трактористы, сеяльщики, а меня отпустили домой поспать.
* * *
Утром я всегда просыпался рано, а тут вспомнил про вчерашний морковный суп, и захотел таким же супом накормить свою семью. Колхозная морковь росла рядом с домом, в котором мы жили. Своего у нас ничего пока не было, мы приехали в июне, когда посевы и посадки были уже закончены.
Я тихонько на рассвете пошёл в морковный огород, который был огорожен жердями и куда легко можно было пролезть. Участок был большим, примерно с полгектара. Только влез в огород, как оттуда выскочил парень примерно моего возраста и комплекции и бросился наутёк в сторону железнодорожного моста. Я рванул за ним, но догнать не успел – он скрылся в посадке. Я пытался высмотреть его там, ходил и искал, но, по правде говоря, не знал, что с ним буду делать, если и поймаю. Возможно, он сидел где-то рядом в кустах и ухмылялся, радуясь, как ловко меня провёл. В те послевоенные годы было много бездомных детей, вероятно, он был одним из них.
Не поймав воришку, я уподобился ему: залез в огород, надёргал моркови и пошёл домой. Дома ещё все спали, кроме мамы. Я отдал ей добычу, и она сварила вкусный суп.
Глава 19. ОБЖИВАЯСЬ В ПЕРВАНОВОЙ
Всю осень мне пришлось проработать на двух «должностях». Коротал ночи, зарывшись в солому – в ней теплей, чем на свежем воздухе. Бывало, охранял комбайн, в бункере которого оставалось не вывезенное за светлое время суток зерно. Как-то на ночное дежурство я взял с собой братика Женьку. Ночь была тёплая, но было очень много комаров. Мы прятались под покрывало, но они и там нас доставали. Женька уснул лишь под утро, а мне спать по штату было не положено.
С началом уборочной страды у нас в тракторной бригаде появился хлеб, а к концу уборки нам на трудодни выдали зерна. Мы его мололи сами ручными мельницами, которые здесь видели впервые. Они были сделаны из круглых деревянных чурок диаметром в полметра и высотой сантиметров двадцать. Нижняя часть мельницы неподвижная, сверху набитая стальными пластинами. По периметру имелись жестяные бортики с небольшим отверстием и желобком. Верхняя подвижная часть тоже состояла из круглой чурки со стальными выступающими пластинами. Сверху, ближе к краю, имелась ручка, за которую вращали руками. В середине было сделано отверстие, через которое засыпали зерно. Если нужна была крупа, зерно мололи один раз. Для муки зерно пропускали дважды. Вот таких трудов стоило тогда добыть человеку свой хлеб! Такие мельницы имелись во многих семьях. Мы брали у соседей «напрокат» и крутили её целыми вечерами.
Осенью мы запаслись картофелем. Работали на уборке всей семьёй. Поле было вспахано, и нужно было только собирать. Из каждых десяти собранных вёдер картофеля одно было наше. За пару-тройку дней мы заработали больше двадцати вёдер. Хранили картофель в заброшенном погребе, вполне исправном и чистом, закрывали соломой, а зимой сверху засыпали снегом.
В октябре закончился сезон полевых работ. Трактора с сельхозорудиями и комбайн переселились в МТС в тракторные «ангары», где их в течение зимы должны отремонтировать. Трактористы и комбайнёры после месячного отпуска тоже переходили в распоряжение МТС. А мы, то есть обслуживающий персонал, перешли в разнорабочие в колхозе.
В декабре мы уже жили на другой квартире, на той же улице, напротив дома Коневых. На старой квартире мы стали лишними. Мать Толи Конева приняла в сожители ссыльного, которому в Европейскую часть СССР была «дорога заказана». Он был молдаванин, поговаривали, что бывший власовец.
Наши новые хозяева носили фамилию Белоусовы. Хозяйка была женщиной высокого роста, малообщительна. Про таких говорят: «себе на уме». Она работала сторожем в Горбуновской школе. Село Горбуново находилось в паре километров от нашей деревни. В этой школе учились все дети из Первановой, в том числе и мои сёстры. Учились они хорошо, проблем с ними в этом плане не было. У хозяйки было два сына. Володя был старше меня на пару лет, а младший моложе меня на два года. Несмотря на это, младший был мальчиком крупным и выглядел моим ровесником.
* * *
В конце декабря 1947 года произошли два события всесоюзного масштаба. Во-первых, была проведена денежная реформа – заменили обесцененные деньги военного времени на новые. Во-вторых, отменили карточную систему на хлеб и другие продукты. Хлеб появился в свободной продаже в магазинах, а цена стала аж в тридцать раз ниже, чем у спекулянтов (на старые деньги)!
Зимой мне пришлось возить барду на колхозную ферму из Талицы на быке. Это было нелёгкое испытание: зима выдалась холодная, бык ходит не быстрее пешехода, а одет я был довольно скромно, если не сказать бедно. Никогда не задумывался, что в мороз можно надеть двое штанов, а у меня и были-то одни, и те с дырами. Быть же в пути приходилось около пяти часов.
Один раз я загрузил бочку бардой, а талон-пропуск с меня не потребовали. Получился у меня на руках неучтённый товар. Тут же решил продать бочку барды в городе. Проехал поближе к окраине, где жители могли держать домашний скот. Стал предлагать свой товар, и ведь удалось его продать за 15 рублей. На эти деньги я купил три булки хлеба, а каждая из них тогда весила два килограмма.
После этого пришлось возвращаться на завод и заполнять бочку бардой, на этот раз по талону. Больше такой халявы у меня не было.
* * *
Мы получили из деревни Квака ужасное известие. Там летом 1947 года вымерла от голода целая семья – мать и трое детей.
Я у них когда-то бывал. Старший мальчик (на два года моложе меня) имел механическую автомашинку, которая после завода ключом бежала сама; и, что примечательно, встретив препятствие, шла обратно. Игрушку эту купил ему отец ещё до войны (с войны он не вернулся). Все деревенские мальчишки ходили к нему домой смотреть на это чудо.
Жили они в переулке, где было всего четыре дома, и располагались они довольно далеко от главной улицы. На левой стороне улицы их дом был единственным, остальные три дома были на противоположной. В крайнем доме жила одинокая старушка, а напротив жили Ворончихины, которые уехали вместе с нами в Перванову. Так что никто и не видел, как они все ушли из жизни.
Следствие определило, что они умерли от голода – были ужасно истощены. После этого случая власти организовали в деревне общественную столовую, которая работала до поздней осени, когда жителям выдали немного зерна на пропитание.
* * *
Зимой, когда работы в деревне Перванова всем не хватало, руководство колхоза позволяло некоторое время поработать на стороне, кто где сможет временно устроиться. Рядом с нашей деревней у железнодорожного переезда жил начальник дистанции пути. У него было десять детей, и жена имела звание «Мать-героиня». Он был хорошо знаком нашему колхозному руководству. Когда ему требовались работники, он шёл в правление колхоза, и ему рекомендовали, к кому можно обратиться. Коренные жители здешних мест не шли на временную работу, поскольку у них было своё хозяйство, где работы всегда хватало. Мы же, бездомные и неимущие, были согласны на любой оплачиваемый труд.
Путейский начальник пришёл к нам прямо домой. Сначала он предложил маме работу по ремонту путей. Она вежливо отказалась, сославшись на слабое здоровье. Тогда он спросил:
– А не пожелаете поработать в Луговском детском доме санитаркой?
– Это можно. Я согласна, тем более что недавно работала медсестрой.
– Хорошо. Можете завтра же пойти и обратиться сразу к директору. Не забудьте только оповестить своё руководство.
Потом он обратил внимание на меня:
– Сколько тебе лет, юноша? – Так меня ещё никто не называл. – Не желаешь поработать на железнодорожных путях?
Ещё не зная, в чём будет заключаться работа, я ответил:
– Желаю.
– Хорошо, тогда завтра же днём после посещения своей конторы иди в бригаду. От нашего переезда идти в сторону полустанка примерно четыре километра. Там увидишь путейские домики. Днём бригада работает и может оказаться ближе. Обратишься к бригадиру и скажешь, что я прислал.
Я так и сделал. Встретил бригаду на работе, сразу определил бригадира и представился ему. Он критически на меня посмотрел, наверное, подумав: «Прислал какого-то шкета – ни силы, ни умения». Вслух же сказал:
– Придёшь завтра к восьми часам на наряд, вон к тем домикам. А сегодня пока отдыхай.
– Понятно. Спасибо, до свидания.
Я побежал домой. Утром первого рабочего дня я пришёл одним из первых. В феврале в это время только начинало светать. Домик, в котором получали наряд, постепенно наполнялся работниками. И вдруг среди них я увидел чету Ворончихиных. Значит, их тоже начальник сагитировал. Детей у них я в деревне так и не видел. Возможно, их взяли в детский дом. Проработав на путях до весны, Ворончихины исчезли из Первановой. Наверное, заработав денег на дорогу, уехали на родину в Кваку.
* * *
Рабочий день – восемь часов, перерыв с 12 до 13. В обеденный час всегда приходили в здание, где выписывали наряды. Меня бригадир определил возчиком шансового инструмента к месту работы. Возил я инструмент на металлической тележке, катящейся по одной нити рельс на двух колёсиках. Сбоку тележки – рычаг, за который двумя руками толкаешь вперёд и держишь равновесие, чтобы тележка не опрокинулась. Подойдя к рабочему месту, я останавливался, рабочие разбирали с тележки инструмент, а я снимал её с рельса и ставил на обочину поближе к кювету. У меня была «своя» совковая лопата, которой я помогал расчищать от снега рабочее место. А в сильные снегопады, бураны, вьюги вся бригада очищала железнодорожные пути от снега в течение целого рабочего дня.
Бригада была большая, много опытных работников. Среди всех выделялся молодой человек по имени Афоня. Был он балагур, весельчак. Забивая костыли путейским молотом, словно играя на гармошке. Жил он в Первановой, и я вспомнил, где и когда с ним встречался. В доме Поклевского на вечеринке, в праздник Покров. В главном зале, который мог вместить сотню гостей, тогда собралась вся деревенская молодёжь – человек двадцать. Моё внимание привлёк юноша с разукрашенной гармошкой на плече. Был он красив собою, на голове «кубанка» набекрень, из-под которой выбивались белые кудри. На гармошке он играл так чудесно, как будто гармонь сама пела. Девчата, я думаю, были от Афони без ума. А он пел под гармошку весёлые частушки, и все смеялись. О празднике хватит, пора нам с Афоней на работу.
Однажды путеобходчик обнаружил на путях лопнувший рельс недалеко от нашей деревни. Как раз шёл грузовой поезд. Он успел его остановить, но локомотив и два вагона уже прошли по аварийному рельсу. Обходчик объяснил машинисту причину остановки и побежал к переезду сообщить о случившемся начальнику дистанции пути. Тот позвонил в путейский домик. Там постоянно работал плотник, а по совместительству отвечал на телефонные звонки и был курьером у бригадира. Мы работали недалеко от путейского домика. Прибежал «курьер» и сообщил о случившемся. Бригадир скомандовал:
– Тележку на рельс, всем инструменты на тележку и бегом к остановившемуся поезду!
До места было около трёх километров. Я как обычно катил тележку. Бригадир меня поторапливал. Вдоль железной дороги через определённое расстояние на специальных подставках имелись запасные рельсы. В одном таком месте, ближе к остановившемуся поезду, мы притормозили, бригада разобрала из моей тележки инструмент и погрузила вместо него рельс длиной двенадцать с половиной метров. После этого все продолжили движение вперёд. Мой груз стал гораздо тяжелее, а темп бега не снижался. А когда подошли вплотную к паровозу, то бригадир дал команду подвезти рельс по соседнему пути, а сам пошёл на место аварийного рельса. Как выяснилось, рельс переломился полностью метра за два от стыка. Бригадир взял железную лопату, наложил на место излома и дал команду машинисту двигаться со скоростью пять километров в час. Так почти весь железнодорожный состав был пропущен через обыкновенную штыковую лопату.
После ухода поезда рельс заменили достаточно быстро. Начальник поблагодарил всех и разрешил Луговским и Первановским рабочим пойти домой (до конца рабочего дня оставалось чуть больше часа). Несколько рабочих жили на железнодорожном разъезде, а бригадир – в доме рядом с путейским домиком, почти в лесу. Они укатили «мою» тележку с инструментом на место.
Ближе к весне нам приходилось прорывать в кюветах снег, чтобы при резком его таянии не подмыло насыпь. Так я проработал на железной дороге два месяца и был отозван в колхоз. За это время заработал немного денег, и мог теперь позволить себе прикупить кое-какой одежонки.








